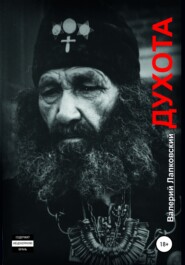 Полная версия
Полная версияДухота
Усмирял восставшего против него родного сына.
Правил судопроизводство. Изготовлял музыкальные орудия: арфы, лиры.
И писал стихи.
Поэтически чуткая, духовно впечатлительная душа Давида словно предчувствовала, что произойдёт с Наследником его славы, Которому в вифлеемской пещере первыми поклонятся пришедшие издалека волхвы.
Для внутреннего взора псалмопевца стали доступны высшие тайны Промысла Божия. Господь открыл ему, что от изнурительной горячки бытия, свиста стрел, стона и скрежета мечей, визга, тоски и скуки человек будет спасён тишиной, которая взойдёт из семени Давида. Царство Божие снидет на землю в потомке сладкого певца Израилева.
В корпусе «проникновенно-интимных… ветхозаветных псалмов», по выражению Краткой литературной энциклопедии (т.6, М., 1971), есть перл, который, как замечает св. Григорий Богослов, явно относится ко Христу.
Давид по многом – прообраз Христа. Он, как и Сын Божий, терпеливо перенёс гонения, страдания, удостоился царского венца и славы главы Израиля.
Псалом 21 создан в тяжкое время, когда Давид был окружён со всех сторон врагами в жгучей пустыне. Огнём сверкали колесницы, и волновался лес копий (Наум., 2, 3). Ноги проваливались в песок, дул обжигающий ветер, пыль забивала глаза, рот иссыхал от жажды. Избранника Божия ждала позорная смерть.
Этот стих написан, точно при Кресте на Голгофе. Как будто Давид стоял вместе с Матерью Христа и св. Иоанном Богословом подле древа, на котором распяли Иисуса, и слышал, зафиксировал фразы Спасителя, не вошедшие в Евангелия.
«Боже, Боже Мой, зачем оставил Меня?» – начинает Давид. В первой части священной песни «при наступлении зари» пророк взывает к Богу, просит вырвать его из когтей озверелых недругов. «Скопище злых» советует своей жертве: «Уповал на Господа – пусть избавит тебя!». Не так ли кричали иудеи Христу, вознесённому на крест? «Псы окружали меня,» – стенает Давид, – «пронзили ноги и руки мои… и об одежде моей метают жребий!». Разве это не картина последних часов земной жизни Иисуса? «Я пролился, как вода,… сила моя иссохла, как черепок… Язык мой прилипнул к гортани моей».
Жажда, томление – характерное состояние человека, оставленного Богом. Голос Отца Небесного праведники слышат, как шум вод многих. Духовная влага утоляет алкание души. Потому богослужебные каноны сравнивают личность Иисуса Благоутробного с образом Благодатного дождя.
Во второй части псалма Давид пылко, сердечно благодарит Господа за то, что Он не пренебрёг скорби страждущего, не скрыл от него Лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему.
Господь избавляет Давида от смерти…
Так в пророчестве псалмопевца прикровенно сияет пасхальная тайна – тайна грядущего во Христе спасения от смерти всех людей!
Аминь.
Христа ради похабство
В начале семидесятых годов мне довелось встретить на Волге странного человека.
Это был грязный лохматый мужчина лет пятидесяти семи. Лицо его было изрезано крупными морщинами, как доска, на которой сапожник острым ножом кроил кожу, в шевелюре и бороде блестела седина. На нём чернел мятый балахон с широкими бахромчатыми рукавами, чем-то похожий на рясу. Грудь перетягивали крест-накрест стальные цепи, наподобие того, как носили пулемётные ленты в гражданскую войну. На этих веригах висело массивное медное распятие. Такой же крест – на спине. С плеча свисала офицерским аксельбантом ещё одна гроздь цепей с увесистыми бляхами. А у самого сердца гнездился значок дореволюционного «Общества любителей трезвости». Голову Георгия венчала шапка, дублирующая скуфью; на ней сияли самодельный крестик, вырезанный из жести, и – гордость малышей того времени – две октябрятские звёздочки с кудряшками юного Ленина.
Жил любитель духовной трезвости неизвестно где. Спал иногда на полу в кафедральном соборе, питался подаянием, собирая куски хлеба в потёртый кожаный портфель, притороченный к поясу, и всё путешествовал, странничал из города в город на подножках железнодорожных вагонов. Видели его не только в Астрахани, где он более постоянно обитал, но и в Волгограде, Куйбышеве, даже в Троице-Сергиевой лавре под Москвой.
О своих паломничествах Георгий изредка отчитывался перед астраханским архиереем. Тот ласково приглашал пилигрима к себе в покои, благословлял, подставляя щёку для поцелуя, слушал, расспрашивал, смеялся, дарил блаженному баночку башкирского мёда.
Георгий всё добивался открыть храм в Енотаевке (пригород Астрахани, о котором любитель свежевыловленной трески Кант писал, сидючи в Кёнигсберге). Агитировал народ, собирал подписи, строчил вкривь и вкось полуграмотные послания в гражданские инстанции, надоедал уполномоченному Совета по делам религий – ревность по дому Божию снедала его.
От милиции ему не было покоя. Он жил свободно, как птица небес, без паспорта и прописки. Его топтали, таскали, угрожали упрятать в тюрьму за бродяжничество, потом надоело с ним возиться, бросили.
Мальчишки на улицах дразнили дурачка, швыряли в него грязью, камнями. Чтобы отцепиться от забияк, Георгий как-то зимой надел поверх чёрного балахона раздобытый где-то белый маскхалат и повязал на шею красный школьный галстук. В таком наряде детвора принимала «очарованного странника» за почётного пионера и не докучала комплиментами в виде камней, а затихала и шепталась, глядя ему вслед. Однако астраханское хулиганьё эта маскировка не сбила с панталыку, и однажды босота столкнула горемыку с моста в реку.
Над ним ядовито потешались не только безбожники. В церкви подавали милостыню по алтыну далеко не все и не все охотно. Зубоскалили над его страстью позировать перед объектива фотоаппарата. Георгий рассылал почтой свои снимки знакомым с благословляющее поднятым троеперстием.
Случалось, юродивые на Руси танцевали с непотребными женщинами… Болтали, будто и наш бомж греется в подвале с какой-то дамой… Ушёл навсегда к Господу, по слухам, в январе 1974 года… Замёрз в деревянной конуре, не имея, где главу преклонить.
Жил Георгий как бы несмысленным, нищим, заброшенным, презираемым… Являлся ли он вырожденцем, очень поздним и не очень ловким выразителем русского юродства – традиционной национально-религиозной черты русского характера? Возможно, не всё в нём укладывается в наше представление о древних образцах юродства. Общественная роль юродства возрастает в кризисные для Православия времена. Религиозная свобода в такие времена может проявляться в форме случайности, неосторожности, дурачества, даже похабства. Нельзя забывать, что дело наследника св. Василия Блаженного теперь значительно сложнее: предтечи Георгия из Астрахани действовали во имя Божие и социальной правды, когда государство не попирало христианство, не прятало наиболее искренних юродивых во Христе в сумасшедший дом, выплачивая им крохоборческую пенсию.
Юродство – не только религиозно-национальное достояние русских. Оно встречается, например, у греков, в Византии. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы чтим Андрея, Христа ради юродивого, который некогда обитал в Константинополе при Влахернском храме. Именно ему, отбросу общества, почти всеми пренебрегаемому, ему, а не императору и патриарху, которые также присутствовали на богослужении, было видение в четвёртом часу на Всенощной – видение, вошедшее в нашу церковную жизнь как торжество Покрова Пресвятой Богородицы. Андрею предстала Богоматерь, молящаяся на воздусе за ны Христу. «Заступница тёплая мира холодного» простирала над всеми людьми свой омофор, как шит от любых невзгод и напастей. Никто, кроме Андрея и его друга Епифания, это не видел. Свет религиозного прозрения доступен паче всего тому, кто более других вменяет все блага мира ни во что, пленяет всё своё имущество в послушание Богу, Церкви, дисциплине духа. Таков юродивый. Таковым должен быть всякий желающий спастись. «Мы, – благовествует ап. Павел, – юроды Христа ради». Да осенит наше юродство Покров честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим, без нетления Бога Слово рождшей, Сущей Богородицы, Которую мы непрестанно величаем!
Аминь.
Сломанное колесо
Почему мы веруем во Христа, а не в Будду, Магомета, социальный прогресс или иное великое имя и связанное с ним движение истории вперёд или назад? Может, живи в Китае или на Цейлоне, мы были бы не христианами, а буддистами?
Буддизм возник раньше христианства. Эта всемирная религия насчитывает сегодня миллионы последователей, часть их живёт в нашей стране, имеет монастыри.
Повторяет ли христианство прописные истины дальневосточной мудрости? Подражал ли Христос Будде? До сих пор не перевелись любители утверждать, будто Христос первую часть Своей земной жизни провёл в Индии. Выше ли жизнь и учение Будды, чем проповедь и жизнь Христа?
В научной и богословской литературе нет сомнений, что Гаутама Будда – реальное историческое лицо. Он родился в Индии за шестьсот лет до Рождества Христова, в царском дворце. С молодости задумался над извечным вопросом о смысле и цели бытия. Болезни, старость, смерть будут властвовать, как бы мир ни перестраивался, ни перекраивался на самых благих политических, нравственных или технико-экономических принципах. Этот вывод глубоко ранил сердце царского сына. «Познав неустойчивость всего в мире, надо разорвать всякую связь с миром, и искать убежище в одном себе» – выдохнул будущий Будда свою первую заповедь. Тайком покинул дворец, оставив жену с ребёнком, отрёкся от предстояшего трона, сбрил бороду, волосы на голове, облачился в жёлтую одежду монаха и стал с деревянной чашкой в молча протянутой руке жить подаянием.
У него появились ученики. Чему учил их новый «мессия»?
Подобно всем религиозным светочам: спасению от всякой скорби, от всякого страдания.
Как этого достичь?
Избавлением от перерождений.
Согласно понятиям индусов, каждый человек уже тысячи раз существовал раньше. Сам Будда до своего воплощения в качестве создателя буддизма был: обезьяной, купцом, женщиной, князем, орлом, крысой, нищим. Любому человеку грозит опасность возродиться в новых формах бытия. Так, если убил муху, настанет час, когда тебя, как муху, прихлопнет судьба. Поэтому Будда искал такого условия избавления, которое не допускало бы возвращения к жизни и её тяготам ни под каким видом. Он не желал быть ни волопасом, ни миродержцем, ни ангелом. Его подташнивало от речей о вечности. Душа для него – аркан, цепь. Пока есть душа, нет освобождения. Душа – чугунное ядро на ноге раба. Загробная жизнь в раю или аду – такая же гнусь, как и земная страда. Созерцание Бога, близость к Абсолюту – суета сует, причём в той же степени, что и шашни с дьяволом.
Мир – только греза, дымка, обманчивое марево нашего сознания. Повернуть колесо судьбы, а лучше – сломать его, избегнуть мучительных рождений в потоке иллюзий, высосать себя из посюстороннего и потустороннего бытия (на манер Мюнгхаузена, вытаскивающего себя за собственные волосы из болота) – вот куда нацелен аскетизм буддистов.
Память смертная, отрешённость от мира и самого себя, хладнокровные любовь, милосердие, милостыня, девиз «Не убий», обеты целомудрия, нестяжания, притчеобразный характер пропаганды, сдержанное отношение к возможности творить чудеса и с их помощью вербовать сторонников – внешне сближают буддизм с христианством.
Но родился ли Гаутама бессеменно, как Христос, был ли он «учителем богов и людей», летели ли гуси над его благословенной головой, когда он купался (гуси, а не Дух Святый в виде голубя сходящий на Христа в водах Иордана), встречался ли он, как Христос с самаритянкой, с какой-то женщиной у колодца (ей стукнуло сто двадцать лет, и из её засохшей груди из любви к Будде как к сыну брызнула струя молока: что тут общего со струёй вечной жизни из уст Иисуса?), мы, христиане, не можем не видеть изъяна в том человеке, который, по мнению своих обожателей, обладает достоинством больше Бога. Чистота жизни, благородные афоризмы Будды – грош им цена, ибо они безразличны к Богу. «И хорошее становится нехорошим, если оно сделано для чего-нибудь иного, а не ради Бога», – утверждал св. Максим Исповедник. В буддизме духовная независимость, смелость мысли наперекор вековым традициям и авторитетам создали учение о спасении одними своими силёнками, одним процессом личного прозрения внутренней истины, минуя законы нравственности, религии и красоты (В. Кожевников, «Буддизм в сравнении с христианством», Петроград, 1916). Буддизму не нужен Спаситель. Каждый спасается сам. Страдание – в желании жить. Спасение в том, чтобы никогда не воскреснуть, погрузиться в нирвану – состояние, где нет ни бытия, ни небытия, и в то же время что-то всё-таки есть.
Это неприемлемо для христианства. Для нас страдание таится не в желании жить, а в отпадении от Бога. В буддизме застряли невероятно – мудрая усталость, безветрие, штиль духа; воля к жизни повисла тряпкой на мачте бытия. Буддизм – религия скрещённых ног, , христианство – религия крещёных душ.
В буддизме нет ни личности, ни бессмертия, ни Церкви как Тела Божия, ни самого Бога, хотя некоторые поклонники Будды впоследствии обожествили его. Будда не признаёт наличие греха в мире, но тем самым, по нашим представлениям, впадает в грех.
Не проскользнём, наконец, и мимо того, что Господь и Бог наш Иисус Христос вкусил смерть на кресте, а Будда, если это правда, съев кусок несвежей свинины, умер от дизентерии.
Аминь.
Георгий Победоносец
Кто из православных бывал в коммунистической Москве и видел там, или встречал в книгах, нынешний герб русской столицы, тот с удивлением узнавал в эмблеме крупного индустриального города старинную картину, знакомую по древним иконам.
Прежде всего, в глаза бросается чудовище, змей-Горыныч, живущий не то в кровавом урочище, не то в глубоком озере. И к тому-то месту дорожки не торены, и путь всякому доброму человеку заказан. У дракона, как и полагается в поэтических воззрениях на нечистую силу, когтистые крылья, «семь мерзостей в сердце», в промежутках чешуи на шкуре дремлют мелкие твари, из пасти пламя на версту, а из ноздрей сыпет кубометр искр. Перед драконом, – добавляет церковное предание, – пятится в страхе и ужасе красна девица, царская дочь, девушка на выданье, такая пригожая, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Люди, чтобы спасти себя, привыкли, очумев от горя, отвозить змею на съеденье своих детей. Настала очередь царского чада. И, кажется, – конец лебёдушке!
Откуда ни возьмись, скачет воин на белом коне.
И по его казацкой выправке чувствуется: не на перине нежился, в седле ночевал. Ему двадцать лет, но он уже командир сотни или полка. Удалой молодец – умом мужествен, телом крепок, лицом леп – в престветлых доспехах привстал на стременах, изловчился и вогнал в гада лучевидное копьё!
Красивая сцена.
Что, впрочем, в ней сногсшибательного?
Молодую женщину выручает из беды человек большого сердца, отваги и благородства. Сколько раз мы встречали это событие в произведениях искусства и сколь тщетно искали его в трамваях, магазинах, на улицах?
Как попала сия история в Церковь?
Св. великомученик и победоносец Георгий, эпизод из чудес которого – освобождение девушки, предназначенной на прокорм чудовищу – издавна почитается на Руси. В двадцатом веке его изображение стало знаменем «Союза русского народа». Царём учреждена боевая награда русских солдат и офицеров – Георгиевский крест.
Созерцая герб или икону с фигурой св. Георгия, поражающего змия, мы ощущаем религиозно-эстетическое переживание на стыке двух чувств: трагического и возвышенного, действие на иконе и гербе преподнесено так, будто мы не знаем, чем оно завершится. Схватка кипит, словно сейчас. Гибель девушки (остающейся на гербе «за кадром»), кажется, предрешена. Мы ещё не ведаем, чем закончится борьба храброго рыцаря, «тернием духа увенчанного», с пресмыкающимся по крещёной земле ползучим монстром.
В этой возвышенной тяжбе, которая разворачивается на наших глазах, причём сегодня, в данное мгновенье, приоткрывается некий таинственный смысл. В религии – связи человека с Богом – нет ничего прошлого. То, что когда-то было, и есть настоящее. Христос ежедневно закалается. Жрец ежедневно приносит Себя в жертву. Это свершается на каждой литургии. Святой «Господень часовой» Георгий постоянно бросается нам на помощь.
Что же, это обычный для богатыря подвиг? Ведь и герой древнегреческих мифов Персей убил чудовище, освободив прикованную к скале Андромеду. Скала, по мнению мистиков – это тело. Прикованная к ней дева – душа, которую надо оторвать от телесности. Так интерпретировали свой миф язычники. Мы, христиане, видим в драме, зашифрованной на иконе и гербе, нечто большее. Под первым кругом впечатлений (конь, дева, рыцарь, змей) лежит слой более сложных явлений, чем простые зрительные восприятия. Икона и герб с изображением святого воина на белом коне – окно в Апокалипсис, книгу евангелиста Иоанна Богослова, прожигающую наши души пророчеством Страшного Суда. Несомненно, сквозь икону и герб мерцает история грехопадения прародителей, вызывая в нашей памяти библейского змия и Еву, соблазнённую ядом богопротивной лести. Дракон – это сатана. Дева, Невеста, которую ему не терпится сожрать – не кто иная, как Церковь. В облике воина, «прозябшего от корня Господня», угадывается Сам Христос.
Поражение дракона, освобождение Церкви Невесты, Страшный Суд – вот что таит в себе старинный герб белокаменной Москвы, по внутреннему небосводу которого «пробегает, содрогаясь, зарница» христианского чуда.
Аминь.
Отче наш
Если бы завтра потоп, война или враги христианства уничтожили все книги Священного Писания, все копии Евангелия и упразднили Церковь, смог ли человек спастись?
Смог бы!
Если бы из Нового Завета уцелел на бумаге или в чьей-то памяти крохотный отрывок «Отче наш».
Эта молитва окормляет нас с колыбели. Св. Максим Исповедник находил в ней «богословие, сыноположение по благодати, равночестие Ангелам, вечной жизни, Причастие, восстановление естества в свойственный ему бесстрастный чин, отложение закона греховного и уничтожение тиранства лукавого…»
Каждая молитва возносит из-под сердца обращение к Богу, прошение и славословие. Христос эту форму не меняет. Он учит начинать диалог с Богом с призывания Имени Господа. Как зовут Творца неба и земли? Иегова? Брама? Кецалькоатль? Зевс? Юпитер? Осирис? Ваал? Люди разных цивилизаций и культур по-разному именовали высшую Силу, почитаемую ими. Христос называет Бога просто и ясно: Отец.
«Имя Отца открывается как внутреннее имя Бога» (Вл. Лосский), и ставит тварь в наиболее близкое сношение к Зиждителю Вселенной. Бог – не слепая чудовищная мощь природы, отлучающая от Себя своё же забитое страхом создание и отчуждающая нас друг от друга. Отец – универсальное понятие; единым махом оно восстанавливает духовное родство всех без исключения людей, независимо от пола, возраста, нации, религиозных и государственных границ.
За обращением к Богу следуют прошения:
«Да святится Имя Твое! Да приидет Царствие Твое! Да будет воля Твоя!»
Бог Сам по Себе всегда свят. Христианин просит, чтобы Имя Господне святилось в делах человека, созидающего внутри себя Царство Небесное, чтобы душу его наполняла воля Божия.
Вторая часть прошений молитвы «Отче наш» поначалу кажется менее благородной. Адам напоминает Богу о своём чреве, долгах, лукавом. Ходатайствует, чтобы у него не таял хлеб, чтобы Господь отпустил ему грехи, как и он прощает другим людям, чтобы Отец Небесный не попустил ему стать трофеем дьявола.
Не об одном хлебе, ржаном или пшеничном, идёт речь, а прежде всего об «истинном Хлебе, сходящем с небес». Христос – Хлеб наш насущный. Верующий молит Бога Отца дать ему ненасытимую возможность причащаться Этого Хлеба каждый день, не лишать его права очищать душу и тело «прощением долгов» через Таинство исповеди.
Говорят, «стиль – это человек». Стилем называют манеру личности выражать себя в поведении, умении писать, беседовать. Христос – Богочеловек. Стиль Его молитвы богочеловечен. В каждой строке «Отче наш» содержится двоякий смысл, божественный и человеческий, направленный на мужественный отпор «похоти плоти, похоти очей и гордости житейской». Из молитвы Господней вытекает догматическое учение Церкви о Пресвятой Троице, таинствах, грехе, дьяволе. В ней раскрыты такие качества Бога как святость, воля, царственность.
С философской точки зрения, молитва «Отче наш» безукоризненна. Бог запределен, недоступен человеку в Своей сущности. Все наши понятия играют роль инструментов познания только здесь, в нашем, земном мире, и дальше не проникают. Поэтому Христос и говорит: Отец наш, хлеб наш, искушения наши.
В Евангелии от Луки Христос как бы не позаботился об окончании Своего молитвенного образца, не завершив его обычным славословием. Христос превосходно знал псалмы Давида, увенчанные хвалой в честь Творца. Почему же в тексте «Отче наш» Сын Божий только призывает и просит, но не славословит?
В «Отче наш» Христос знакомит нас лишь с двумя Лицами Пресвятой Троицы: с Богом Отцом, следовательно, и с Богом Сыном, т.к. назвать Отцом можно только Того, Кто имеет Сына.
Человек – творчески свободный соработник Бога. Истина Пресвятой Троицы в молитве «Отче наш» раскрывается церковным сознанием. Добавив к Господней молитве слова «яко Твое есть Царство, сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа», Церковь стала соавтором Христа. Вне Церкви молитва «Отче наш» теряет свой троический смысл, как бы подчёркивая, что вне Церкви нет ни подлинного богомыслия, ни спасения.
Может, кого-то смутит, что Вседержитель в «Отче наш» ничего не толкует о воздвижении из мёртвых. Ведь соль христианства – Пасха. Пасха – это мощь электрического разряда, посланная свыше в остановившееся на Голгофе сердце: Сын Человеческий воскрес! Но что такое Царство Божие, о пришествии которого Христос наставляет молиться, как не Второе Пришествие Самого Христа, когда земля и вода, все стихии отдадут мертвецов на Страшный Суд? И тогда, как поёт пасхальный стих, погибнут «грешницы от лица Божия, а праведницы возвеселятся».
Христос словно приглушает эту радостную ноту, не хочет, чтобы она маячила подачкой за то, что вы не зарезали собственную мать или сунули рубль оборванцу.
Кабы мир ничего не знал о чудесах Христа и Его Воскресении, а был бы только научен Им правильно молиться, разве не должны бы мы стремиться к Богу, невзирая на то, что умрём?
«И пусть над нашим смертным ложем
Взовьётся с криком вороньё,
Пускай не мы, пускай другие, Боже, Боже,
Да узрят Царстие Твоё!»
(А. Блок)
Аминь.
Закхей
Иерихон гудел, как улей растревоженных весною пчёл. Через город проходила Слава Божия – шествовал потомок царя Давида Иисус из Назарета. Восторжённая толпа катилась за Ним от городских ворот до центра. В гаме сутолоки кому-то отдавили ногу, у кого-то вытянули деньги.
Закхей, начальник мытарей, был маленького роста. Из-за ограды потных спин, плотным кольцом осаждающих Христа, ему ничего не было видно. Обуреваемый надеждой во что бы то ни стало хоть вполглаза глянуть на Христа, Закхей сообразил проскочить переулками вперёд движущейся кучи людей.
Шествие показалось из-за угла. Где Христос? Ничего не разберёшь. Может, брызнуть в толпу золотом? Из-за монет вспыхнет свалка… Или прикинуться дохлой лисицей поперёк дороги? Так ведь затопчут же и не заметят… Закхей беспомощно оглянулся. У обочины росла крупная смоковница… Сборщик налогов неловко прыгнул на дерево и стал неумело карабкаться наверх.
Толпа приблизилась. Мальчик-с-пальчик пятидесяти лет, сидевший на ветках смоковницы, почувствовал, что снизу на него кто-то пристально смотрит. Закхея бросило в жар. Где это видано, чтобы мытарь в его возрасте лазал по деревьям? У него и без того, как у всякого сборщика налогов, дурная репутация…
– Закхей, – негромко позвал снизу незнакомый загорелый бородач с немного грустными усталыми глазами… Закхей чуть не чебурахнулся на землю. Да это же Тот, Кого он хотел видеть… И имя моё знает! Скажите-ка!
– Закхей, – сказал Христос, – сойди на землю. Сегодня Мне надобно быть в твоём доме.
В жилье богатого чиновника переполох. Вся родня и челядь высыпали на порог, встречая Высокого Гостя. Хозяин взволнованно вертится вокруг Христа, одновременно подгоняя слуг, чтобы скорее подавали угощение на стол. Быстро приносят воду для омовения от пыли, масло для волос, и вот уже домовладыка и Христос, пошевеливая пальцами вымытых ног, приступают в прохладной горнице к хорошо приготовленной трапезе. Хозяин подвигает Гостю одно, другое блюдо, делает знак жене: «Где фрукты?»
Закхей то взлетает в раздувающейся одежде выше иерусалимского храма, то чувствует себя праотцом Авраамом, принимающим Бога у дуба в Мамвре.
– Господи, – высекает душа Закхея, – за то, что зашёл ко мне, половину имения раздам нищим, а если кого обидел, воздам вчетверо.



