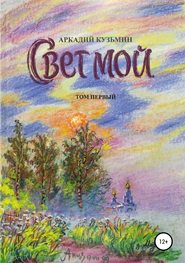 Полная версия
Полная версияСвет мой. Том 1
Оттого мрачнел и видно нервничал заносчивый по молодости Курт, но еще старавшийся по-прежнему впечатлять собой – позерствовать. Оболваненный служака, он был подозрительно насторожен ко всему, что делалось вокруг него; он не заводился с русскими цивильными жителями и старался избегать их, обретших веру, повеселевших, но всякий раз, даже проходя молчком по кухне, где всегда был народ, невольно чиркался об него – и морщился поэтому; нередко заставая здесь Вальтера, ловил наблюдавшие за ним взгляды, какие-то слова за своей спиной – и сопел, раздражался..
С озлоблением на что-то или на кого-то он раздражался, по– видимому, главным образом оттого, что авантюра, в которой он невольно, но с радостью, участвовал и которую столь ревностно защищал, пока не задалась, а что она доподлинно была именно авантюрой, он чувствовал, как и другие немецкие солдаты, сильней и сильней – с каждым днем необоримого советского противостояния и противодействия ей. А это грозило нежеланной, непредвиденной катастрофой. Немецким же воякам сверху внушили мысль о молниеносной, прогулочной войне в России, а того не получалось в ходе боевых операций; они мечтали о скорой победе, а она, победа, все никак не приходила к ним; войска устали, а война затягивалась день ото дня, и не просто затягивалась, а принимала скверный для них оборот. И они, наверное, уже терзались предчувствием рокового ее исхода. Были они сами больны – и больные мысли были у них: все равно все разрушить, завоевать, победить и подчинить себе всех.
Кашины не конфликтовали с Куртом. Однако молчаливый конфликт у них с ним появлялся. Курт их ненавидел смертно порой, и они невзлюбили его взаимно, или совсем невзирая на это. Но они вправе невзлюбить его за то, что принесла к нам его армия с собой, за то, что он был оккупантом в их доме, что гордился и бахвалился этим а был смешон со стороны, что мог токе огреть прикладом и убить в упор пленного красноармейца и мирного жителя и что хотел почему-то гибели Москвы. А ведь у него никакого такого права ненавидеть русских не было, отнюдь. И благородного негодования на них за то, что они жили независимо от его желаний и настроения у него и быть не должно.
Должно быть, холодно-негостеприимной, пугающей представлялась Курту русская страна, ежели он во сне среди ночи вскрикивал, случалось (и Кашиным это было слышно):
– Люсь, капут? Капут!
Вальтер лишь великодушно посмеивался над своим ограниченным собратом, доверяясь, очевидно, выплескивавшейся на людях собственной человечности, которую ему незачем было держать взаперти. От этого-то не убудет ничего, – словно говорил его здравый, осмысленный вид. Его, казалось, не одолевали какие-нибудь сомнения, ничто в свете не смущало. Между тем, как он нес обычную войсковую службу – тоже дежурил, ходил в караул и ездил куда-то, – и имел не последний чин, судя по тому, насколько его даже побаивались солдаты.
Антону только непонятно было, почему же он носил форму без погон (хоть и был с пистолетом), но Антон не спрашивал его об этом – не суть важно.
Известно, что отныне сократилось у населения число различных домашних, или по хозяйству, дел, поскольку немцы разом порешили живность всю, а у Кашиных увели выделенную им колхозную лошадь; так что ребята делали лишь самое необходимое для житья: пилили дрова и натаскивали их в избу, носили с колодца воду, расчищали снег подле избы, да вручную намалывали рожь на сделанной из чурбушков мельнице-вертушке и кое-что еще. А дальше никуда не высунешься. Тем более, что солдат и везде прибавилось снова. Потому-то, Антон, имея свободное время, и поигрывал в шашки с общительным Вальтером, привлекавшем разумностью его к себе, либо просто так, не за шашечной игрой, полемизировал с ним задорно. Даже хотя бы в ответ на его ни к чему не обязывавшее приглашение в гости в Берлин – его родной город, когда, естественно, они, немцы, победят в воине.
Засев за стол перед Антоном, пареньком, Вальтер опять раскладывал свои фото, в том числе положил и фото берлинского дома, в котором жила его семья. Правая его рука заживала, пальцы слушались.
– А может, я приеду тогда, когда мы победим? – сказал Антон, опасливо поглядывая на Вальтера.
Их словесная игра словно растягивалась, как тянучая резинка.
– Разрешается. Немец не был злоблив, мстителен. – Подождем тогда.
– Только адрес свой не забудь мне оставить.
– Можно. Да. Unter den Linden strasse. Der Hause…
– Запомню: Унтер ден Линден улица. – Номер дома не расслышал. Переспрашивать не стал.
Видя опять на карточках его умноглазых детей в платьице и рубашке в горошек. Антон на тетрадном листке в клеточку попробовал карандашным огрызком нарисовать (негоже хвастался умением) овал чьего-то детского лица. Однако Вальтер живо отобрал у него листок и карандаш и гораздо ловчее набросал карандашной линией профиль своей жены (он сказал, и Антон догадался сам) в шляпке с кокетливо изогнутыми полями и цветком. Это хоть на визитку годилось!
И тогда Антона заело и озлило: да если безразборчивые пришельцы эти, такие хорошие, и дома у них все хороши, то зачем не они пришли к нам погубителями? Серьезно спросил собеседника:
– Вальтер, а на что вам, немцам, это господство мировое?
Тот неподдельно удивился:
– Чтобы жить хорошо.
– Кому?
– Всем нам. Мне, тебе, другим.
– А почему вы решали так?
– Говорю: мы, немцы, лутче всех это знаем а порядка лутче делаем. Мы – лутчая в мире нация.
– Понятно: не свое – чужое ведь; можно бомбить, убивать.
Вальтер непонимающе смотрел на Антона. Внушал ему, что русские – сильные люди, но забиты: у них мало свободы и культуры, а правительство плохое. Старые песни!
– Да, конечно, где уж нам! – проговорил Антон, расставляя шашки на фанерной дощечке. – Наш солдат не жгет, как немецкий, на костре книги вместе с букварями… Некультурный, стало быть.
Так потолковывали, значит… Начистоту.
А в кухне само собой шла жизнь, сновала туда-сюда солдатня.
Пока Антон с Вальтером пикировались, в избу втихую забрел (Антон и не слышал как) какой-то приблудный немецкий солдат. Он моментально облюбовал Танюшкины качели, висевшие сбоку печки; пощупал те заинтересованно и нож складной достал из кармана, чтобы срезать их (это Антон и увидал), – ему, должно быть, веревка зачем– то понадобилась. Да Анна уже подскочила к нему проворно – срезать не давала, умоляла:
– Как же… девочка ведь маленькая у меня. Вот она… Не смей!..
Для малой Танечки вся утеха была в качелях этих, больше ничего, никаких-никаких игрушек у неё не было. Откуда ж взять?…
Но гитлеровец, угрожающе просипев, отшвырнул Анну прочь.
Высунувшись в простенке, Курт с задорным ехидством наблюдал за всем, а Вальтер, сидя спиной к двери, ничего не видел, и Антон тронул последнего за локоть, обратил его внимание:
– Вот она, немецкая культура! И порядок… Видишь?..
Вальтер, резко обернувшись, рыкнул на солдата. Но тому, как глухому, замороженному, было все нипочем. И, уже вскипев, взлетел Вальтер со стула; и так стремительно двинул он ослушника плечом и здоровой левой рукой, что тот манекеном вылетел с проклятьями за дверь, растворив ее собственным грузным телом.
Была война, и, оказывалось, все-то позволялось в ней, даже и подобные конфликтные разрешения между самими немецкими солдатами.
XXI
Назавтра, вследствие все-таки приязненно-активных контактов, Вальтер взял Антона с собой, посадив в крытый брезентом кузов грузовичка, – поехали во Ржев за бензином; в кузове, заставленном штабелями пустых с бензинным запахом канистр, бренчавших и сдвигавшихся на сидевшего Антона при проезде рытвин. Он, сидя у борта, ногами и руками пихал, отодвигал жестянки от себя и, главное, с интересом поглядывал в открытую створку – на мелькавшую дорогу, онемевший город. Подъехали они к бывшему стадиону «Локомотив», вылезли из автомашины. Все заснеженное футбольное поле было завалено бочками (в обручах) с бензином. «Вот бы бомбочку сюда – всего одну-то бомбочку метнуть… – с большим искусом подумал Антон. – Был бы славный фейерверк… Что ж зевает наша авиация?»
Да, горожан нигде не виделось. А нацисты, что зеленые мухи у протухшего куска, почти рысцой (пробирал морозец), шкробая закаменелыми сапогами по расчищенным дорожкам, сновали в боковое краснокирпичное здание, где, наверное, сидело их снабженческое управление, и оттуда. Они только успевали в сумасшествии взглянуть на Антона, мальчишку, шедшего с Вальтером и входившего тоже в это здание – словно мрачно вопрошали взглядом:
«Это что еще за визитер?!» Не будь рядом Вальтера, они, верно, в миг сожрали бы его свирепо; этому Антон ужаснулся вновь: нет, они ведь еще хуже, чем мы можем о них думать, потому как просто не привыкли думать о людях очень плохо.
В сугробах мертво торчали набекренившись полузанесенные закрытые немецкие повозки, грузовики, прицепы, а около них, засунув рукава в рукава шинели и так в обнимку прижимая в телу карабин, нянчаясь с ним, топтался закутанный с головой немец-часовой, когда Антон и Валера вышли из избы к колодцу – за водой. Усмехнулись они на вояку незадачливого, страдавшего ни за что. Но лишь коченевший часовой подлелся к колодцу, благо не признали в нем Курта – поначалу обознались, а Антон уж рот раскрыл, чтобы поквитаться с ним. Видимо несмотря на то, что разделяло их, он все же, как человек, а не животное какое, тоже искал обыкновенного человеческого общения с русскими, волей-неволей желал их общества, с чем, собственно и приблизился к ним; но он выглядел так уморительно на холоде и такой посинело-кислый, невоинственный вид был у него, что все сказалось само собой и Антон передразнил его:
– Отчего ж ты скрючился, Ганс? Что, не весело тебе?
– Was? Was? – дрожал немец, видно, чувствую по тону смысл чего-то скверно сказанного для него.
– Трусливые чуют, что бегут?
– Was?!
Да, он понял насмешку. Он остановился. Он молча, быстро и пристально взглянул, криво ухмыльнувшись в лицо Антону. Только что тот вылил из бадьи воду в ведро и опустил ее с веревкой обратно в сугроб колодца (а брат закрутил опять лебедку). Тонкие губы его нервно дернулись и он, злобно высказывая что-то, подступил к Антону, будто пленнику. Многое, а главное, страшное сказал ему этот поблестевший решимостью взгляд немца. Но Антон еще не испугался, нет; говорил ему, что он не тот, кем хочет казаться. У, какой неповоротливый, застылый! Разве же поймаешь партизана, если он появится? Ведь не сможешь. Сам скапутился весь.
Немец озлобленно лез к Антону с проклятием, угрозой смерти. Однако Антон еще язвил, отодвигаясь от него за Валеру и вокруг колодца:
– Да нет же! Нет! Скажет же! Ну отвяжись ты от меня!
Валера, нахмуренный, сердитый, зыркая глазами, быстрей-быстрей крутил лебедку. И, вытянув из колодца и поставив на колоду бадью с плескавшимися струйками под ноги, в снег, налил из нее и второе ведро водой и сказал Антону отрывисто:
– На, бери! И ступай домой! Ступай! – Как будто это решало все само собой. Только это было нужно сейчас, больше ничего. Валерию было пятнадцать лет, и он не мог защитить брата: это немцы могли расценить как нападение на часового.
Но уж более ничто не зависело от Антона: его столкновение с солдатом приняло совершенно дурной оборот. Солдат, вопя и захлебываясь в злобе, и выпростав руки, схватился за свой карабин (как хватался в октябре другой фашист, ставивший к стенке за глотку тетю Полю): Антон же не в силах был остановиться в чем-то таком естественном, как вел себя (хоть и неразумно), перед ним, презренным петухом двадцатипятилетним, чтобы не унизиться собой. Опьянение какое-то и еще что-то безумное владели Антоном тут.
«А ведь вот так убивают» – пронеслось в его голове. И это не могло быть остановлено. Брат вот-вот уходил и вокруг не было ни души.
Передвигаясь лицом, Антон отодвигался от солдата вокруг колодезного сруба, а сам произносил все новые и новые убийственные слова.
Солдат, видать, совсем обезумел. Так второй круг за колодцем сделали: сруб мешал немцу употребить карабин. И вдруг Антон бросил ему свистящим и хриплым голосом:
– Ну, стреляй, стреляй, гад, если тебе неймется. – Да еще язык ему показал: дескать, накось, выкуси.
И готовый ко всему, что могло быть, взял ведро с водой и расплескивая ее, пошел прочь без оглядки даже.
Солдат путался с карабином, снятым с плеча, он все никак не мог просунуть палец в душку, чтобы дернуть за курок.
Дальше было, как во сне. Много уже видел Антон то, как немцы убивали, как жертвы из спокойно, без суетливости принимали смерть, когда нужно было принять ее. Только пронеслось у него в голове: «Неужели я спасую? Сейчас закричу, заплачу? А как стыдно кричать, плакать. Перед кем? Может, все напрасно: это только чудиться мне? Нет, только бы не оглянуться, не поддаться слабости минутной. А что я побегу? Разве побегу? Да пошел он, знаешь..»
И в это время, словно кто балуясь, выругался: «Wertluckh!» и вопросил командирски:
– Was ist das?
Это подоспевший Вальтер вклинился между солдатом и Антоном, строго вопросил:
– Was ist das?
– Пусть псих скажет сам, что это такое, – ответил Антон. Взял ведро, плеская воду, и шагнул с ним к крыльцу.
А на большаке скрипели по снегу немецкие повозки кованные.
Предрождественские – после убытия Вальтера и его сослуживцев – смятение и мрачноватая суета среди них еще заметней усилились. Был даже момент, когда иные немцы, наверное, в панике решая, что они уже окружены или что их вот-вот окружали, горячечно выпрашивали у Анны: дескать, матка, ты не скажешь русским солдатам, что я был плохой немец? Выходило: каждый из них своей жизнью дорожил и в трудные минутки как-то смирнел и обуздывал свой буйный нрав, подумывая о собственной судьбе. Не то они полураздетые улепетывали из избы, потом, опомнившись, опять возвращались обратно в тепло. Это-то было вовсе не зря, не зря, небеспричинно: где-то близко пушки, о том напоминая, грохотали, и их грохотанье уже сюда доходило, оживляло воображение у всех.
По белоснежной сельской окраине нереально зелеными гусаками потопталось туда-сюда офицерье: оно вело рекогносцировку местности. Затем, в избу к Кашиным немцы понатащили тьму брикетов тола. Здесь, за околицей с восточной стороны – они разрывали сугробы и взрывали толом промерзлую землю: долбили ее под траншею и доты. Значит, готовились обороняться.
– Ну, was kamrad, скоро ли nach Hause fahren? – с подвохом спросил Антон у вполне еще приличного внешне ефрейтора-сапера, державшегося с какою-то отличительной уверенностью то ли в себе, то ли в своем мастерстве. Спросил, чтобы усыпить бдительность.
– O, nein! – отрицательно печально мотал светлой головой в пилотке, поглощенно, почти мельком, занимаясь пиротехникой вдвоем с темноглазым солдатом. Они вставляли блестящие запалы в привлекательно гладкие, плотные, схожие с мылом брусочки желтоватого цвета и те выносили готовыми для взрывов.
Им, ловким заряжателям фугасов, представлялось двояким, можно сказать, удобством: они ночевали рядом (и с целью присмотра за своим взрывчатым хозяйством) и работали здесь же, в теплой избе, стоявшей предпоследней на этом краю деревни.
Антона разбирало любопытство. Нет, не одно ребячье любопытсво руководило им, когда он решил хорошо подсмотреть всю манипуляцию с подготовкой солдатами запалов. Он, выбрав момент, по-тихому вошел в горницу, где немцы очень аккуратно и собранно, неспешливо, как с часами, стоя, колдовали с брусочками тола и автоматически вставляли в их серединки запалы с тонкими проводками. Он даже потрогал руками холодные тяжелые брусочки тела, ровным аккуратным валом возвышавшихся вдоль бревенчатой стены избной; он глянул с удивлением и на массу блестевших стерженьков-запалов, лежавших в ящике – это тоже простенькие штучки, тоже наготовленные впрок для войны многими немецкими рабочими. Наготовленные лишь по зависимости от оплаты этого труда.
Да, тут Антон не совладал как-то с дыханием своим; оно сбилось с ритма, сперлось – и он прокашлянул слегка. То и выдало его, его опасное присутствие. Преждевременно. Ефрейтор быстро развернулся и, увидав его подле себя, на какое-то мгновенье аж лишился дара речи; он отложил на ящик тол и хлопнул ладонью по носу мальчишке – за то, что тот сунулся сюда, куда ему не следует соваться. И еще вознегодовал по-благородному – вышагнул за ним на кухню, руки вскидывал и тыкал ими в стенки, в потолок уже перед Анной, ничего не понимавшей:
– Nein! Alles fuk! Fuk! Fuk! Vojez! – актерски нес дальше окелесицу в таком же роже. Туман напускал. Уверенный в своей профессиональной правоте так предупредить об опасности случиться взрыву. Какой мастер заботливый! Как же! Было-то известно, что тряслись они, гитлеровцы, только за себя. За кого ж еще? Лицемерил они насквозь.
Отмахнулся Антон от него, от его праведных слов. Удар в нос был не столько чувствительным, сколько, полагал, унизительный в чем-то. Полученный в родном-то дома. От иноземца какого-то.
– Да, фук! Фук! – отгрызнулся Антон. Шут с тобой. Так и нечего держать дерьмо, которое взрывается – тонную целую в жилом доме, unsere house, где живем мы, дети, все. Понял? Du fehrstehen? Малость соображаю кое-что..
И тот заморгал своими светлыми глазами. Видно, что-то до него дошло. Хотя бы, отчасти.
Итак, время разом сдвинулось, волчком завертелось. Это алчущее крови и все новых легких побед во имя этого воинство, оглушенные вдруг неприятельским – от русских – тычком в грудь, зашевелилось, заерзало. Оно ни за что не собиралось уступать в бою, конечно же, слабому, не воинственному противнику – советской армии, что считалось аксиомой; оно, опьяненное славными первоначальными победами, и не собиралось дальше пятиться с позором от Москвы. С этой целью поспешно возводились восточней Ромашино оборонительные сооружения, для чего крушились и разбирались (из-за бревен) сараи, овины и дворы, тем более, что живности никакой в них уже не осталось. В нежилых постройках выпиливались окошечки – замаскированные амбразуры. Даже поливались водой утрамбованный для его обледенения и придания ему, значит, наибольшей прочности и меньшей пулепробиваемости.
И так уже застали надменных гитлеровцев растерянность и суматошность в делах. А нашим жителям стола можно немножко воспрять духом и вздохнуть с надеждой: начало совершаться то, о чем все мечтали, думали, грезили и молились, что предугадывали и предсказывали, но что больше чувствовались в сердце своем – возмездие и даже не возмездие, а то, что возвращало им утраченные было жизнь и свободу.
Немцы, стало быть, рассчитывали здесь обороняться – основательно готовились к сражению.
В самом конце декабря 1941 года по распоряжению их комендатуры – вывозить на лошадях с передовой раненных солдат – Полю, как совладелицу (наравне с Анной) колхозной лошади, и нескольких других сельчан обязали в сей же момент выехать на санях в город Старица (в шестидесяти километрах от Ржева). За Старицей кипел фронт. Туда потребовали попутно подвезти провиант. Туго приходилось немцам; зима не щадила никого; все дороги позанесло – они стали непроездны не только для колесных фур, но и для грузовиков. Да то и другое, что и вооружение, было разбито в боях. Тысячи лошадей погибли.
Доехавшие до Старицы ездоки сразу же попали чуть ли не в самое пекло боя. Им пришлось отсюда вывозить раненных немецких солдат в обычные тыловые помещения, приспособленные под лазареты. Они на дровнях сновали и сновали туда и обратно, как челноки, без отдыха. Их не отпускали двое суток.
На фронте напролет день и ночь бухало и стрекотало. Население где-то таилось или было повыгнано прочь из изб. Везде на заснеженных полях чернели понатыканные воронки от снарядов и мин.
Поля вернулась домой зараженная возбуждением увиденного от свежих и тяжелых прифронтовых впечатлений, и привезла с собою наблюдения о том, что судя по всему, немцы вскорости залимонят от Старицы – наши жиманут еще, хотя силы тех и других напряжены до последнего. Тем малозаметней поначалу обнаружилась, но все волнующе сильнее с каждым днем заклокотала канонада, внезапно приближавшаяся с юго-запада. Она разрасталась.
Три немецких дальнобойных орудия, нацеленные туда, стали бабахать регулярно, особенно по вечерам, точно успокаивая так самих себя перед сном грядущим, неспокойным. То развернулось с севера, в обход Ржева, наступление советских войск; наши западнее Ржева прорвались и, уже освободив Мончалово, Чертолино, Оленино, южней намного углубились. Однако этого никто из деревенских жителей еще не знал, хотя все и радовались неослабному пушечному грохотанью, предполагая лишь, что это, может либо окруженцы, либо партизаны жарят… Ничего иного, кроме этого, воображение не рисовало, не подсказывало.
Немцы немедля реквизировали мерина. Да и то: чем было кормить его дальше, если они все сено подчистую растащили, вламываясь во двор без спросу…
Что же, опять временно покинуть всей семьей Ромашино – ради пущей безопасности детей? Береженого и бог бережет, убеждала Анна своих, старших. Главное, она теперь научилась, кажется, смотреть на все философски и не жалеть ничего, выбирая только то, что в первую очередь составляло смысл жизни для нее, и ни нажитый дом, ни какой-то скарб домашний, как ни были для детей необходимы, уже не приковывали ее рабски к себе: она, не робея, уводила их, цыплят, куда-то, когда чувствовала остро, что так нужно. Только выбраться на этот раз хотелось не в Дубакино, а куда поближе, чтобы не была столь изнурительна туда-сюда дорога.
Одна родственница Поли одиноко жила ближе да в сторонке, в деревне Шараево, и прежде Толя и Антон дошли на лыжах к ней, тете Прасковье, полнощекой, внимательно приветливой женщине.
Немчуры в Шараево не было (тут всегда было потише), и она, тетя Прасковья, с радушием приняв посланцев в своей избе просторной, сытно их накормила картошкой с солеными огурцами, душевно поговорила с ними да и спать уложила. А утром, поздоровавшись, еще спросила у них самым любезным образом (что сильнее всего поразило Антона):
– Ну, гости мои, как вам спалось на новом месте? Какие сны вам снились?
Словом, разговор такой, будто не было здесь войны и о ней никто не думал вовсе.
И сказала – подтвердила она, что она непрочь, в случае чего, принять к себе их семьи, да подумать стоит им получше, – сейчас не узнаешь, где полымя жарче может быть: гремит отовсюду. И юные разведчики удовлетворились этим полностью.
С выездом в Шараево повременили: фронт опять остановился где-то и притих. Ничего не слышно было опять. Юго-западней же Ржева бои затянулись. До конца апреля туда посылали немецких солдат. Они оттуда возвращались с помятыми и пробитыми осколками автомашинами, походными кухнями, мотоциклами и секретно рассказывали, дивясь, про то, с каким презрением к смерти бились там советские солдаты (нет, не партизаны – фронт там, регулярные части) : так они, немцы, не могли в течение восьмидесяти ней выбить из одного дома засевших русских, а некоторые дома по нескольку раз переходили из рук в руки.
И в зеленом уже мае фашистские «Юнкерсы», базировавшиеся на Ржевском аэродроме, карусели в небе голубом – эскадрильями поднимались, летали туда и, точно резвясь, бомбили.
ХХII
Так было обычно уж: если не было слышно советские пушки, Анна волновалась, почему они не бьют – их не слышно. Господи, думала она, неужели опять бойцы отступили? Сорвалось у них? Поэтому ей совсем тоскливо было на душе. Пособить никто не мог. Никто.
Но в такое ль точно положение она попадала, как и тот частенько вспоминающийся ей боец, отставший от своих при отступлении из-под Ржева осенью 1941 года, положение, когда действительно никто из окружающих не мог помочь ей, не мог ей дать правильный совет, как быть дальше, кроме собственного разума? Надеялась ведь она тогда на помрачневшем перепутье, если не на помощь от него, бойца Красной Армии, то на утешение хотя бы, а случилось, что впору только ему самому помочь – он сам нуждался в такой помощи. Все взрослые тогда, при появлении его, только взбулгатились, а проку – никакого; и кто ему советовал воткнуть винтовку штыком в землю и сдаться (ай да раздобревший Овчинин Артем!), а кто лишь смотрел – сочувствовал. Теперь кой-кто смотрел так выжидательно на нее, на Анну: дескать, ну, ну, давай вертись, раскидывай своим умом, мы пока на тебя издали поглядим…
Анна ничего – и это – не забыла.
Раз весной им, Кашиным так опасно досадила своей безумной выходкой соседская блажная Лида Шутова, одна из трех взрослых сестер при матери, живущих как бы в неудовольствии и обоснованной претензии к окружающему миру, не умеющих и даже не желающих хозяйствовать для себя же ни в чем. Удивительно! Горькая трава. Перекати-поле.
Их семейство заняло теперь пустовавшую школу. Так эта Любка показно любовничала с очередным длинноногим фарсоватым гитлеровцем, который натянул на себя чисто кавалерийские шкары-галифе, частично обшитые желтой кожей. Он, стоя на ступеньках крыльца, тискал ее, Любку, у себя на коленях, и она хохотала, довольная; так они долдонили о любви: он – по-немецки, она – по-русски. И ничего плохого, по ее понятию, в том не было. Она-то ничего не теряла. Ей не было неприятно, не было отвратительно. напротив. Она даже приговаривала:



