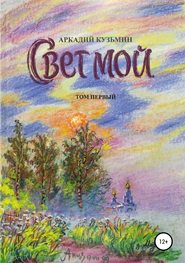 Полная версия
Полная версияСвет мой. Том 1
– Брысь!
Протянув злополучный кусок сыра Гансу, положил его перед ним на табуретку:
– Твой? Узнал?
Ганс лишь утвердительно качнул головой. На большее его не хватило.
– Бери! И не теряй. Тогда и найдешь у себя…
Желтолицый офицер сердито что-то проворчал, повернулся и ушел. Нешуточный переполох сразу улегся. И все опять остались при своих же интересах.
Так и шло житье-бытье. Одно вытье.
Немцы пока возводили свои укрепления.
XVIII
Анне зримо запомнилось следующее. Завечерело, и выясняло на мороз; на заходе чернелись по-крокодильски вытянутые тучи с пастями и рдяными закраинами.
Она будто вкопанно стояла на пригорке деревенском, между прочим смотрела на перемещение и сталкивание этих разошедшихся туч и видела вместе с тем на воске сходящихся и расходящихся дорог, среди фиолетовых сугробов и густевших пятен построек, надвиженье на себя беспорядочной массой помраченно-усталого ига сверхлюдей-немцев. Были они, конечно же, потрепанно-побитые и очень удрученные и замкнутые. И – словно сонные или неживые – водили обындевелых короткохвостых лошадей на водопой к проруби. Некоторые – даже в шлепанцах (и это добро они таскали с собою), из которых выступали, белея, голые обмороженные пятки.
Видно, особенно суровым предстоял перед ними месяц декабрь на Руси, не своими холодами, нет, – были еще незначительные, не декабрьские холода, еще не установившиеся нынче, а поворотом всей войны, чего они, еще не осознавая полностью, испытывали на себе, – они уже откатывались и бежали! Небывалое! Хотя они и склонны-то были винить во всем наш континентальный климат, – они уже кисли, мерзли, пропадали. Сработала отдача. Занесенный на нас молот отлетел от наковальни и ударил больно в руки. Все теперь поняли это. Их пыл пошел на убыль. Ужаснулись они вдруг тому, во что ввергнули себя, какую разгневали силу; им нельзя было теперь ни кончать и ни стоять, а вот продолжать – они продолжали начатое по привычке – уж вслепую.
Уймища замотанных, закутанных, как чучела, немецких солдат в этот вечер, хлопая входной дверью и выстужая избу, входила, выходила и снова входила и проходила, стуча задубевшими сапогами, вперед на ночлег; так втиснулись сюда – и разложились вповал по всему полу – свыше двадцати, как считали, таких неполноценных гренадеров. И когда затихли их хождение и устройство, из передних комнат уж– прослышалось бредовое бормотание со стонами и оханьем. Еще раз дернулась отсюда дверь: кашляя, выполз чахоточного вида солдатик с нашивками на пехотном мундире, в насунутых на голые ноги войлочных шлепанцах, в каких он и водил поить лошадей – пополз на морозную улицу. Там, около крыльца, он потоптался на месте, не воспринимая, верно, стужи и не соображая, зачем выполз, безразлично поглазел он по сторонам, с видом отрешенного, забытого всеми, постоял еще и, возвратившись, словно лунатик, прошаркал опять в переднюю.
– Ну и ну! – Кашины взглядом проследили за ним.
Это был настоящий лазарет. Ни пройти – больные солдаты валялись, как бревна; ни передохнуть: спертый воздух – какой-то специфический, чесночно-дустный, им, немцам, свойственный, запах висел, запахи лекарств, горохового концентрата, сыра и т.д.; ни забыться от этого – и ночью и днем ворочаются, храпят, что-то выкрикивают во сне, вскакивают, стонут. Кто из них всецело был занят своими ранами, оханьем и стоном, примочками и припарками, кто – бесцельным ползаньем взад-вперед и жеваньем чего-нибудь, кто – письмами на далекую дорогую родину, кто – отлеживаньем в углу, кто – вопросами этой войны и отношения к русским. И в целом эти нестарые еще люди, так тесно жившие здесь больше недели и дышавшие потом друг друга, были страшно отдалены друг от друга своими уже состарившимися интересами и потребностями, несомненно, определяемыми их теперешним положением.
Среди этих немцев были такие, которые только угрюмо требовали горячей воды или подогреть что-либо из еды. Были и такие, которые пытались заставить Анну постирать их вязаное, провонявшее белье; Анна отказалась наотрез – сказала, что руки болят у нее (это верно было). Были и такие, которые частенько выползали в кухню и здесь, рассаживаясь, молча давили вшей. Был и такой, кто искренне искал союза с Анной и детьми ее, старался поговорить.
Но и были просто невыносимые ходячие-бродячие, требовавшие и то и другое и делавшие сами с тупой бычьей наглостью все, что было им угодно. Особенно один скособоченный длинношеий и почти безволосый, на висках синие прожилки, – он до вещей был охоч, а другой – такой мурластый, дымчатый хомяк, по обыкновению вынюхивавший (в натуральном смысле), с сонными глазами, где что плохо положено, и запихивавший то за обе щеки (все был голоден). Чуть только что – глядишь, он уже пробирается на промысел. Уж все убирай, прячь подальше – не то доглядит, при тебе возьмет, глазом не моргнув. Завалящую корку хлеба, так корку найдет; схватит с полки из-за занавески, начнет жадно челюстями ворочать. Для своей меньшой, Тани, хлеб получше Анна выпекала, все-то остальные уже ели хлеб примесной – с перемолотыми картофельными и свекловыми очистками, жмыхом и пр.; и тот оставляемый для ребенка хлеб он ухитрялся на глазах стащить – оставлял без него малышку. Вареные картофелины выхватывал из чугунка. Кашины прозвали его скотиной недодоенной.
Они во время его нового вынюхивания чего-нибудь на кухне, когда он обшаривал полки, говорили при нем, дерзко и свирепо глядя на него:
– Он – как худая скотина действительно: не может сам собой руководить.
– Куда там? Сало, свининки еще спрашивает! Съеденной самими же…
– Свининки – на боку сининки, чтоб хотчей бежал отсюда.
И ему :
– Угощать вас надо тем, чем ворота подпирают. Понял?
Понимал, должно, хотя б по интонации, – и рычал, клыки показывал, чучело гороховое. И уползал, оскаленный, рычавший.
Так было каждый раз. Не только с ним одним.
Можно жгуче повествовать об одном лишь таком «лазарете» этом: поразительнейших фактов условий обитания, отупления и полного уж развала хоть каких-нибудь личностей было выше головы…
А была ведь то регулярная германская армия еще образца 41-го года. И куда они рвались? Кто мог разумно объяснить?
Именно же в такой сумасшедший полдень в Кашиным наконец добралась-таки раскрасневшаяся Дуняша с маленьким сыночком Славой, младшая сестренка Анны, считавшая ее матерью своей: довезла его с кое-каким прихваченными вещичками на салазках. Проделала все-таки немалый путь по зимнему бездорожью и развала – может, километров восемь-девять. От механического завода, что на северной окраине Ржев-I, через Волгу и весь Ржев-II и далее. Сестры обрадовались встрече и тому, что теперь объединилсь-то, о чем непрерывно думала Анна: ей не давало покоя теперешнее одиночество Дуняши. Они обнялись, расцеловались. Анна покормила Славу и Дуню.
И сестра поведала свою историю. Она искала прибежище, так как не стало никакого житья ей одной в квартире. Гитлеровцы сатанели и все становились опаснее и опаснее. Вероятно, мужу ее, Станиславу, так и не посчастливилось пока вернуться со службы домой. Меж тем участились налеты на город советских бомбардировщиков. В механическом заводе, что был рядом, теперь развернулся немецкий госпиталь; он не пустовал и поэтому еще немцы ввели для местных дополнительные меры строгости. Так, по ночам и днем они заставляли жителей караулить какой-то протянутый ими кабель, но караулить таким образом, что сам не смей показывать никому, не то самого схватят и прикончат. Но все равно не уследили: порезали партизаны этот кабель. Тотчас взяли фашисты несколько семей-заложников, расстреляли всех для отстрастки других. Для расправ они находили и иные прегрешения населения.
И вновь поехала Дуня с двумя санками, куда глаза глядят: на одних Славик, на других – лубяных – вещички. Так ноги привели ее в Ромашино, в бывший отчий дом, где когда-то на ее глазах умирали мать, отец, бабушка, дедушка. Царствие им небесное! Хоть спокойно, своей смертью умерли. Отсюда уже к Анне доползла…
Собственно, уж и над самой деревней Ромашино ночью пронесся наш самолет и скинул пару то ли бомбочек, то ли, может быть, гранат. И здесь как-то разом все жилье позаполнили заметно потрепанные, обессиленные на вид, как оглушенные чем-то, немецкие вояки-фронтовики. Что случилось хорошего? Антон хотел получше разузнать. И пытался. С этой целью сходил в Генке, другу-шестикласснику. И тот уверял, что сам видел в ночном небе летевший и бомбивший кукурузник – так он низко летел. А немецкие солдаты, точно выбитые из колеи или пребывающие в шоке, не склонны были разговаривать, даже односложно. Так и не узнал Антон ничего нового, конкретного.
XIX
Жал декабрьский холод, и тягуче скрипели на большаке их повозки кованые. Гнал куда-то жестокий конвейер войны ее ревностных служителей. И одни из них выкатывались куда-нибудь отсюда, а другие прикатывали им на смену.
Днем же заявилась к Кашиным на постой троица захолоделых немцев – были они в шинелях и натянутых серых шерстяных наличниках под пилотками, надвинутыми на уши: толстозадый солдат с сырым, заутробным голосом, молоденький ефрейтор, заважничавший тотчас, и гладкий, видный собой нацист в очень добротной шинели без погон (вообще одетый весь весьма добротно) и с забинтованной правой рукой, лежавшей согнутой в белой повязке, перекинутой через плечо, именно последний вроде бы и главенствовал у них какою-то несолдатсткой солидностью и уверенностью в себе, в то время как ефрейтор выглядел так уморительно-комично (в сочетании с заносчивой важностью), что попросту смешил всерьез, несмотря на столь уж неблагоприятствующий момент для смеха. Наташа не смогла сдержаться – легонечко порснула в ладошку. И он-то, уязвленный гренадер, вновь запнувшись в кухне на мгновение, моргая, с удивлением взглянул на насмешницу, позволившую себе вызов, дернулся и фыркнул:
– Schwein mensch!
С этого все началось.
По-солдатстки скупо осмотревшись и толкнув дверь в светлые комнаты, они втащились сюда с вещами и с бесцеремонностью, как водится, стали раскладываться в них; никто из немцев никогда не спрашивал ни у кого из местных жителей никакого разрешения на вселение: избы оккупировали мигом… Как должное.
– Гляди-ка, еще с характером! – проговорила Наташа. – Какой фашистенок… За что-то обозвал нас свиньями. А сам без спросу вперся… Ежится…
Прибывшие повелели Анне истопить для них лежанку кафельную, сложенную впереду, – они взаправду заморозились, что сосульки. Дрогли. Потом кружком засели и начали молотить подряд консервы, сыр, галеты, пиши шнапс. А вскоре, отогревшись и отъевшись, поснимали и шинели с себя. И вот уже порозовевший лицом беспогонник вытащил с собой на кухню колючего, но и комичного ефрейтора и весело представился всем, теснившимся у стен родных, словно желая сразу растопить в русских лед отчуждения к ним, чужим солдатам, и показывая этим самым, что они такие ж люди, как и все (притом он изъяснялся сносно на ломаном русском языке) :
– Это есть я, Вальтер. – Подвохом могло пахнуть с его обходительностью; уж сколько раз жители обжигались так – пока прохладно стали разговаривать с ним, не поддавались на его призывы.
– Ja, das sind wir. – Да, это мы, – заносчиво, картинно изрек и Курт, почти еще мальчишка, но явно уже потрепанный где-то немыслимой войной.
Все-таки смешным он выглядел. Верхняя часть лица у него была почти нежная, почти женская; нижняя – с тяжелым, свирепым выражением. И Наташа оттого-то снова прыснула смешком и с едва скрываемой насмешливостью обратилась к нему:
– Mit deinen zwanziq Jahren… – В твои двадцать лет… И уже в России?
– O! Ich steiqe auf einen Berq. – О! Я поднимаюсь на гору, поняв – ее по-своему, заговорил он, польщенный. И Вальтер переводил его дальнейшие слова. И был в них следующий смысл. Труднодоступную вершину надо одолеть. С нее откроются все перспективы для него и всех людей, для которых они, немцы, заведут очень хорошую жизнь. С особенным порядком и свободой. Все дело в том, что они строят свой особый социализм, не такой, какой строил Сталин (он плохой, а вот Ленин лучше был). Понимаете? И для того они, солдаты Германии, надели на себя почетную одежду германского мужчины – военный мундир (сам великий фюрер носит только его): чтобы воцарилась всюду справедливость.
– Ну, мы это уже слышали и видели, – прервала Наташа вдохновенное вранье Курта, в которое он верил сам. – Лучше вы скажите нам, что Москва? Когда закончится война?
Курт замялся, опустил глаза. А Вальтер без утайки сообщил:
– Война еще не капут, нет; она теперь не скоро кончица – долго ждать. Мы едем прочь от Москва. На отдых. Тыл. – И он значительно обвел всех глазами.
Действительно сообщенное им для Анны, Дуни, всех было исключительно по важности своей. Ведь до сих пор захватчики без умолку трубили нашим жителям с восторгом – все уши прожужжали – о скором взятии Москву, о своих ошеломляющих победах, и вот, плохое, что-то лопнуло у них… коли говорится все напрямик – с такой откровенностью… Что, осечка непредвиденная?…
– Отчего же, Вальтер, не капут? – спросил Антон, смелея и волнуясь от того, что мог услышать дальше.
Курт, отставленный вниманием к нему, с маской оскорбленности буркнув что-то неразборчиво, ушел обратно в комнату. Этим самым он несомненно еще больше развязал язык, видно, очень словоохотливому Вальтеру.
Желание поговорить распирало его всего.
Бывает, поглядишь: один человек (как, например, Курт) с глупым, пустым лицом, а другой – с очень умным, живым.
И такое умное лицо – с выпуклым лбом и соразмерными чертами – было у большого густоволосого и заметно тучноватого, но и моложавого, и поворотливого на редкость Вальтера. Какой-то светло-праздничный, он, казалось, был настолько заражен, вопреки всем солдатским невзгодам, беспричинный радостью и веселостью, что этим и хотел немедленно же без лишних свидетелей-сослуживцев поделиться с русскими женщинами, только вот послушайте его, как это поучительно. На него, по-ведимому, нашло необъяснимое самому себе воодушевление – и он слово за слово, с блаженным прямо-таки упоением стал расписывать всем, кто сейчас хотел услышать его живые подробности об их неслыханном, незапланированном бегстве из-под Москвы, словно то был чуть ли не самый замечательный для него лично (вызывавший такую восторженность) исторический момент, в котором ему довелось участвовать, хотя и с противной, как говориться, стороны. И он ничего не путал тут. Советские солдаты своим героическим духом явно заражали и восхищали его, и он несказанно восхищался теперь теперь тем, как их, немцев – их, прославленных вояк, – разбили русские и, разбив, не только прогнали прочь от Москвы, но и заставили побросать, как он говорил, коверкая русские слова, тыща орудий, тыща танков и машин и тыща повозок с лошадьми.
Да, в реальной жизни все оказывалось куда сложней и запутанней: опрокидывались все завоевательские расчеты немцев, много раз уже проверенные. И это, безусловно, задевало, било по ограниченному захватнической политикой немецкому самолюбию. Тем страннее было услышать от Вальтера, сильного, вероятно, мужчины, которые совсем не шепотом, особенно не таясь, рассказывал об их большом поражении так, будто этой новостью сокровенно делился с верными друзьями, понимавшими и принимавшими его тоже таковым. Но и тем значительней явились для женщин, Антона и других откровенные свидетельства очевидца событий, а не построенное на догадках и предположениях те или иные соображения. Зато с особенным взлетом настроения от его необычных признаний Наташа с сиявшими глазами, одевшись тепло, в валенках, помчалась на холодную улицу, хоть и с лопатой в руках. Ей еще следовало по принудке, как и другим деревенским девчатам и парням, доработать этот день на расчистке большака от снежным заносов.
– А вы, немцы, небось, думали что: – трах-бах – и готово? – съязвил Антон на радостях. – Русские и лапки кверху?
– О, мальтчик, это дикая, ужасная страна, это все нехорошо. И что ты говоришь. – Вальтер засмеялся. – Да. Да. Я видал Москва. Я близко Москва был. Хороший бинокль наводил – Москва видал. Только колёдно, – и движеньем тела показал, что ему было холодно, мелко задрожал. – А русска зольдаты песни поют. Was? Катьюша. Расцветали яблоня… – И, вынув из нашитого нагрудного кармана маленькую губную гармонику (такие гармоники были очень распространены в германской армии среди солдат), взяв ее в рот и надувая, он уже и попробовал поиграть перед столь благодарными слушателями мотив этой широко известной нашей песни. И затем, перестав играть, продолжал непосредственно, жестикулируя одной рукой с зажатой в пухловатых пальцах гармоникой: – Русские богатыри. Во! Они – без перчаток. Нипочем мороз. Русский бой пошел на нас: «Ура! Ура!» Хорошо. Наши пушки, танки, зольдаты – все хапут. Стало. Мы побежали. Ужасный страх напал. Я пистолет свой достал, а пуля – чик меня по руке сюда. Все бросили там.
Это благорасположенная откровенность и общительность Вальтера приятно поразили Кашиных и Дуню, наряду с захватившим воображение сообщенным так свидетельством перехода в наступление наших войск восточней Москвы – значит, сюда, в западном направлении, куда и драпанули в испуге немцы. И, пораженные еще его непонятной приподнятостью от этого. Анна, Дуня и Антон глядели на него во все глаза: да откуда это все у него, у заядлого немца? Он же ведь не перестал быть патриотом нацисткой Германии, не переродился ведь начисто оттого, что им наподдавали под Москвой? И как радовались теперь пробившейся к ним таким непосредственным образом частичке правды, которую слышали открыто от него, солдата, хоть и недруга. Он своим свидетельским рассказом о фронтовом событии, хотя и не называл конкретно движение фронта относительно городов и других пунктом, укреплял в них, местных жителях, уверенность в освобождении – что оно не минет их, обязательно к ним придет. Может, даже очень скоро.
Так разоткровенничавшись, при первом же знакомстве с хозяйкой Вальтер далее сказал, что он сам живет в Берлине и что у него есть жена и двое небольших детей. Спохватился, просил подождать:
– Один момент! – Шагнул в комнату и скоро вышел оттуда и вынес в изящном шоколадного цвета ящичке с крышкой тонкие эрзац-сигары и отдельно пачку аккуратных фотографий. Присел за стол кухонный.
Вставив сигару в рот и щелкнув зажигалкой, и прикуривая от нее, а потом и демонстрируя всем свои снимки с собственными чадами – аккуратно одетыми и причесанными девочкой и мальчиком. Сновал рукой с круглым зеленовато-серым, под цвет мундира, кольцом на пальце. А в ответ на женскую похвалу тому, что он прилично разговаривал по-русски, он, довольный, сообщил, что учится разговаривать на русском языке, что он изучил уже два иностранных языка и что в предпоследние годы уже побывал в Америке, Испании, Франции, Югославии.
Никто не знал, что и подумать о нем; все вроде бы говорило в его пользу – за его человечность. И он, должно быть, нуждался в таком открытом общении с местными людьми. Так и пошло у Кашиных какое-то словесное сближение с ним, особенно у Антона лично, поскольку старшие брат и сестра мало бывали дома – их со всей деревенской молодежью ежедневно выгоняли оккупанты на различные работы.
– Союз Советише Социалистичише Республиканция? – спросил при очредном выходе в кухню Вальтер, указывая на слово СССР, отпечатанное на этикетке советского спичечного коробка, который он таскал в кармане.
Антон, смеясь, поправил его – сказал, как следовало произносить правильно. Однако, спустя сколько-то времени, он выговорил и вторично-то по-своему. Более того, с этим коробком в руке он даже ночью, вставая, дважды выходил в кухню, полусонный, и подсвечивая карманным фонариком, расталкивал Антона на палатях (благо тот на сон был чуткий) и все справляется:
– Союз Совьетише Социалистичише Республиканция?
– Здравствуй, пожалуйста! Тебе же говорят что… – Проснувшись, Антон начинал учить его правильному произношению этих слов по-русски: до утра он подождать не мог, не в его натуре было…
XX
Скрипели на снежно-морозном большаке повозки кованые, и мерный и жгучий их скрип слышался в согревавшей всех избе.
Между тем со второго дня общения с Вальтером заладилось такое, что за обеденным столом (стоявшем в углу), за которым отец летом прощально разговаривал с детьми, Антон, щупленький, не учившийся уже шестиклассник сидя напротив массивного и массивно думавшего Вальтера, поигрывал с ним в самодельные шашки, которые нарезал и выстругал, и выкрасил тушью – только черные – для отличия черных от белых. Антон любил играть белыми шашками. И спуску своему партнеру не давал. Для него эта шашечная игра с ним была принципиальна. Она являлась собственно своего рода тренировкой, или, точнее, даже воспитанием храбрости; так, когда Антон бил шашку противника или снимал ее с игральной доски за фук, то с простотой сердечной обязательно и приговаривал (игра, так до конца игра):
– Это русский самолет (слово «советский» немцы плохо понимали, либо не хотели понимать) сбивает самолет немецкий. Видишь? – И для вящей убедительности еще пикировал при этом сложенным бумажным самолетиком. На позицию неприятельскую.
– Nein! Nein! – кипятился уже Вальтер, принимая игру Антона. Победит Германия. Вот, пожалюста, гляди! – И с неуступчивым самодовольством отыгрывал у него шашку, две.
Затем уж совсем бездоказательно исходился весь – сбивался на бред и пыжился воинственно: мол, а когда падет Россия (в этом он убежден), все ее богатства и людские ресурсы, а также тыщи пресловутых немецких танков и самолетов повернутся на Англии, а потом и на Америку, на Индию. А лучше: с русскими заключим союз. И тогда вместе на всех – на всех пойдем. Вот с какой теорией – желанием он выворачивался, желая видеть Германию сверхдержавой, а немцев «сверхчеловеками», умевшими командовать всеми.
Подобное, противоречащее логически здравому смыслу, случалось с Вальтером тогда, когда хмель низкопробного воинствования еще крепко, вопреки всем фактах, шибал в голову ему. Зараза гитлеровского шовинизма ела и его, как вши.
В споре Антон нисколько не уступал ему; с пристрастием сызнова убеждал его в том, что нельзя расколошматить миллионы русских и что они-то не пойдут ни на союз с врагом, ни в завоевательный поход. Напрасные иллюзии.
И все это определялось не какой-нибудь его шуткой, не простой ребячьей игрой на чьих-то нервах, отнюдь. Это не было ложным, поверхностным пафосом, налетом какой-то спорной бравады, а выражением (пусть и столь примитивнейшим образом) настоящих сильных чувств; все то, что называлось и было русским, советским, натянулось тоже и в юных русских сердцах и зазвенело с небывало звенящей дотоле силой. Для пацанов, попавших в оккупацию, жизнь, хотя и оголилась вся, не опостылела окончательно: несмотря ни на что, в них – от мала до велика – жила несломленная гордость и непоколебимая вера в будущее.
– А что же Москва? – напоминал Антон тогда Вальтеру, когда иссякали уже действующие на него аргументы. Поминай теперь, как звали? Ишь? Ваше дело швах.
Так запросто перекидывался Антон с ним любезностями.
И тут вовсе не глупый Вальтер при одном лишь напоминании ему о Москве опять преображался начисто: что-то восторженное (а не то, что ему больше нечем было крыть) начинало сиять на его подвижном добряцком лице. И тогда он с еще большим воодушевлением – в который-то раз! – принимался образно рассказывать, мешая русские и немецкие слова, о счастливо-спасительном для него бегстве без оглядки оттуда, из-под Москвы, вместе с разбитой германской армией. И вздыхал, откровенно переживая: его очень близко волновало то, пережитое им. Раскуривал сигару, дрожа пальцами. С остановленным взглядом, словно устремленным вглубь себя или еще куда-то.
Единственно, чего он не мог сказать в точности: это где не сейчас находился фронт.
Но они еще рвались, рвались куда-то. И копеечную совесть их ничем нельзя было как-нибудь пронять, затронуть, прошибать. Они, значит, и Россию нашу хотела переломать, и весь мир остальной, включая Индию, оставляли на «потом»; а поскольку род их такой победительной деятельности отложил на них свой особый отпечаток, – в них вселилась холодно-надменная, лицемерная и мертвящая непроницаемость.
Что они могли сказать?
Да, агрессивная стратегия была одно. В милитаристских выношенных планах было педантично все по дням расписано, куда мобильные войска вторжения войдут тогда-то и тогда-то, с чем покончат и кого придушат, расширяя для арийцев «лебенсраум» – жизненное пространство, и даже предусмотрено, они похвалялась, то, как отпразднуют в Берлине в честь этого. Но бронированный немецкий громила, налетчик, обжегся о крепкий дух советских людей, вставших на священную защиту своего отечества. В этом есть истина. И этот неброский дух народный вырос таким, что великолепно смазанные колеса погромной нацистской машины с более чем удвоенным потенциалом и военной мощи покоренной Европы (хотя он и без того вдвое превышал наш), вскоре уже не могли проворачиваться ни на пядь вперед. Сколько не давили изуверки немцы нас, русских. Наши колодки заколодили их, заставили громоход пятиться назад и спотыкаться.



