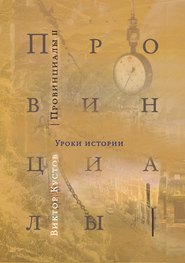скачать книгу бесплатно
– Ну вот, уступила…
Он выпрямился, подошел к ней, положил руки на плечи. От нее пахло душистым мылом. Подумал, что, наверное, переспит с ней еще раз… А может, и нет…
– Мы – животные, отчего же стыдиться наших естественных потребностей?.. Ты не уступала, мы обоюдно потерпели поражение от нашей плоти… Кстати, у тебя не опасный период?
Она помедлила, постигая смысл сказанного. Потом медленно произнесла:
– Нет… К тому же у меня… Сложно… С мужем мы одно время очень старались, не получалось… Я не из плодовитых…
Она виновато улыбнулась.
– Придет срок, – знающе пообещал Черников, направляясь в коридор, – и мужик хороший найдется, и дети будут, какие твои годы…
Стал одеваться, поглядывая в висящее возле двери овальное зеркало, находя себя вполне привлекательным мужчиной, с запоминающимся выражением лица (циничным, как отметила при первом откровенном разговоре Галочка).
– Ты не останешься? – поинтересовалась Ася, прислонившись к дверному косяку и напомнив ему этой выразительной позой Галочку (да и Нину тоже – позы прощания всех разочарованных женщин похожи).
– Пойду… Пресыщение в любом деянии чревато разочарованием…
Он махнул ей на прощанье и исчез за дверью…
…Сидя поздним вечером за редакторским столом, он вдруг все это вспомнил и тут же откровенно признался, что ничего необычного в подобных мысленных поллюциях нет: насмотрелся на впечатляющий бюст Химули (Лены Хановой) и восторженное личико Люси, вот и забродила плоть. В дореволюционные времена по подобному зову летели в санях да каретах мужики на зазывный свет красных фонарей, чтобы без сложностей и обязательств, без душевных переживаний ублажить эту самую плоть да вернуться к более серьезным делам. В праведном обществе, которое, по мнению власти, уже было почти возведено в стране, называющейся Союзом Советских Социалистических Республик, подобных заведений быть не могло, быстро избавиться от желания не представлялось возможным, приходилось изощряться в лицемерии, усваивать уроки обольщения, отчего период гона растягивался на многие дни, а у некоторых самцов значительная часть жизни тратилась исключительно на это неплодотворное занятие…
У Черникова как-то даже была мысль написать эссе на эту тему, в котором разъяснить стоящим у руля, что наличие узаконенных публичных домов способствовало бы росту производительности труда, так как резко уменьшило бы время, тратящееся на флирт на рабочем месте или мучительные поиски противоположной особи для рядового совокупления.
Наброски эссе лежали где-то в черновиках.
Он вышел из кабинета, прошел по уже пустым коридорам, поднялся к трамвайной остановке, находящейся на косогоре, как раз напротив главного входа в институт, и в полупустом дребезжащем трамвае под негромкие, долетающие из кабины водителя слова:
Когда мне невмочь,
пересилить беду,
когда подступает
отчаянье,
я в синий троллейбус
сажусь на ходу.
Последний, случайный… —
покатил в центр, откуда на автобусе можно было доехать до дома Аси…
…Трамвай неторопливо, подолгу задерживаясь на остановках, докатил почти до середины моста через Ангару и встал. Водитель, круглолицая веснушчатая девушка, прогремев металлической дверью, вышла в вагон, сообщила, что нет тока.
– И долго не будет этого самого тока, красавица? – поинтересовался краснолицый мужчина, вошедший возле железнодорожного вокзала и лучащийся беззаботным весельем то ли от принятого в ресторане, то ли от долгожданной встречи-расставания.
Она улыбнулась и развела руками.
Подождав немного, мужчина и четверо говорливых подружек с передних сидений ушли в уже довольно теплый, предлетний вечер, а Черников и парочка влюбленных на заднем сиденье остались. Им, как и ему, некуда было спешить, только настроение у них было прямо противоположным. По доносившимся до него эмоциональному шепоту и звукам он без труда представил, что там происходит, и воображать далее не стал, это было неинтересно. Другое дело – улыбчивая девушка-водитель. Она уже сходила к стоящему впереди вагону и, вернувшись, сообщила, что впереди, почти до конца моста, стоят еще трамваи, и пассажиры могут, если хотят, перейти в самый первый. Но парочка и Черников остались.
Девушка зашла в кабину, но дверь закрывать не стала, и вагон наполнился звуками инструментальной музыки, которые навевали какие-то смутные и приятные воспоминания, но Черников никак не мог вспомнить, где он слышал эту волнующе-знойную, словно оазис среди пустыни, мелодию… Может, этому мешал виднеющийся в кабинке профиль девушки, такой трогательный и невинный, что он наконец не выдержал, прошел вперед, встал в проеме, поинтересовался, почему она выбрала такую профессию, и услышал в ответ то, о чем уже догадался: приехала из деревни, поступала, не прошла по баллам, пошла в трамвайное депо, потому что там сразу дают общежитие, была ученицей и вот теперь работает самостоятельно. Но летом опять будет поступать, только теперь не в медицинский, как хотела, а в институт народного хозяйства, потому что она впечатлительная и очень боится покойников…
Девушку звали Юлей, она вела дневник и даже пописывала стихи, в чем скоро призналась, смущенно пунцовея и радуя этим Черникова, который уже был почти в таком же настроении, как и сидящие на заднем сиденье влюбленные. Он стал ей читать стихи Ахмадулиной, Цветаевой, потом Евтушенко и наконец прочел длинную и слезливую асеевскую балладу, от которой Юля совсем расчувствовалась и даже приникла к Черникову (влюбленные уже умчались в темноту), а он стал перебирать ее шелковистые волосы, вдыхая запах юного тела, почти вспомнив, где он слышал чарующую мелодию, и тут совсем некстати дали ток, трамваи впереди заскрежетали, переваливаясь по рельсам и скатываясь с моста, и Юля торопливо повернула рычаг, разгоняя медлительный вагон…
Черников доехал с ней до депо и потом до общежития, рассказывая о писателях, с которыми был знаком, читая стихи и удивляясь ее тонкому восприятию слова. Они расстались возле подъезда общежития, и она твердо пообещала показать ему свои стихи. Он продиктовал (она повторяла, пока не запомнила) рабочий телефон и сказал, что очень будет ждать ее звонка.
К Асе ехать уже не хотелось, он вернулся в свою комнату в общежитие и, сев за стол, стал писать рассказ о том, как юная чистая девочка Юля встречает в своей жизни циничного и много уже повидавшего взрослого мужчину и открывает неведомый тому мир…
Думал, на несколько месяцев задержится в Иркутске и отправится дальше, если не в саму столицу, то куда-нибудь поближе, откуда можно будет наведываться в столичные журналы да издательства, об этом сразу и Цыбина предупредил, и, само собой, Коростылева, чтобы не успокаивался, подыскивал ему замену, но время летело как-то стремительно. Незаметно минул зеленый май, отшумела сессия, корпуса института опустели, проводив кого на каникулы, кого в студенческие отряды, кого на практику. Преподаватели заторопились в свои отпуска. Цыбин укатил на Кавказ в санаторий, на прощанье посоветовав ему иногда появляться в редакции, чтобы не было ни у кого претензий (отпуск по закону ему еще не полагался, а делать было нечего, газета летом не выходила).
– Ты, Борис Иванович, пиши планы на будущее, – посоветовал он.
– Разные варианты, как доклады мы пишем… Вдумчиво, чтобы все политически выдержано было… А осенью мы на парткоме их утвердим…
Так и подмывало Черникова высказаться по поводу этой самой выдержанности, от которой на партийных собраниях тоска нападала и спать хотелось, но сдержался, не стал портить тому предотпускное настроение. Но и планы, естественно, никакие писать не стал, хотя в редакцию заходил даже чаще, чем надо было, чтобы завистники не донесли. В огромном пустом и непривычно тихом здании института на удивление легко писалось. И не только очерки и статьи в газеты, но и рассказы, которые он надеялся издать в каком-нибудь столичном издательстве.
А потом стал засиживаться с Юлей, готовить ее к вступительным экзаменам в университет, довольно быстро убедив, что ей нужно поступать именно туда, на журфак, потому что стихи она пишет отнюдь не графоманские, слово чувствует замечательно.
На всякий случай он выяснил, кто принимает экзамены, и не постеснялся зайти в горком партии к Коростылеву, чтобы он познакомил его с председателем приемной комиссии. Тот договорился о встрече по телефону, и Черников обстоятельно, упоминая авторитетные имена мэтров советской литературы и журналистики (хотя и сам уже был достаточно хорошо известен в здешнем профессиональном цеху), расписал моложавому и гладко зачесанному блондину с маслянистыми глазами и раздражающе улыбчивым лицом таланты своей протеже, читая в глазах председателя приемной комиссии, что не он первый обращается с подобной просьбой, отчего Черников становился все настойчивее, намекая на наличие еще более влиятельных покровителей, уполномочивших его на этот разговор. И в конце пообещал явно растерявшемуся председателю самолично приложить все усилия, чтобы девочка подготовилась как следует и непременно стала бы студенткой.
Он действительно прилагал усилия. И не только словесные, получая истинное наслаждение от неопытных поцелуев и расслабляющей его по-детски бескорыстной ласки. Юля уже давно готова была уступить ему, но он оттягивал это мгновение, стараясь дочувствовать то, что в своей молодости, увлеченный общественной деятельностью, не успел оценить по-настоящему, все куда-то спеша, торопя будущее…
Она сдала вступительные экзамены на четверки (хотя по сочинению они ожидали тройку, но председатель комиссии, видимо, хорошо запомнил ее фамилию) и была зачислена на первый курс факультета журналистики.
В день, когда это стало известно, солнечный августовский день, когда по набережной Ангары слонялись ошалевшие и еще не постигшие своего нового статуса бывшие абитуриенты, а точнее, в этот теплый, но уже с привкусом приближающихся холодов вечер, она на скрипящей кровати в его общежитской комнате стала женщиной. И, прижавшись к нему крепко-крепко, словно боясь, что после всего этого он может исчезнуть, долго слушала его размышления о жизни, об обществе, традициях декабристов, сохранившихся в этом на удивление культурном сибирском городе, о славной жизни целой плеяды революционеров, которые были сильны прежде всего своей идеологией, своей готовностью к поражению…
По-видимому, эта мысль пришла ему только что, и он стал ее развивать, все более и более загораясь, забыв о Юле, не зная, что она совсем его не слышит, а лишь наблюдает за его губами, вслушивается в его голос, впитывает запах его тела, одним словом, постигает его присутствие в себе как предвестие новой жизни…
…Эта мысль о готовности поражения как основном нравственном факторе, позволяющем революционерам не ценить свою жизнь, приносить ее в жертву во имя идеи, крепла с каждым днем, и осенью, когда коридоры вновь заполнились студенческим многоголосьем, а повзрослевшие и изменившиеся члены тайного общества собрались на свое первое заседание, он предложил им эту тему разработать, написав исследование.
Идея эта вызвала интерес только у Саши Жовнера, который за лето ощутимо изменился после преддипломной практики, стал немногословен и таинственно задумчив, словно приобрел некий неведомый остальным опыт. Очевидно, что Баяру Согжитову с его буддийским мышлением революционеры были непонятны и неинтересны. Володя Качинский, загоревшись вначале, скоро остыл, торопясь похвастаться своими новыми стихами, которые на самом деле не свидетельствовали о творческом росте. Леша Золотников и Лена Ханова нашли летом свои половинки и теперь излучали полную отстраненность от окружающей их и в прошлом, и в настоящем, и в будущем суеты. Горячо откликнулась Люся Миронова, явно разделяя подобную идеологию, но она не писала ни стихов, ни прозы, а была самой внимательной слушательницей и чутким критиком произведений своих товарищей.
Осилить половину списка, который весной составил для них Черников, смогли только она и Баяр. Приблизился к ним Жовнер, который сказал, что больше прочесть у него не было возможности, в библиотеке поселка Кежма, где он был на практике, нужных книг не оказалось, о многих там даже не слышали. Золотников и Качинский застряли на первом десятке, а Ханова, похоже, даже не открыла и первую книгу (это был «Золотой осел» Апулея).
Тайное общество «Хвост Пегаса», судя по всему, ждала участь множества подобных, распавшихся, так и не созрев до сплачивающей и вдохновляющей идеи. (И до той же самой готовности к поражению.) Но Черников, хотя об этом и подумал, вслух говорить не стал, отметив для себя, что теперь будет работать индивидуально, по степени заинтересованности и понимания каждым усвоенного материала… Так, как он делал это с Юлей, дополняя ей учебный план своими рекомендациями.
Жовнер за изучение этого секретного оружия революционеров – готовности к поражению, которое позволило им в итоге свою идею (пусть и благодаря усилиям многих поколений) реализовать, взялся всерьез и уже в октябре принес первый очерк о Радищеве, в котором аргументированно доказывал, что именно неодолимый и прагматичный пессимизм и позволил Радищеву столь смело, без оглядки на цензуру изобразить то, что он видел, путешествуя из одной столицы в другую…
В начале ноября он принес еще один очерк, о петрашевцах, уделив в нем немалое место описанию деяний Федора Достоевского, чудом избежавшего смерти, сказал, что уже читает сочинения Чаадаева, этого изгоя русского светского общества девятнадцатого века, и все, что написано о нем его современниками.
Но этот очерк Черников уже читал не в редакционном кабинете и даже не в своей комнатке в студенческом общежитии, а в комнате Юли, когда она с подругами ушла на занятия. На институтском отчетно-выборном комсомольском собрании он попросил слово и выступил перед делегатами самой большой студенческой организации в городе. Если коротко, суть выступления сводилась к следующему: пассивность и безразличие молодежи, которую он наблюдает, приводят к тому, что молодыми людьми, словно марионетками кукловоды, управляют большие дяди, сидящие в кабинетах и давно растерявшие революционный запал, большевистские традиции, изрядно подзабывшие, как выглядит идеал, во имя которого гибли деды и отцы. Каким же в недалеком будущем станет общество, которое строят прежде всего молодые?
– Я слушал отчет секретаря, хорошего парня, но абсолютно не способного вести за собой, выступления ваших товарищей и все надеялся, что услышу живое слово, дельное предложение, как нам изжить негативы, пассивность и безразличие. Но все как один старались угодить старшим товарищам, по-видимому, немало времени провели, готовя и выверяя варианты своих выступлений, приглаживая их так, чтобы никого не задеть. И прежде всего вот этих…
Он повернулся в сторону президиума, где в центре сидел ректор – широкий, с лицом-маской усталого трагика, блестя большими роговыми очками, скрывающими глаза. Рядом с ним, с каждым словом все более приподнимаясь на своем месте, возвышался так поразительно похожий на Горького после Капри, загоревший под южным курортным солнцем секретарь парткома. Готовый сорваться по первой же команде старших товарищей, занимал половину стула секретарь комитета комсомола, бледнолицый юноша с неприметным лицом, с которым Черникову пришлось общаться всего один раз, но и этого было достаточно, чтобы понять, насколько тот ограничен и послушен. И ему было жалко этого в общем-то безобидного парня и одновременно хотелось сказать о его неспособности руководить молодежью, в чем Черников, исходя из собственного, и как теперь было очевидно, серьезного опыта, не сомневался.
– В вашем возрасте или лишь немного постарше были в свое время те, кто вышел на Сенатскую площадь в декабрьском Петербурге.
Ваши сверстники готовили бомбы и устраивали акты возмездия против царских узурпаторов, не боясь каторги. Ваши деды в таком возрасте, как вы, и моложе сражались на фронтах гражданской войны, а отцы победили в Великой Отечественной. Им было не занимать смелости и понимания, за что они идут на смерть, во имя чего живут…
А что сделали вы?.. Я вас призываю: не мечите бисер перед… – он, не оглядываясь, протянул руку в сторону президиума и выдержал паузу.
– Берите власть в свои руки, управляйте институтом реально, как вы можете и хотите…
И сначала в гулкой тишине, а потом под яростные аплодисменты и даже под одобрительные выкрики, прошел на свое место в зале.
Бледнолицый юноша-секретарь тщетно призывал всех к порядку, но кто-то закончил фразу Черникова, подсказав, перед кем не стоит метать бисер, и это слово прокатилось по рядам, вызывая злорадный смех. Над президиумом возвысился секретарь парткома Цыбин, пророкотал неожиданно зычно, непререкаемо, вспомнив совсем недавнюю службу и всем своим видом показывая, что шутить не намерен и угроза об исключении из института за хулиганство будет осуществлена, и зал с недовольным гулом все же затих.
Цыбин произнес еще несколько зажигательных фраз, из которых следовало, что редактор их многотиражной газеты за время работы так толком и не сумел вникнуть в большие дела комсомольской организации, хотя, конечно, есть и недоработки, которые необходимо исправлять. Что же касается роли старших товарищей, то комсомол есть резерв партии, а партии принадлежит руководящая роль, и если каждый новобранец будет делать что ему заблагорассудится, строя не будет, армии не будет, победы не будет…
Через два дня в кабинете Цыбина Черников писал заявление об увольнении с работы по собственному желанию и заявление о выходе из коммунистической партии «в связи с тем, что не может оказывать соответствующую финансовую поддержку и делать полноценные ежемесячные взносы по причине отсутствия постоянного места работы». Потом сдавал комнату коменданту общежития, выполнявшему строжайший приказ выдворить жильца в течение суток, получал расчет, что заняло совсем мало времени. Передавать дела вновь назначенному редактором Диме Лапшакову, ошарашенному стремительностью собственного карьерного взлета, его не заставили.
…Пока были деньги, пожил в гостинице, наслаждаясь ничегонеделанием и возможностью каждый вечер вкусно кормить Юлю и получать ее успокаивающие ласки. Когда деньги закончились, пошел к Коростылеву, но тот сказал, что после всего происшедшего («Кто тебя заставлял партбилет отдавать? О чем ты думал?..») ничем помочь не может, вот только если Желтков… У него вроде ушла в декрет учительница литературы в старших классах, недавно жаловался, что не может никого найти.
Черников пошел к Андрюше Желткову (еще одному бывшему однокурснику), вернее, теперь уже к Андрею Павловичу, кабинет которого ему показали шустрые пионеры, не умеющие преодолевать школьные коридоры шагом. В принципе, оно так и было, потому что раздавшегося не только в плечах, но и в талии некогда заводного и смешливого Андрюшу без отчества теперь было трудно представить. Он даже чем-то напомнил Черникову его директора школы. Может быть, пронизывающим и одновременно невидящим, давящим взглядом.
Желтков сразу принял Черникова за родителя кого-нибудь из провинившихся учеников и только после первых слов хлопнул себя по лбу.
– Ах да, Коростылев мне говорил, что ты в городе… Ну, рассказывай…
Черников сразу взял быка за рога, с каждой фразой выражение лица Желткова менялось и, наконец, приняло устойчиво озабоченный вид.
– Да, Боря, наломал ты дров… У меня двоечники и хулиганы и то меньше вытворяют… – он постучал толстыми пальцами по крышке стола и после паузы произнес уже ожидаемое Черниковым: – Если бы ты партбилет не сдал… А так, не могу… Разве что факультатив вести, но это, сам понимаешь, – гроши…
– Ясно…
Черников направился к выходу.
Желтков заторопился следом.
– Ты же понимаешь, первый проверяющий из гороно – и мы с тобой оба полетим со своих мест…
– Я понимаю, – с улыбкой произнес Черников, стоя у двери. – Но я рад, что ты хотел помочь… А насчет факультатива подумаю.
– Надумаешь, приходи, – обрадованно произнес Желтков. – Уж тут-то я как-нибудь тебя прикрою…
В двух областных газетах на работу принимали редакторы. В партийной к Запятину, с которым у него отношения и так были не очень, к тому же тот был членом бюро обкома партии, а значит, просто не мог себе позволить совершить опрометчивый поступок, он не пошел, а вот к Жене Латышеву в «молодежку» заглянул. Тот, как всегда улыбчивый и не по-редакторски гостеприимный, напоил чаем, повосторгался его нашумевшим выступлением, поцокал языком по поводу выхода из партии и наконец предложил:
– Пиши под псевдонимом. И присылай письмами. А гонорар мы тебе будем перечислять на сберкнижку. Пока не догадаются, будем публиковать, а догадаются, так и я ни при чем, и ребята… Ну, выговор влепят за потерю бдительности…
И засмеялся.
Женя был хороший парень, но несерьезный. И тем более не революционер. Именно сейчас Черникову необходимо было, чтобы его читали, чтобы имя его не исчезло со страниц газет…
Он занял Черникову денег, сказав, что тот возвратит долг, когда сможет, еще попытался уговорить печататься под псевдонимом, получил нетвердое согласие и проводил до выхода из редакции, оживленно беседуя по пути, так что всем сотрудникам было очевидно, что Черников ни в какой не в опале, и с ним общаться можно.
Самым лучшим вариантом было бы уехать из Иркутска. Но он еще тосковал по Юлиным нелепым вопросам и искреннему восторгу при виде его, и он позвонил Дробышеву.
Дробышев встретился с ним на улице.
Они погуляли по-над незамерзающей, но обметанной льдистой кромкой Ангарой, и из приятельского разговора Черников понял, что и присылаемые ему из Москвы книги (среди которых были не рекомендуемые для прочтения и изъятые из общественных библиотек), и его опека тайного студенческого общества (все-таки есть стукач!), и выступление на конференции, и, наконец, выход из партии сложились в один логический ряд его диссидентства, когда речь идет уже не только о том, что ему не место в идеологических органах, но и в обществе…
– Загнал ты себя, Боря, в угол. И напрасно… – негромко говорил Дробышев, окидывая внимательным взглядом редких прохожих. – Кое-что в нашем обществе не соответствует идеалам, но в этом виноваты конкретные люди. Указал бы этого конкретного старшего товарища, покритиковал бы того же Цыбина, все было бы замечательно.
А ты огульно, на всех сразу…
– Вася, давай не будем устраивать диспут. Подскажи, что делать, тебе со своей колокольни далеко видать…
– Перспектив никаких, – жестко произнес тот. – Еще что-нибудь подобное выкинешь, пойдешь декабристскими тропами… Уезжай куда-нибудь…
– Не могу…
– Девочка держит? – хмыкнул он.
– И об этом знаете…
– Работа такая… Но ведь не жена, можешь и оставить…
– Считай, жена, – вдруг брякнул Черников. – Вот только Нина развод даст…
– В таком случае… – Дробышев подумал. – Устройся куда-нибудь слесарем, что ли…
– Какой из меня слесарь…
– Дворником, сантехником… Кем угодно, только чтобы не слышно и не видно было. Пока все забудется…
– Дворником?.. Слушай, а в твоем ведомстве на эту должность вакансий нет?
– Пошел ты к черту… Нашел время шутить… Между прочим, дворник жильем обеспечивается…
– Это я знаю…
– Ну так и подумай, я тебе угол не выделю… Тем более с молодой женой… На мели?.. – Дробышев стянул перчатку, достал из внутреннего кармана бумажник, отсчитал несколько купюр. – Возьми на первое время.
– Не знаю, когда верну, – помедлил Черников.
– Когда будут, тогда и вернешь, – сказал тот. – И все-таки, я бы советовал тебе уехать.
Они пожали друг другу руки и разошлись…
Черников шел по снежному городу в общежитие, где спал на полу между четырьмя кроватями, и все более понимал, что Дробышев прав, ему действительно нужно уезжать. Пока только из этого города. Подумал, что вот так же, вероятно, обкладывали Александра Солженицына, Виктора Некрасова, Георгия Вадимова… Только у него еще множество городов в этой стране, а у них была открыта лишь одна дверь…
И оттого, что он попадает в этот почетный для мыслящих людей ряд, настроение улучшилось. Страшно не хотелось чувствовать себя чужим в маленькой комнате, отворачиваться от переодевающихся Юлиных подружек, засыпать под их шепот, придерживая рукой опущенную Юлину ладонь и преодолевая желание непокорной плоти.
И он поехал к Асе.