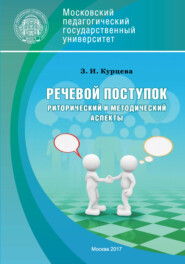 Полная версия
Полная версияРечевой поступок: риторический и методический аспекты
Закономерным является факт обращения исследователей к голосу и интонации как профессиональным характеристикам личности. В рамках научной школы профессора Т. А. Ладыженской (Г. Б. Вершинина, А. А. Князьков, О. В. Филиппова и др.) изучается педагогический голос, который определяется как «профессионально сформированный голос, в полной мере обеспечивающий звуковую сторону общения». Комплексная характеристика педагогического голоса включает в себя «такие параметры, как потенциально высокий уровень громкости, широкий динамический и высотный диапазон, разнообразие тембров, благозвучность, полетность, помехоустойчивость, суггестивность, адаптивность, гибкость, устойчивость, выносливость, выявляет его специфику по отношению к другим профессиональным голосам, таким, как певческий голос, командный голос, сценический (актерский) голос, дикторский голос» [381, с. 137]. Для речевого поступка наиболее актуальными являются такие характеристики голоса, как тембр, который, по словам А. А. Князькова, имеет важное коммуникативное значение, так как помогает «гораздо легче <…> установить контакт с собеседником или с аудиторией, если говорящий обладает приятным, красивым тембром голоса» [381, с. 242], и суггестивность, которая «позволяет в некоторой степени направлять мыслительную деятельность слушателей, эмоционально окрашивая произносимый текст и тем самым расставляя эмоционально-смысловые акценты» и которая в некоторой степени «перекликается» с описанием интонации [там же, с. 237]. Повлиять на мнение ученика, на его действия учитель может лишь в том случае, если сам убежден в том, что говорит. Важно, что в современных исследованиях рассматриваются вопросы, связанные с обучением интонационным умениям, входящих в сферу коммуникативной компетенции учащихся [159].
О. В. Филиппова называет следующие функции интонации в высказывании: грамматическую (разграничительную, объединительную, смыслоразличительную и коммуникативную), эмоциональную (тембр и темп речи) и стилистическую, к которой тесно примыкает интонация, связанная с характеристикой говорящего [328, с. 10–13]. Полагаем, что характеристика говорящего соотносится не только со стилистической, но и с эмоциональной функцией интонации. Автор на основании стабильных акустических признаков выделяет четыре группы интонем[37]: интеллектуальные (актуального членения, связи, важности, утверждения, вопроса), волюнтативные (совета, приказа, просьбы), эмотивные (гнева, испуга, обиды, стыда, радости, удивления, печали, равнодушия, презрения, нежности), изобразительные («большой», «маленький», «быстрый», «медленный»). В вышеприведенном примере в монологе героини звучат эмотивные интонемы и «предательские» движения: «пальцы торопливо и зло мяли ремешок сумочки».
Интонация оказывает существенное влияние на характер речевого поступка: он может быть плохим или хорошим, вежливым или невежливым. Воздействующая сила интонации приводит как к кооперативному, так и конфликтному общению. В речевом поступке (позитивном и негативном) актуальными являются интеллектуальные, волюнтативные и эмотивные интонемы. Так, в определенных ситуациях общения адресат просьбу воспринимает как приказ, совет – как угрозу, комплимент – как лесть, извинение – как одолжение потому, что говорящий использует несоответствующие жанру (но отражающие характеристику человека) интонемы. Кроме того, подобная переакцентуация происходит из-за нарушения основных этикетных правил или отсутствия кодифицированных речевых формул – все это свидетельствует о неблагополучном протекании общения и как следствие – о негативном речевом поступке.
Авторы исследований, посвященных проблемам коммуникации, особо рассматривают тональность, выполняющую роль регулятора общения: изначально заданный тон определяет ход речевого общения, а неверно взятый тон может привести к коммуникативной неудаче (Е.П. Захарова, Т.О. Багдасарян и др.). Тональность «присуща текстам всех речевых жанров, независимо от социо- и этнокультурной принадлежности их авторов. Конечно, в научном или официально-деловом стиле варьирование тональности ограничено рамками институциональности, но позиция автора, тем не менее, просматривается» [31, с. 241][38].
Например, как мы отмечали ранее (см. разд. 1.4), в заявлении Л. К. Чуковской отчетливо выражается тональность возмущения, негодования. Е.П. Захарова, описывая коммуникативную категорию тональности, использует понятие «тональная рассогласованность», которая возникает в общении представителей разных культур, разного возраста, разного социального, профессионального статуса, «когда не учитываются эмоциональный настрой коммуникантов и общая эмоциональная атмосфера общения», когда различаются цели коммуникантов или намеренно игнорируются коммуникативно-этические нормы [114, с. 175–176]. В речевом поступке тональная рассогласованность может нести положительный или отрицательный заряд, как, например, в ситуации, приведенной ниже:
В тяжелые годы Отечественной войны родные с тревогой и надеждой ждали писем с фронта. В эту коммунальную квартиру; где жили две соседки, давно не заглядывал почтальон дядя Миша. А вот сегодня им повезло: письма получили обе – и Надежда Павловна, и Лиза.
Надежда Павловна бережно взяла конверт-треугольничек и стала читать: «Мама! На отдыхе я. А потому есть время с тобой поговорить. Очень жаль, что разговор наш будет последний. Хорошо бы ты это письмо никогда не получала, а дождалась бы меня. Я напишу его и буду носить на груди. Если убьют, хоть и запоздало, но все же мы с тобой, как раньше, вдвоем потолкуем.
Я ушел на время от вас. Ты не плачь, мама! Я тебя только прошу о сыне – об Алешке. Ведь у него тогда и отца не будет. Погладь ты его по головке, сказку ему расскажи и за меня поцелуй…
Мама, вот кончится война, подлечит глубокие раны страна, и снова вольготно народ заживет. Глядишь, и мой Алик школу кончит и на машиниста пойдет учиться.
Стройте, живите, трудитесь, учитесь и для всех счастливую жизнь создайте.
Прощайте, Алик и мама! Обоих крепко целую.
Ваш Яблочкин Павел».
Дочитав письмо до конца, Надежда Павловна закрыла глаза, слезы медленно стекали по ее щекам. Рука, в которой было письмо, онемела и неподвижно лежала на коленях.
В раскрытые двери с шумом вбежала Лиза и взахлеб стала делиться своей радостной новостью с соседкой: «Надежда Павловна, дорогая, Игорь ранен (но ранение не тяжелое), и его переводят в наш госпиталь. Я его скоро увижу! Он жив! Жив!»
Надежда Павловна с трудом справилась со своими чувствами и прошептала: «Лизонька, я очень рада за тебя. Твой Олег жив…»
Лиза подошла к Надежде Павловне и только тогда увидела, что та, сдерживая глухие рыдания, плачет. Молодая женщина осторожно коснулась рукой до плеча соседки и тихо произнесла: «Простите меня…»
Рассматривая соотношение речевого поступка и речевого этикета, необходимо обратиться к такому компоненту невербального общения, как коммуникативно значимое молчание. О втором типе молчания (в отличие от ролевого вежливого молчания слушающего: не перебивать, выслушивать, дослушивать и т. и.), для нас наиболее важном, Н. И. Формановская пишет: «Другой тип молчания принадлежит роли говорящего, когда партнер ожидает от него словесной реплики, но вместо этого получает молчание. В этом случае предстоит интерпретировать молчание как своеобразное речевое действие с интенциональным, эмоциональным, оценочным содержанием в зависимости от предшествующего дискурса, ситуации и обстановки общения, взаимоотношений общающихся и т. д. Это может быть согласие (молчание – знак согласия), нежелание отвечать, затрудненность подыскивания слова, стеснительность, нерешительность, наконец, укор, упрек, обида и др.» [333, с. 50]. Молчание в речевом поступке (подробно об этом см. разд. 1.6) может выражать сочувствие (РП+), упрек (РП-) либо являться образцом сдерживания негативных эмоций, словесной агрессии (РП+). В приведенном выше примере (с. 105) молчание Генриетты Павловны было настолько красноречивым, что ученица смогла внутренне озвучить его: «Таня покраснела и посмотрела в глаза учительницы. Глаза смеялись. Они дразнили Таню, издевались над ней: “Вот я тебя подловила! Теперь я над тобой покуражусь! Ха! Ха! Ха!”»
К категории вежливости следует отнести также такое качество личности, как терпимость (в современной терминологии – толерантность, коммуникативная толерантность[39]). Терпимым С.И. Ожегов называл человека, «умеющего без вражды, терпеливо относиться к чужому мнению, характеру и т. и.». В. И. Даль определяет терпимость как «терпимость веры, разных исповеданий, терпимость личных убеждений». Воздействующая сила речевого поступка будет более эффективной, если, обращаясь к собеседнику, говорящий изначально будет настроен позитивно, принимая адресата таким, какой он есть.
Выводы
1. Для речевого поступка важны такие функции речевого этикета, как:
фатическая функция – установление и поддержание контакта с адресатом;
направленность на кооперативное, доброжелательное, толерантное общение;
учет социальных условий общения;
сдерживание агрессии со стороны партнера по общению.
2. Результативность речевого поступка зависит от цели, темы, условий фатического общения, которое должно быть направлено на РП, обеспечивающий адекватное взаимодействие партнеров коммуникации.
3. Категория вежливости в речевом поступке является приоритетной и способствует эффективному взаимодействию и взаимопониманию собеседников.
4. Этикетность речевых поступков (положительная/отрицательная) зависит от условий общения, интенции говорящих, их взаимоотношений.
5. Особую роль в речевом поступке играет интонация и тональность общения, которая предопределяет позитивный либо негативный результат РП. Необходимо целенаправленно обучать школьников и студентов коммуникативно-этическим нормам и «коммуникативной тональности» (термин Е. П. Захаровой).
В заключение отметим, что речевой поступок напрямую связан с нравственной стороной речевой деятельности. Любой речевой поступок есть речевое действие (речевой акт), однако далеко не всякие речевые действия становится речевым поступком, что происходит в случае утраты следующих признаков поступка: наличие кризисной ситуации, нравственной проблемы, требующей решения путем воздействия на себя или другого. Одно и то же высказывание в зависимости от условий конкретной коммуникативной ситуации может квалифицироваться как речевое действие или как речевой поступок.
Речевой поступок реализуется в определенных этически организованных и этически ослабленных речевых жанрах, «имена» которых нередко предопределяют качество речевого поступка (РП+ или РП-).
В речевом поступке категория вежливости играет особую роль, так как иллокутивная сила вежливого коммуникативного акта позволяет снять агрессию собеседника и повлиять на позитивное взаимодействие партнеров по общению. Однако вектор качества речевого поступка (положительный РП или отрицательный РП) в некоторых ситуациях не зависит от «этикетности» речевых действий говорящего.
1.6. Виды речевых поступков
Поскольку речевой поступок – это результат речевой деятельности субъекта, то он (РП), как и любое речевое действие, включает в себя этапы ориентировки, планирования, реализации и контроля. Так, прежде всего человек замыслиеает свое намерение, определяет некое общее направление будущих речевых действий, ориентируется в конкретной ситуации общения (ориентировка). Затем продумывает, как (речевое оформление, вид общения) он станет реализовывать замысленное (возможно, оно останется на уровне внутренней речи). Н. Д. Арутюнова определила роль этих речевых действий как «посредника между ментальной и реальной деятельностью человека, образуя вместе с ними единый комплекс» [28, с. 518]. Следующий этап – осуществление речевого поступка. Далее наступает момент контроля, контроля на уровне нравственной самооценки; как было отмечено ранее, РП всегда сопровождается рефлексией адресанта.
Таким образом, мы можем говорить о разных видах РП в соответствии с их замыслом и воплощением его (замысла) в конкретное высказывание.
Речевой поступок реальный и ментальный
Согласно психологическим теориям, внутренние психологические процессы у человека обнаруживают то же строение, что и внешнее действие, поэтому есть все основания говорить не только о внешнем, но и о внутреннем действии, «мысленной речи». Человек сначала в мыслях, во внутренней речи воспроизводит в памяти какие-либо события, переживает, оценивает, думает, размышляет и только потом осуществляет замысленное во внешней речи, для того чтобы повлиять на взгляды, изменить отношение к определенным фактам и явлениям, склонить к действиям и поступкам того, кому обращены его слова. «Внутренняя речь, – писал Л. С. Выготский, – есть особый вид речевой деятельности… Внутренняя речь есть речь для себя. Внешняя речь есть речь для других» [67, с. 303]. Внешнее же выражение, «в большинстве случаев, только продолжает и уясняет направление внутренней речи и заложенные в ней интонации» [37, с. 95].
Высказывание строится, как правило, между двумя собеседниками, «социально организованными людьми, и если реального собеседника нет, то он предполагается в лице, так сказать, нормального представителя той социальной группы, к которой принадлежит говорящий. Слово ориентировано на собеседника <…> Если мы возьмем высказывание в процессе его становления еще “в душе”, то сущность дела не изменится, ибо структура переживания столь же социальна, как и структура его внешней объективации» [37, с. 93–95].
Можно ли внутреннюю речь, молчание человека считать речевым поступком?
Высказывание Л. С. Выготского очень точно определяет характер внутренней речи: «Научный анализ очень легко обнаруживает, что самые тонкие формы психики всегда сопровождаются теми или иными двигательными реакциями… Даже мышление всегда сопровождается теми или иными подавленными движениями, большей частью внутренними речедвигательными реакциями, т. е. зачаточным произнесением слов. Произнесете ли вы фразу вслух или продумаете ее про себя, разница будет сводиться к тому, что во втором случае все движения будут подавлены, ослаблены, незаметны для постороннего глаза, и только. По существу же и мышление, и громкая речь одинаковые речедвигательные реакции, но только разной степени и силы» [66, с. 65]. С. Л. Рубинштейн образно назвал мысленную речь как «речь минус звук» [277, с. 456].
Следовательно, можно допустить, что внутренняя речь в определенных обстоятельствах будет речевым поступком.
В зависимости от способа воплощения речевые действия могут быть реальными (этап реализации), но могут оставаться на уровне внутренней речи, не переходя в «реальное, обозримое высказывание». Человек должен «хотя бы внутренне только поступать» [35, с. 46]. Такие речевые поступки мы называем ментальными, по М. М. Бахтину, даже мысль и чувство есть поступок.
По словам В.З. Демьянкова, «ментальный язык, или язык мысли, является средством для внутреннего репрезентирования психологически значимых и выделенных человеком аспектов его окружения. Только в той степени, в какой эта информация “выразима” таким языком, она может дальше подвергаться переработке процедурами, входящими в когнитивный репертуар организма: эти процедуры записаны также на внутреннем языке» [99, с. 99–101]. Несмотря на «скрытый» характер внутренней речи, она по своей синтаксической структуре является «речью, которая больше пользуется телеграфным стилем. Отрывочные замечания, как известно, аграмматичны, почти исключительно предикативны, т. е. состоят из цепи сказуемых» [66, с. 443].
Важным для нас является позиция Б. Г. Ананьева, который обращает внимание на нравственную строну внутренней речи: «Сложнейшие взаимопереплетения субъективно-объективных позиций речи определяют, как показала современная психология, не только устную и письменную речь, но и речь внутреннюю, для которой характерно сочетание редуцированных форм внутренних диалогов и монологов. Благодаря этому сочетанию объективно-субъективных позиций внутренняя речь является механизмом не только логического мышления, но и нравственного сознания с его переживаниями совести. Во внутренней речи, таким образом, наиболее глубоко сказываются эффекты общения» [8, с. 268].
Вслед за М.М. Бахтиным мы утверждаем, что мысль также есть поступок: «активен поступок в действительно единственном продукте, им созданном (реально действенном действии, сказанном слове, помысленной мысли…)» (выделено нами. – З.К.) [35, с. 37]. «Будьте внимательны к своим мыслям – они начало поступков», – утверждал Лао-Цзы. Гегель считал, что «внешний поступок не отличается от внутреннего. В злом деле и намерение, по существу, тоже бывает злым, а не добрым».
Определим сущность понятия ментальный речевой поступок.
Ментальный речевой поступок как один из видов речевого поступка являет собой нравственные размышления человека на уровне внутренней речи о том, что и как сказать в кризисной ситуации в предполагаемом будущем, а также оценку, анализ прошлого: анализ собственного речевого поведения (самообвинение и самообличение либо самоуспокоение и самоубеждение и т. п.) и оценку речевого поступка другого.
Человек должен «хотя бы внутренне только поступать». Внутренняя речь, слово, как пишет М. Бахтин, «сопровождает и комментирует всякий идеологический акт», все процессы понимания не осуществляются без участия внутренней речи [37]. Ментальный речевой поступок можно сравнить, сопоставить с процессом «думания», размышления.
Ментальный РП – это, по существу, своеобразный мысленный эксперимент, о котором пишет А. А. Гусейнов: «Этический эксперимент может быть только мысленным, так как испытываемый на моральную доброкачественность поступок вырывается из реального мира и перемещается в идеальный (вымышленный) мир, где имеют место только моральные поступки. Такое перемещение возможно только в мысли, и описывается оно языком сослагательного наклонения. В ходе мысленного этического эксперимента человек отвечает себе на следующие вопросы: совершил ли бы я данный поступок, если бы: а) у меня не было в нем выгоды; б) он был мне невыгоден; в) он целиком зависел от меня? <…> Именно эта сложная внутренняя работа, в ходе которой индивид выявляет полноту своего личностного участия в поступке, для чего идеализирует всю ситуацию (переводит ее в идеальное царство, испытывает на мыслимость в качестве идеала), а не итоговый вывод в виде краткого “поступай” или “не поступай” определяет моральный характер предписания»[40].
Что есть ментальный речевой поступок – монолог или диалог?
Ю.М. Сергеева справедливо отмечает, что между интраперсональным и межличностным общением существует сложная система взаимосвязей. Согласно теории исследователя, интраперсональное общение проявляется в трех основных формах – внутренний монолог, внутренний диалог и простое внутреннее реплицирование. Внутренний монолог является формой однонаправленного речевого воздействия индивидуума на самого себя. Внутренний диалог представляет собой последовательность встречных, диалогически взаимосвязанных высказываний, порождаемых говорящим и непосредственно воспринимаемых им в процессе интраперсонального общения. Простое внутреннее реплицирование – это невзаимосвязанные, относительно краткие высказывания, возникающие обычно в неречевых ситуациях или представляющие собой внутренний комментарий к воспринимаемой внешней речи. В совокупности эти три формы образуют непрерывный процесс внутренней коммуникации, материальным носителем которого является внутренняя речь [288, с. 6].
Вслед за Ю.М. Сергеевой полагаем, что простое внутреннее реплицирование обычно возникает в неречевых ситуациях, либо содержит внутренний комментарий индивидуума к воспринимаемой им внешней речи. «Основная прагматическая функция данной формы аутокоммуникации, – пишет исследователь, – выражение весьма широкого спектра эмоциональной оценки индивидуума. Объектом оценки, выраженной в кратких репликах, является либо вся конситуация в целом, либо ее отдельный аспект, вызывающий у индивидуума наиболее сильные эмоции. Подобное самобичевание или самопоощрение возникает обычно в неречевых ситуациях, будь то в ходе выполнения какой-либо операции на рабочем месте или в домашних условиях» [288, с. 12].
Внутренний монолог Ю.М. Сергеева рассматривает как «одностороннее речевое взаимодействие индивидуума с самим собой», что не совпадает с нашей точкой зрения: «взаимодействие» изначально предполагает другого, в данном случае – второе «Я». Л. С. Выготский образно представил характер внутренней речи: «…мысль есть разговор, но только утаенный в каком-то внутреннем органе, не доведенный до конца, не обращенный ни к кому другому, но только к самому себе» [66, с. 196].
Полагаем бесспорным утверждение автора, что внутренний монолог может служить средством успокоения, утешения, оценки индивидуумом собственного поведения, использоваться как способ осмысления отношений с другим человеком, отношений к его словам и поступкам, – все это, по нашим наблюдениям, отражает специфику ментального речевого поступка, который в основе своей являет диалог.
Внутренний диалог, по словам ученого, в отличие от внутреннего монолога, «является экстравертным коммуникативным актом, т. е. направленным вовне, на установление и поддержание речевого межсубъектного контакта (а в данном случае – и межличностного контакта, и контакта между различными ипостасями личности в пределах ее сознания)» [288, с. 14].
Развивая идеи исследователя и опираясь на выводы, к которым мы пришли в результате изучения психологических и философских основ речевого поступка, отметим, что применительно к теории нашего исследования можно говорить только о диалогической форме ментального речевого поступка, где в качестве адресата могут быть: прежде всего второе Я индивидуума, отсутствующий или потенциальный собеседник; что же касается нададресата[41], то в нашем случае в зависимости от намерений он может служить своеобразным адресатом для нравственных размышлений, исканий личности, например, в слове раскаяния.
Ментальному РП предшествует внутреннее осознание собственной интенции, максимально адекватная оценка ситуации. «Восприятие и понимание каких-либо событий, – пишут Т. А. ван Дейк и В. Кинч, – происходит не в вакууме, а в рамках более сложных ситуаций и социальных контекстов. Понимание этих событий означает то, что человек использует или конструирует информацию о взаимосвязях между событиями и ситуациями. Таким образом, понимающий располагает тремя видами данных, а именно: информацией о самих событиях, информацией о ситуациях или контексте и информацией о когнитивных пресуппозициях. Имеющаяся информация может быть объединена эффективным способом, чтобы как можно скорее и лучше (то есть осмысленно и целенаправленно) было сформировано ментальное представление события» [93, с. 158].
Вслед за Н. Д. Арутюновой полагаем, что не-дейстие (в нашем исследовании – ментальные речевые поступки) в определенных коммуникативных ситуациях играет огромную роль во взаимодействии субъектов. «Ограниченное миром человека понятие действия, – пишет ученый, – автоматически вошло в определенный жизненный цикл. В нем действию предшествует некоторая психологическая фаза, обдумывание, сравнение альтернатив, оценка, целеполагание, выбор средств, и только за принятием решения следует само действие. <…> Парадоксально, что <…> следствием ограничения действия человеческими поступками оказалось расширение экстенсионала этого понятия – в него вошли и не-действия, воздержание от действий, отказ. <…> Многие действия предписываются человеку социальными и нравственными нормами или обязательствами. Их несовершение составляет “нулевое действие”, едва ли не менее результативное, чем реальная акция» [29, с. 385].
Рассматривая молчание в ситуации общения, диалога, необходимо сказать, что оно является также этапом, предшествующим высказыванию, реализованному или нереализованному. «Это – тоже ситуация, – пишет О. Розеншток-Хюсси, – и заключается она в молчании. Ведь молчание – это самая настоящая социальная ситуация. Молчать я могу, потому что я один, потому, что не появился другой человек. Молчать я могу и потому еще, что мне не пришло в голову ничего особенно нового, чем я должен был поделиться с этим другим человеком. Молчание далее может означать, что между присутствующими царит полное согласие и не возникает вопросов, которые нужно обсудить. И, наконец, молчание может преобладать в силу того, что собравшиеся вместе не знают, как заговорить друг с другом, – из робости, смущения, опасений или враждебности» [275, с. 124–125].



