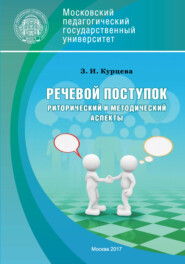 Полная версия
Полная версияРечевой поступок: риторический и методический аспекты
Речевое поведение личности, в том числе и речевой поступок, «в значительной мере реализуется с помощью узуально закрепленных стереотипов общения» [332, с. 7], которые определяются ситуацией, видом общения (устное/письменное, монолог/диалог, официальное/ неофициальное и др.). Н. И. Формановская под речевым этикетом (РЭ) понимает «регулирующие правила речевого поведения, систему специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных обществом для установления контакта собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной тональности» [там же, с. 9]. Г[озже автор уточняет это определение: «Под речевым этикетом будем понимать социально заданные и национально-специфичные регулирующие правила речевого поведения в ситуациях установления, поддержания и размыкания контакта коммуникантов в соответствии с их статусно-ролевыми и личностными отношениями в официальной и неофициальной обстановке общения» [330, с. 240–241]. Сфера действия современного этикета довольно широка: от регуляции отношений в бытовом общении до регламентации поведения в общественной, деловой, публичной сферах, причем этикет допускает некоторые индивидуальные отклонения, касающиеся демонстрации доброжелательности и «изящества в выполнении этикетных действий» [136, с. 159].
Назовем ситуации общения, где используются устойчивые формулы речевого этикета: приветствие, прощание, благодарность, поздравление, пожелание, извинение, приглашение, утешение, соболезнование, комплимент, знакомство, одобрение, просьба, согласие, отказ, запрещение, вручение подарка, совет, предложение и др. Остановимся на некоторых жанрах речевого этикета, которые могут лежать в основе речевого поступка.
Жанры речевого этикета (просьба, благодарность, поздравление, соболезнование, комплимент, похвала, тост и др.), как правило, являют собой речевые действия, а не речевые поступки, однако и эти жанры РЭ могут быть основой речевых поступков. Например, заискивающее восхваление партнера коммуникации ради собственной выгоды (чаще всего обращение нижестоящего к вышестоящему) рассматривается нами как негативный РП, хотя существует иное мнение: «угодливое восхваление ради достижения собственных интересов может принимать форму комплимента, но констатирует отсутствие истинного уважения к человеку и искреннего проявления симпатии» [153, с. 259].
Такие жанры речевого этикета, как извинение, просьба о прощении, имеющие в качестве пресуппозиции плохой поступок, даже вне конкретной коммуникативной ситуации явно свидетельствуют о том, что это позитивные речевые поступки, если не брать во внимание особые случаи, когда слова извинения и утешения неискренни, формальны. Исследователи (Е.В. Артамонова, Л.Н. Чинова) приходят к заключению, что просьба о прощении и принесение извинения различаются по степени серьезности проступка и детерминируются общепризнанной нормой и типом языковой личности. Л. Н. Чинова пишет, что «принципиальная разница между ситуациями ПИ [принесение извинения] и ПП [просьба о прощении] состоит в том, что одна предполагает монолог, а другая – диалог, причем диалог, не прекращающийся до тех пор, пока не получен желаемый ответ. При отрицательной реакции адресата адресант либо продолжает попытки получить прощение, либо откладывает их, но возобновляет впоследствии вновь и вновь» [343, с. 279]. Если соотносить эти разграниченные автором ситуации с речевым поступком, то принесение извинения, на наш взгляд, – речевое действие, совершенное в ситуации ритуального общения и предписывающее соблюдение правил речевого этикета. Просьба о прощении, напротив, пример речевого поступка, который со стороны адресанта квалифицируется как позитивный РП, так как говорящий испытывает чувство вины и, воздействуя на адресата, стремится получить прощение. Однако в зависимости от условий общения и личности адресанта и адресата просьба о прощении может расцениваться двояко: как искренний РП либо навязчивые речевые действия.
Речевой поступок личности свидетельствует об уровне его речевой культуры, наиболее ярко проявляющейся в умении строить корректное общение, основой которого является вежливость, определяемая в философском словаре как «моральное качество, характеризующее поведение человека, для которого уважение к людям стало повседневной нормой поведения и привычным способом обращения с окружающими». Античные риторы также обращали внимание на вежливость в речи, «которая в словах и в оборотах, и произношении показывает особенный вкус, городским жителям свойственный и которая сопровождается почти сведениями, в обращении с учеными почерпнутыми; все же противное сем почитается грубостию» [140, с. 456]. В связи с тем, что категория вежливости в речевом поступке играет существенную роль, остановимся на этом подробнее.
Исследователи-лингвисты рассматривают вежливость[30], как «социально-культурный компонент общения, отражаемый в языке/речи», как прагмалингвистическую категорию [330, с. 61], как особую категорию, «представляющую этический аспект акта коммуникации и позволяющую создать условия для успешного общения» [153, с. 257], как качество хорошей речи[31] [345].
Н. И. Формановская отмечает, что вежливость как этическая категория (моральное качество) предполагает соблюдение человеком внешних норм общения, выражение личного доброжелательного отношения к адресату, проявление искренности, а также «культурное притворство»[32]. Полагаем, последнее (культурное притворство) следует отнести к негативным речевым поступкам, так как, сохраняя вежливую тональность общения, говорящий неискренен, «нечистосердечен»[33], хотя как речевое действие оно предпочтительно и позитивно (предположим, использование речевого этикета продавцом).
Следует отметить, что речевой жанр «притворство» соотносится исследователями с обманом, ложью, лестью, лицемерием и нередко используется в качестве манипулятивного средства. Так, Сабине Деннингхаус пишет: «Манипулятивный потенциал языка особенно четко проявляется на политическом и идеологическом уровне, а также в экономической пропаганде. В зависимости от ситуации необходимо оценивать этот потенциал как отрицательно, так и положительно, т. к. он является важным элементом в процессе социализации человека, что доказывают исследования в области социобиологии социопсихологии» [102, с. 205]. Полагаем, что в конкретных ситуациях учитель может совершить РП, в основе которого лежат манипулятивные действия позитивной направленности. Вспомним фрагмент рассказа В. Распутина «Уроки французского», где учительница вынуждена была пойти на хитрость, обман, чтобы ученик взял у нее деньги. Заключая свои размышления о РЖ притворство, С. Деннингхаус высказывает мысль, которая иллюстрирует современное состояние уровня культуры общения. Автор пишет: «…сформулированные Г.П. Грайсом и Дж.-Р. Серлем максимы – только теоретические и идеальные модели норм коммуникации, соблюдение которых в речевой “действительности” не является нормой. Напротив: скорее всего нормой является их не-соблюдение» [102, с. 213]. Учитывая характер нашей работы, направленной на развитие коммуникативно-нравственных качеств личности, мы признаем факт частого несоблюдения норм коммуникативного взаимодействия, однако постулировать данное явление считаем невозможным.
Браун и Левинсон, рассматривая универсалии вежливости, высказали «предположение о том, что все культуры обеспечивают говорящего двумя основными типами стратегий выражения импозиции, существующей в каждом коммуникативном акте. Позитивная вежливость призвана обеспечить идентификацию собеседников как партнеров, объединенных общими интересами, в то время как стратегия негативной вежливости подчеркивает автономность и независимость говорящего адресата» [цит. по: 59, с. 122]. Н.И. Формановская использует выражение «гипервежливость», имея в виду манерность, церемонность, слащавость, что целесообразно отнести к негативной вежливости. Примером позитивной вежливости может служить ситуация затянувшегося ожидания опаздывающего партнера, когда говорящий прибегает к вежливой лжи, желая сохранить речевое взаимодействие и добрые отношения с собеседником. Либо, желая показать принадлежность к конкретному сообществу и ориентируясь на конкретного адресата, говорящий намеренно выбирает такие речевые стратегии и тактики, которые позволяют в РП достичь желаемого результата (например, речевое поведение разведчика). Эту функцию, характерную для ритуалов, называют обозначением «своих» и отторжением «чужих» (К. Лоренц), или конативной функцией – функцией ориентации на адресата (Н.И. Формановская). Однако, как показывают наблюдения за реальным общением, есть такие коммуникативные ситуации, в которых вежливость имеет негативную смысловую наполненность. Ярким примером может служить использование в речевом поведении говорящего такта, любезности в качестве манипулятивных средств с целью отвлечь слушателя от истинной информации о предмете беседы [101].
Нарочитая словесная вежливость может выражать агрессию по отношению к партнеру коммуникации невербально (интонация, выражение лица, поза). Так, учитель, пренебрежительно, иронично обращаясь к старшекласснику: «Голубчик Петров! Будь любезен, помолчи, пожалуйста, твое мнение меня не интересует!» – совершает негативный речевой поступок (в присутствии всего класса унижает ученика) несмотря на то, что используются маркеры вежливости голубчик, будь любезен, пожалуйста.
В речевом поступке категория вежливости играет особую роль, так как иллокутивная сила вежливого коммуникативного акта позволяет снять агрессию собеседника и повлиять на позитивное взаимодействие партнеров по общению[34]. Категория вежливости предполагает, прежде всего, доброжелательное, уважительное отношение к собеседнику, умение говорящего/слушающего сдерживать негативные эмоции, а также знание правил поведения, речевого этикета представителей определенной социальной среды, в речевом поступке откладываются и запечатлеваются определенные традиции выражения отношений, свойственные той или иной эпохе.
Г. Р. Шамьенова считает, что нормы вежливости, с точки зрения их исполнения, могут быть императивными (требование быть уважительным, тактичным, великодушным, доброжелательным, внимательным, сдержанным в выражении негативных эмоций), рекомендуемыми (эти «требования характеризуют прежде всего самого говорящего как личность, а потом уже способствуют контактоподдержанию – быть понимающим, симпатизирующим, скромным в обнаружении собственных достоинств, следовать принятым данной общественной средой правилам поведения») и факультативными, которые «обусловлены логикой естественного живого общения в разных ситуациях, жанрах речи, целями взаимодействия» (требования быть одобряющим и соглашающимся) [345, с. 179–180].
В. Е. Гольдин соотносит «главный способ применения этикетных знаков» [82, с. 39] – вежливость – с достоинством личности, которое «нужно утверждать самому». И зависит становление этого качества «от личных моральных качеств человека, от того, на что направлены его действия в обществе, насколько все его поведение соответствует принятому в обществе представлению о достойном» [там же, с. 42].
Общеизвестно, что вежливое общение способствует созданию положительной эмоциональной атмосферы. Существуют определенные тактики вежливости: предупреждение негативной реакции адресата, возражение под видом согласия, некатегоричное возражение, высказывание отрицательной оценки под видом демонстрации уважения, некатегоричная оценка, отстранение оценки непосредственно от собеседника, признание возможной ошибочности своего мнения, признание права собеседника на свободное волеизъявление, предоставление свободы действий адресату при демонстрации своей позиции, оправдание нежелательных действий по отношению к адресату по не зависящим от говорящего причинам либо не находящимся в его компетенции [345, с. 185–186].
Приведем примеры речевых поступков, где используются некоторые из перечисленных выше тактик вежливости.
После уроков мама Наташи заходит в класс.
Мать (категорично). Здравствуйте, я пришла поговорить с вами.
Учитель. Здравствуйте. Я рада, что вы пришли. О чем вы хотите поговорить? (Предупреждение негативной реакции. Настрой на кооперацию.)
Мать. Я ничего не понимаю. В предыдущей школе Наташа была почти отличница… Наташа очень умная девочка. Учительница не хотела нас отпускать, говорит: «Счастливый тот учитель, к кому попадет ваша дочь!» Но как только мы попали к вам, девочка стала хуже учиться, в тетрадях и в дневнике «4» и «3». Вот за что сегодня «3» по математике?
Учитель. Наташа решала у доски примеры. Пока они даются ей с трудом. (Некатегоричная оценка).
Мать. Да мы дома каждый вечер решаем.
Учитель. Да, это очень хорошо, что вы ей помогаете, дополнительно решаете задачи, но в классе Наташа допускает недочеты в оформлении задачи, небрежно делает запись. (Возражение под видом согласия).
Мать. Что же, если у моей дочери такой почерк, то вы теперь всегда ей будете занижать оценки? Вы что, даже не понимаете, что этим отбиваете у детей желание учиться?
Учитель. Дело не в почерке. Ваша дочь, действительно, способная девочка, но она бывает невнимательна. Отвлекается, а не дослушав, допускает ошибки. (Похвала + некатегоричная отрицательная оценка.)
Мать. Конечно, посадили за последнюю парту. За последней партой даже отличник троечником станет.
Учитель. Но я пока не могу посадить ее ближе, Наташа высокая, стройная девочка. (Аргументированность + комплимент.)
Мать. Ладно, все ясно.
Как известно, жанры речевого этикета (тематически специализированные РЖ) относят к фатическому общению[35], которое традиционно предполагает установление и поддержание контакта с собеседником, жанры фатического общения выступают как «форма презентации языковой личности» [341, с. 9]. К.Ф. Седов вслед за Т.Г. Винокур[36] подчеркивает, что в повседневной коммуникации жанров фатического общения значительно больше в сравнении с жанрами информативными, хотя «в реальной речевой практике информативная и фатическая иллокуция тесно переплетены в рамках любого жанра» [284, с. 21].
Фатическое общение, в представлении Т.Г. Винокур, – это не только установление и поддержание контакта, но, прежде всего, само общение, желание обменяться впечатлениями, мнениями, причем главной фатической интенцией является удовлетворение потребности в общении. Так, ученый отмечает, что «речевой контакт есть прежде всего контакт социально-психологический, и в этом качестве он является главной целью фатического речевого поведения» [60, с. 137], что в зависимости от цели и условий общения ведущим фактором оказывается тип отношений между говорящими: между незнакомыми, малознакомыми, хорошо знакомыми людьми, между близкими друзьями или в семье и при случайном знакомстве [там же, с. 138–139].
Фатическому речевому поведению свойственно «свободное и раскованное обнаружение индивидуальной манеры говорящего, которая предоставляет право использовать весь диапазон коммуникативных ролей-функций», объединение «столь разнородных явлений – болтовни, сопровождающей какое-либо другое действие, речевого этикета и духовного общения» [60, с. 136–137], которые осуществляются в «жанрово-ограниченных ситуациях».
Т. Г. Винокур изредка использует понятие «речевой поступок», но не делает акцента на его нравственной составляющей, соотнося его с любыми речевыми действиями в фатическом общении. Так, заключая свои рассуждения о речевом фатическом поведении, ученый пишет: «Значимость темы, цели и условий фатического инварианта речевого поведения в коммуникативном процессе определяется через идентификацию изначального импульса, ведущего к данному речевому поступку и обеспечивающего адекватное взаимодействие партнеров коммуникации – говорящего и слушающего» [там же, с. 158]. Как видим, автор не разграничивает РП и РД.
В. В. Дементьев, К. Ф. Седов развивают мысль Т. Г. Винокур, считающей, что в человеческом поведении (фатическом) «особую роль играет тип стилевого отбора, достигающий конфликтного или бесконфликтного результата путем выполнения коммуникативных ролей, в рамках которых выравнивается речевой опыт, отыскивается общий язык» [60, с. 157]. Так, В.В. Дементьев к фатическому общению относит речевые жанры как улучшающие межличностные отношения (разговоры по душам, признания, комплименты, флирт, шутка), так и ухудшающие межличностные отношения (выяснение отношений, обвинения, оскорбления, ссоры, издевка, похвальба, розыгрыш) [97, с. 39]. Он пишет: «Выделяется пять основных типов фатических речевых жанров (ФРЖ): (1) ФРЖ, ухудшающие межличностные отношения в прямой форме: оскорбления ссоры; (2) ФРЖ, улучшающие межличностные отношения в прямой форме: признания, комплименты; (3) ФРЖ, ухудшающие отношения в косвенной форме: колкость, издевка; (4) ФРЖ, улучшающие отношения в косвенной форме: шутка, флирту (5) праздноречевые жанры: межличностные отношения не улучшаются и не ухудшаются, степень косвенности – приблизительно 14» [97, с. 38–39; 96, с. 86].
Как известно, обращение к собеседнику на ты или Вы свидетельствует о степени знакомства, официальности/неофициальности обстановки общения, взаимоотношении коммуникантов и равенстве/ неравенстве статусно-ролевых позиций общающихся [330; 332]. Так, в ситуации педагогического общения эти формы обращения свидетельствуют прежде всего об асимметричном положении коммуникантов (учитель – ученик), но в зависимости от условий общения поступок будет инструментироваться по-разному, учитель может использовать их в качестве знакового компонента речевого поступка. Выбор учителем Вы-формы обращения к ученику, а не ты-формы в определенной коммуникативной ситуации соотносится с речевым поступком: а) позитивным РП, когда педагог в отличие от привычного ты-обращения переходит на Вы, выражая в подчеркнуто вежливом обращении свое отношение к некоему проступку ученика и делая таким образом ему замечание; б) негативным РП – в случае пренебрежительного, намеренно отрицательного отношения педагога к конкретному ученику
В фатическом речевом поведении важную роль играет понимание самого коммуникативного намерения. Т. Г. Винокур пишет: «Это понимание не столько смысла высказывания – отдельного или их совокупности, сколько понимание человека, понимание, осуществляющееся через соотнесение смысла и ситуации высказывания на основе так называемых автоматизмов, определяющих варианты человеческого поведения» [60, с. 157]. Эта мысль особенно важна для нашего исследования, так как эффективность речевого поступка будет определяться полученным результатом общения – состоялось или не состоялось взаимопонимание, удалось или не удалось говорящему вызвать потребность адресата задуматься, поразмышлять о предмете разговора. Приведем пример ситуации, где опытный учитель не реагирует на выходку ученика и сглаживает возможную конфликтную ситуацию (урок в 5-м классе):
Учитель раздает тетрадки и говорит:
– К сожалению, Артем не постарался, выполняя проверочную работу, и получил отрицательную оценку.
Артем швыряет тетрадь на парту и, передразнивая учителя, произносит:
– Не выполнил и получил плохую оценку. (Класс смеется.)
Учитель на мгновенье замер, не ожидая такой реакции на свои слова, затем спокойно продолжает урок:
– Сейчас мы выполним работу над ошибками. Откройте полученные тетради и запишите предложение. Артем тоже работает вместе со всеми.
Видя, что никто больше на него не обращает внимания, через некоторое время Артем включается в работу.
В фатике особое место занимает не получивший настоящего осмысления, специфичный для русского менталитета гипержанр разговор по душам, задушевное общение (об этом пишут В.В. Дементьев, А. Д. Шмелев), который в традиционной русской речевой культуре относится к жанрам гармонического общения, хотя в последние десятилетия разговор по душам нередко воспринимается как «социально непрестижный жанр» [95, с. 238–239]. Для педагогического общения, полагаем, характерен жанр доверительной беседы: в случае возникновения некоей кризисной ситуации учитель, пользующийся уважением и доверием ученика, может расположить его к откровенному разговору, помочь ему разрешить какие-либо проблемы или просто выслушать его.
Как мы выяснили, вектор качества речевого поступка (положительный РП или отрицательный РП) нередко не зависит от «этикетности» речевых действий говорящего. Так, искренние комплимент, признание (в любви, дружбе), благодарность и пр. являются позитивным речевым поступком (РП+), а манипулятивная вежливость (например, лесть) – пример негативного речевого поступка (РП-), несмотря на то что адресантом совершаются этикетные речевые действия. В то же время неэтикетные, эмоциональные речевые действия в кризисной, критической ситуации общения (предупреждение, запрещение, уговоры и др.) могут быть позитивным речевым поступком (РП+). Агрессивное же речевое поведение (угроза, обвинение, ссора и т. и.) является неэтикетным негативным речевым поступком (РП—).
Существенную, а в некоторых случаях главную роль в этикетном/ неэтикетном речевом поступке играют невербальные средства коммуникации, позволяющие безошибочно оценить речевой поступок говорящего. Приведем лишь один пример:
«Как-то я простудился, и ко мне пришли ребята из нашего класса. Они не знали, что польский лак для паркета – это “ужасный дефицит”, и ввалились в комнату прямо в ботинках. <…> Увидев ребят, тетка остолбенела. Я подумал, что она сейчас раскричится на весь дом, но вместо этого она вдруг… улыбнулась.
– К нашему Тимочке ребятки пришли… – Голос у тетки был мягким, ласковым, а пальцы торопливо и зло мяли ремешок сумочки. – Какие хорошие, сознательные ребятки… Такие никогда не бросят товарища в беде, правду я говорю? – “Ребятки” побагровели и уныло повесили головы. – Я очень рада, Тимочка, что у тебя такие замечательные друзья. Только почему вас так мало! Раз, два, три… всего восемь. Вы в следующий раз всем классом приходите <…>
– Тим, мы, пожалуй, пойдем, – тихонько сказала Натка – от обиды у нее задрожали губы» (М. Герчик).
Вежливые слова: очень рада; замечательные друзья; хорошие, сознательные ребятки; никогда не бросят товарища в беде, – вне контекста содержащие положительную оценку, не случайно воспринимаются одноклассниками Тима как недоброжелательное высказывание: интонационный рисунок монолога «тетки» содержал целую палитру негативных «красок» – раздражение, недовольство, злость, нетерпимость и т. п.
Невербальный компонент устной речи (в аспекте нашего исследования) является ярким показателем отношения говорящего к адресату (искреннее/неискреннее, доброжелательное/недоброжелательное) и к содержанию информации (правдивая/неправдивая). Как правило, к невербальным средствам устного общения относят кинесику, кинетический язык (взгляд, мимику, жестикуляцию, позу) и проксемику (движение, молчание, физический контакт: рукопожатие, похлопывание по плечу и т. и.).
Приведем фрагмент повести Ю.Я. Яковлева «Гонение на рыжих», где «смеющиеся глаза» учительницы выражали крайне недоброжелательное отношение к ученице.
«Генриетта Павловна заметила, что девушка смотрит не на доску и не слушает объяснений. Некоторое время учительница наблюдала за Таней. Потом она сказала ледяным голосом:
– Вьюник, не смотри на Князева.
Она могла бы сказать: “Вьюник, слушай урок”. Или: “Вьюник, не вертись ”.
Но она сказала: “Вьюник, не смотри на Князева ”.
По классу покатился ядовитый смешок. Таня покраснела и посмотрела в глаза учительницы. Глаза смеялись. Они дразнили Таню, издевались над ней: “Вот я тебя подловила! Теперь я над тобой покуражусь! Ха! Ха! Ха! ”
<… > Горячий стыд так сковал девушку, что она не могла ни пошевельнуться, ни вымолвить ни слова. А смеющиеся глаза продолжали проникать во все Танины тайники и смеяться над ними. Таня опустила глаза».
Интонация занимает особую позицию в устной речи: между словом и не-словом. Мы придерживаемся точки зрения тех ученых (Г. Б. Вершинина, А. А. Князьков, Л.Г. Тумина, О.В. Филиппова и др.) [381], которые склонны относить интонацию (интенсивность, мелодика, логическое ударение, пауза, темп, тембр) к невербальным средствам коммуникации: мы скорее верим тому, как, а не что говорят (вспомним «молодец» в оценочной речи учителя или «иди сюда» А. С. Макаренко). На роль интонации в поступке обращал внимание М. М. Бахтин, который писал: «…слово не только обозначает предмет как некоторую наличность, но своей интонацией (действительно произнесенное слово не может не интонироваться, интонация вытекает из самого факта его произнесения) выражает и мое ценностное отношение к предмету» [35, с. 40].



