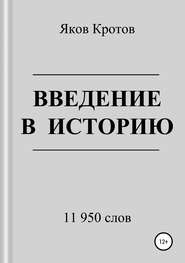 Полная версия
Полная версияВведение в историю
«Восстановление единства», однако, может быть фальсифицировано и фальсифируется в первую очередь. Единству противостоит не разобщённость, а ложное единство. Применительно к истории это означает необходимость борьбы с зашумлением.
Вот интеллектуальная жизнь XVI столетия. Абсолютное большинство писавших тогда людей и книг, ими издаваемых, принадлежали к Средневековью, а вовсе не к Возрождению. До сих пор лежат неопубликованными десятки тысяч рукописей схоластических богословов. Было бы ошибкой их публиковать, было бы антиисторично изучать историю XVI века пропорционально количеству написанного и опубликованного. Историки обязаны были отфильтровать это псевдо-изобилие, этот мыльный пузырь, который раздувался властью, светской и церковной. Однако книжечка Эразма важнее для истории человечества, чем вся печатная продукция всех богословских факультетов Европы того времени. Насколько трудно это воспринять, видно из того, что далеко не всегда понимают, что Реформация и Контрреформация – «пустые» явления, светящиеся отражённым от Ренессанса света, по сути же представляющие собой извращённые, в средневековых формах поиски того, что в нормальном виде осуществлялось Возрождением.
Иногда пустота исторических явлений, их «неявленность» выявляется задним числом. История русского православия XIX века запечатлена в тысячах книг того времени, зафиксированы биографии множества деятелей Церкви, иногда до дня описаны те или иные проекты. Между 1917 годом и 1991 годом эти книги воспринимались как описание чудной и плодородной Атлантиды.
Наступил 1991 год и возрождение – нет, не Возрождение, и даже не реставрация, а возрождение как воссоздание государственного православия. Воссоздание неуклюжее, корявое, итогом которого стал большевизм в православной упаковке, имеющий мало общего даже с дореволюционным православием, не говоря уже о Христе и Церкви. Но количественно – опять появились десятки тысяч церковных «деятелей», «богословов», стали выходить тысячи книг. Потому и тратит государство деньги на эту дымовую завесу, что хочет оттеснить реальность, жизнь, хочет «потёмкинским православием» предотвратить появление настоящего. Историк, безусловно, не обязан с этой дымовой завесой бороться, но обязан не вводить в неё читателя, обязан даже поставить указатель: «Тут обитает ничто». Не мины, но болото.
А как же любовь к ближнему? Может быть, она в том, чтобы, воздерживаясь от «историзации» бюрократических обманок, всё-таки снизойти к людям, которые в этом обмане проводят всю жизнь, делают карьеру, любят, ненавидят, детей рожают? Люди-то реальные?
Люди реальные, а их карьеры – нереальные. В том-то и ужас царства кесаря что оно перерабатывает жизнь в нежить. Однако, это не означает, что историк должен отступить перед тем адом на земле, который украшен невидимой, но хорошо известной надписью: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Напротив: историк может и должен изучать и эту сферу, тем более, что для многих эпох, для подавляющего числа никаких других сфер и не сохранилось. Надо трезво понимать, что Александр Македонский тот же Гитлер. Что ж, не изучать Александра Македонского? А почему Гитлера не изучать? Сталина? Путина? Изучать-изучать, делать из этих лимонов лимонад. Только изучать не бесчеловечное в них, не то, что сами эти персонажи хотели бы предложить для апологии – и предлагали. Изучать деформации, чтобы обнаружить формы. «Апофатическая история», «история от противного».
Да, это будет скорее история человеческой слабости – но именно в слабости скорее, чем в силе, открывается человечность. Безусловно, это не означает, что историк не должен делать усилия по розысканию источников для освещения жизни людей «обычных», «безвластных», «массы», которые и сами, возможно, хотят спрятаться от освещения. Должен, иначе будет нарушена пропорция в пользу тех, кто достаточно силён, чтобы покупать себе будущее, заставлять потомков помнить прежде всего о себе, истребляя память о других.
Милитаристская ложь об истории
Геродот отец не истории, он отец милитаристской лжи об истории. До Геродота была милитаристская правда.
Египетские, вавилонские, да и еврейские владыки честно и прямо сообщали, что пошли и завоевали, обратили в рабство, вырезали, уничтожили. Набожные ссылались на волю Божию, остальные просто считали себя богами.
Геродот сочинил войну как мир, защиту своей свободы и жизни слабых. Конечно, персы нападали на греков. Персия в течение тысяч лет, как и все страны древности, нападала на всех соседей. Так ведь и греки нападали – Гомер именно об этом. Он – недостающее звено между историей как наивной войной ради войны и историей как войной ради свободы.
Гомер ещё ссылается на богов, но уже на первый план выводить восстановление справедливости. Уничтожение Трои – акт возмездия за кражу Елены Прекрасной. Впрочем, любая война – акт возмездия за кражу. Мой мир, а ты его украл! Ты самим своим существованием мой воздух вдохнул, моё спокойствие разрушил! И вот уже Александр Македонский проносит свои стулья до Афганистана, и римские орлы каркают на холмах Англии, чтобы обезопасить итальянцев.
Хуже армии только религия. В самой настоящей древности, видимо, не воевали, но уже объединялись для сооружения святилищ. Какой-то перевёрнутый мир – до всяких государств, до письменности, когда жили крохотными деревушками и жили скудно, люди сволакивали многотонные камни. Это как если бы в современном мире четыре миллиарды людей посвятили себя астрологии. Неудивительно, что от этой поры – а она длилась десятки тысяч лет, в разы дольше всей «современности» – не осталось никакой исторической памяти. Прошлое было, да сплыло, его не сделали историей. Только камни стоят.
Превращение людей в многотонные бессмысленные камни, видимо, есть первое проявление гусеничного хода истории. История – не та гусеница, которая под танком или трактором, а та, из которой шёлк. Не прямолинейное движение, которое давит всё живое, а тыканье из стороны в сторону. Не одновременное выступание всех с правой ноги, а голова уже впереди, длинное же тело подтягивается. Не чтобы среди людей были лидеры и пасомые (это ересь властолюбия), а просто есть разделение труда. В своей сфере каждый голова, а в других сферах подтягиваемся постепенно и неравномерно. И в наши дни много людей, которые ещё и Геродота не догнали, да и Гомера; на историю смотрят как фараоны или даже как рабы фараонов.
Прошлое не знает «происхождения человека от обезьяны», она знает развитие животных от более простых к более сложным (чисто количественно) организмам. Прошлое превращается в историю, когда один – один-единственный – организм говорит о себе как о человеке. Кстати, это мог быть и неандерталец – во всех людях есть примесь неандертальских генов. То, что эту примесь открыли, приятно-символично. Примитивная вера позитивистов XIX столетия в себя как авангард человечества слишком высокомерно относилась к «отсталым народам» или к «низшим классам» в собственной стране. Впрочем, Артур Конан-Дойль устами Шерлока Холмса позволил себе предположить, что внутри любого человека существует «первобытность». Только он под «первобытностью» имел в виду «дикость», ту же отсталость. Мол, человек проходит в своём развитии весь путь, который прошло «человечество». Если бы! Ведь и величайшие научные и технические открытия делались в эпоху «дикости», может быть, и неандертальцами. Точнее, одним каким-то «неандертальцем». Изобретают не «народы», а конкретный изобретатель. Или – не изобретает, если его, к примеру, убьют или просто уморят голодом. А такое бывает!
Поставь большинство современных учёных в тогдашние условия, они ничего не изобретут, они без гранта и начинать не станут. А каково было изобретателю колеса – грантов не получал, военных ещё не существовало, а если бы и существовали, они бы не знали, что заказывать. Военные стервятники, которые сперва убивают дух изобретательства, а потом заказывают что-нибудь из останков. XIX век не случайно же перешёл в первую, а потом вторую мировую войну, – могучий интеллектуальный порыв был осёдлан военными.
В результате учебники истории, как их писали в том же XIX столетии, практически невозможно читать. Это учебники не истории, а боевых действий. Какие-то Александры идут войною на Ричардов, потом движение в обратном направлении, потом какие-нибудь гунны нахлынут и сметут и александров, и ричардов, а на очереди Мао и Ленин, и почему они туда-сюда ходят, смысл хождения – не для них, а для читателя – совершенно недоступен. Если речь идёт о стране, где читатель живёт, тогда ещё видимость смысла есть. Это его не завоевали или, напротив, это он (его предки) завоевали, тем самым обеспечив ему условия для жизни. Но если смотреть со стороны, то вдруг ужасающе становится ясно, что всякие походы – это просто драка из-за куска, а то и желание выплеснуть накопившуюся злость или покомандовать.
Александр Невский имеет смысл только, если считать, что смысл твоего существования – не быть «под немцем», что бы это ни значило. Немцы бы твоих предков изничтожили или тебя изничтожат. Что вообще-то среди твоих предков, возможно, большинство как раз немцы, если не по отцу считать, это не очень понимается. Кажется, что я – существо уникальное благодаря стечению обстоятельств, и если в «обстоятельствах» – война, значит, без войны меня бы не было. Это сведение себя к «среде», а ведь уникальна-то как раз не среда, а душа. Великий художник выше «национального», и не бывает «национальной музыки». Так и литература тоже к языку привязана лишь формально, а суть любого творчества – не нацией задаётся, а то бы нацисты были величайшими творцами, а на деле – такой коктейль, такой коктейль… И дело не в том, что смешение наций особо продуктивно (это очередной расистский миф, предрассудок «бульварной генетики), а в том, что между условиями для творчества и творчеством – разрыв, пропасть, куда больше, чем между обезьяной и человеком, и никаких промежуточных звеньев даже не ищут – ясно, что их нет.
История как кровавое вскапывание, окапывание людей, словно люди это картошка, – это не просто фикция, это очень скучная фикция. Человека уверяют, что сейчас скажут самое главное о его жизни, о том, откуда он и зачем, что он может, но говорят самое ничтожное и не имеющее ни малейшего отношения к его жизни. Каждый о себе знает, что главное в нём – не результат истории, чьих-то побед или поражений, а нечто совсем иное. Человек не делается историей, а делает историю, этим и свободен.



