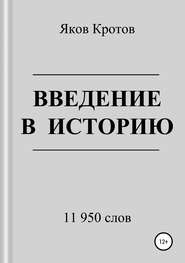 Полная версия
Полная версияВведение в историю
Все «исторические памятники» – как те самые круглые очки эпохи Гитлера, сброшенные в безумный памятник словно восьмёрки – символ бесконечности. Их жалко, эти очки, хотя мы не знаем, кому какие принадлежали. Вот эти носил, возможно, мелкий тиран семейства, а эти – святой, оба задохнулись в одной камере, и мы их обоих любим, и не дадим им кануть в небытие – достаточно того, что они канули в газовую камеру.
Платоническая любовь – вот что такое жалость к людям, не ведающая жалости к материальному миру, в котором живут людей, равнодушная к подлинности камня. Вот по этому камню ходил Христос, не смейте этот камень выкидывать и заменять каким-то таким же, только новым и сияющим! Тогда, может, перестанете, наконец, распинать людей. Чтобы к людям перестали относиться как к камням, чтобы сердце перестало быть как камень, нужно превратить камни в хлеб истории, потому что не хлебным хлебом только жив человек, но и историей, исходящей от других людей.
История живая и история мёртвая
Факты – как дрова, которые помогают согреться холодной ночью. Пошёл в лес, насобирал хворост, разжёг костёрчик и сидишь, греешься, подкладываешь по веточке. Хорошо!
Любовь к фактам как таковым вдохновляет читателей (и составителей) всевозможных книг рекордов, справочников, научно-популярной литературы и литературы вовсе не научной, но популярной. Вообще-то любая сплетня – тоже факт. Перечисление фактов чужой жизни, фактов научных, необычных, странных, – отличный способ успокоиться, обрести почву под ногами.
Поэтому историческая наука рождается из коллекционирования фактов, «антикварного» подхода к истории, совершенно так же как биология рождается из коллекционирования фактов и их систематизации. Факты «открываются», «устанавливаются», «выясняются». Факты не заменяют смысла, они даже не всегда помогают выяснить смысл, но факты дают возможность продержаться, перекусить в поисках смысла. Факты – это бисер, его не надо метать перед свиньями, нужно этим бисером играть самим.
Сила науки не в том, что она основывается на фактах, а в том, что она объединяет тех, кто умеет основываться на фактах, с теми, кто умеет лишь собирать факты. Науки без фактов не бывает, факты без науки бывают. Большинство учёных «всего лишь» собирают факты, и в этом смысле они не учёные, а так… «полевые работники». Так ведь полевые работники, а не полевые мыши, не уничтожают, а разыскивают и сохраняют. Нет способности к концептуальному, теоретическому мышлению? Ну нет, так нет, ничего страшного. Страшно, когда концептуальное мышление есть, но работает без фактов или насилует факты, не слушая никого и ничего. Средневековье-с!
Самое же страшное, своего рода триллер интеллектуальной жизни – это мозг, который принимает концепции за факты. Таков, не к ночи будь помянут, марксизм. Он вполне жив, и не только в России. Вот книга Джона Хэлдона (Оксфорд) о Византии седьмого столетия. Автор смелый человек и прямо говорит, что книга марксистская (хотя всё-таки ставит кавычки). Она действительно марксистская в том смысле, что в ней нет фактов, нет жизни, нет истории. В ней описание какого-то фантастического, не существующего и крайне уродливого мира, где есть лишь «процессы», «экономические явления», «политические отражения явлений». Человек принимает теории, концепции, собственные методологические установки за факты. То, что составляет жизнь, является жизнью, для него либо вовсе не существует (и ни одной «истории» в прямом смысле слова, да и «истории» чего бы то ни было, в книге нет), либо расценивается как «репрезентация власти».
Словечко «репрезентация» – это современный вариант слова «надстройка». Экономика – база, а жизнь – вера, любовь, творчество – это надстройка. Таков был этот взгляд на мир ещё полвека назад, теперь он лишь изменился. Экономику отодвинули на второе место, она сама стало производным, а на первое поставили концепцию «власти». Так марксизм деградировал до бандитизма, и деградация эта была неизбежна – как неизбежна была деградация экономики, организовывавшейся по Марксу.
Любовь – репрезентация власти. Вера – репрезентация экономики. Жизнь – репрезентация смерти. Изучать репрезентации не грех, но всё же небытие первично, смерть первична, а жизнь и бытие – лишь их репрезентации, надстройки. Вот философия марксизма.
Практика – во всяком случае, у Хэлдона – ужасна. Сотни страниц (и множество книг, автор плодовит до безумия) – и никаких новых концепций, новых фактов. Вообще, подобных случаев очень много, возможно даже, большинство исторических книг таковы. Человек умеет собирать факты, но анализирует их неверно. Это разновидность аутизма. Человек вроде бы говорит, но на самом деле он лишь имитирует речь. Так ребёнок года в четыре пытается шутить, но выходит глупо, да он и сам это знает и посматривает на окружающих – вышла шутка или нет. Ребёнок посматривает, а такие вот взрослые дяди – нет. Они самоуверенно топчут окружающих. Как же – формально ведь всё правильно? Слова расставлены точно таким же методом, как в других книгах? Так чем вы недовольны?
Если аутист пишет книги-антикварии, это полбеды, он хотя бы факты выдаёт. Но если аутист становится марксистом и пишет концептуальные книги – всё, это подлинный «конец истории».
Ужас в том, что университетская система беззащитна против аутистов, а насколько эта система бюрократична, она их даже поощряет. Исследователь-аутист педантичен, бесконфликтен, а его имитации социального поведения бюрократу удобнее, чем настоящее социальное поведение. Грантовая система точно так же склонна отбирать не живые, а мёртвые души, как и система учёных, целиком находящихся на государственном содержании – собственно, пример России после 1990 года показал, что шило равно мылу и даже прекрасно с ним соединяется.
«Похвала глупости» Эразма и есть издевательство над этим удивительным явлением: жизнь, поедающая себя самоё. Университеты, наполненные мёртвыми учёными. Церковь, наполненная мёртвыми проповедниками. А всё потому, что директору зоопарка удобнее иметь в вольере чучело слона, а не живого слона. Но виноват не директор, и выход не в том, чтобы сделать слона директором зоопарка, а выход в чём-то другом. Социальном контроле? Возможно. Но прежде всего – в личной ответственности учёного, который предпочтёт быть отставленным от научной институции, чем от науки. Чему в истории, к счастью, мы тьму примеров видим.
Цель, притворившаяся средством
Любую проблему можно решать через расширение или сужение пространства выбора. Труднее всего определить, какой способ наилучший. Нужно поймать преступника? Посадить всех и постепенно выпускать невиновных. Скучно тянется время с мужем? Сократить это время! В обоих случаях всё наоборот – количество арестованных уменьшить, количество времени увеличить.
История как описание прошлого интуитивно представляется процессом сужения. Проблема времени решается через отсев происшедшего. Вводится понятие «избыточное» – оно же «ненужное», «греховное», «мешающее». Самый яркий пример – церковная история, когда верующие вышелушивают из потока истории святых. Впрочем, точно так же поступают энтузиасты любой сферы деятельности, составляя историю «своих» через отбрасывание «чужих». Так пишется и «семейная история» – пишется или запоминается, рассказывается самому себе.
Такое сужение истории есть сужение сознания. Хорошо, когда человек начинает это ощущать и задыхаться. Однако, большинство людей страдают не клаустрофобией, а агарофобией: они боятся открытости реальному, они хотят превратить мир, пространство, время, в подобие шалаша, в котором рай с милым. Верующий такого типа сопротивляется подлинной истории Церкви. Слишком много греха и зла во всех звеньях, слишком простыми людьми оказываются святые, слишком сложными оказываются клеймёные чёрным злодеи.
Тем не менее, история есть не дом, защищающий от внешних угроз, распада, дождей. История есть сам мир, защищаться от неё бессмысленно и вредно. Если речь идёт о верующем, то для того ему и дана вера, чтобы он вынес отсутствие дома, продуваемость всеми ветрами и освещаемость всеми светилами, чтобы не спрашивал: «А где же святость?», чтобы был рад тому, что свет светит во тьме, зерно растёт в земле и что смысл истории не кощеево яйцо, а закваска, распределённая между всеми акторами истории.
История есть путь. В пути всегда встаёт проблема, как быть со спутниками. Они ноют, они слабые, они падают, просят привала. Не все, конечно. Так вот этих «не всех» – отфильтровать? Бросить, ради достижения цели?
Русские народные сказки учат другому: пригодится и зайчик, и тараканчик. Насильно к себе не зазывать, но и от себя не прогонять, – и не только потому, что они «могут пригодиться», а потому что те, кто сопровождают нас на пути к цели, и есть сама эта цель, притворившаяся средством.
Существование – травма, история – лекарство
История – очень оптимистический вид познания. Психология, к примеру, как и биология в целом, рассматривает существование как отсроченное несуществование. Вселенная распадается («расширяется», деликатно говоря). Энтропия – правило, жизнь – исключение. Жизни позволяется разве что плодиться, но как размножился, «отстрелялся» – так начинается старение, дряхление. «Жизненный опыт» – бусы из травм, шоков, разочарований. Суета сует и всяческая суета. Это – в лучшем случае, в худшем – Иов, не Екклесиаст. Конечно, из этих травм можно выжать лимонный сок и сделать лимонад, но в целом последнее слово не за оптимизмом и весельем, коли не считать весёлых поминок на стоический манер моего дяди Бенжамена.
История же есть игра: она искусственно создаёт пространство, в котором смерть отдельного человека не имеет большого значения. История создаёт искусственные сущности – «народ», «семья», «человечество», «эпоха». Сущности несущественные, однако, чрезвычайно практичные. Они помогают взглянуть на жизнь чуть иначе. То, что для одного человека – травма, оказывается незначительным, бессмысленным в качестве травмы и осмысленным в качестве факта. Травма разрушает, история созидает. История, а не вера в прогресс – глупая и вздорная. История позитивна не тем, что в ней возможно улучшение для каждого отдельного человека или для человечества в целом. История позитивна тем, что из букв, слогов, слов, фраз – каковыми является жизнь отдельного человеческого существа – складывается текст, книга. Мы все соавторы у бытия и его Творца. Даже, если мы погибнем бессмысленно, история нашей гибели будет иметь смысл – этот смысл вносит тот, кто говорит об этой гибели. Или – не вносит. Но это уже не история, а историоборчество.
Событие и бытие: зерно и урожай
Не случайно трудно, невозможно отделить историю как описание событий от истории как событий. Способность описывать события есть такая же исключительная способность человека, как способность творить события. Возможно, лучше говорить об этом как об одной и той же способности. Человек здоров настолько, насколько способен оглядывать своё существование, обдумывать его, наполнять его смыслами – и точно так же поступать с существованием других людей. Впрочем, человек, каким мы его – себя! знаем – лишь в очень малой степени пользуется этой способностью. Кажется, что человек болен, ограничен, что он сидит за рулём автомобиля огромной мощности и приходит в экстаз (или устаёт) преждевременно, когда разгоняет автомобиль до одной сотой этой мощности. Человек останавливается, задыхаясь от счастья, когда самое время разгоняться и расширяться далее. Так евангелист Иоанн заканчивает свою книгу парадоксом: «Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать отом подробно, то, думаю, и самому миру невместить бы написанных книг». Речь идёт, конечно, лишь о мире, каков он в наших глазах, да и не о мире, а о человеке идёт речь. Человек неспособен вместить всего, что сам же и создаёт. Один поцелуй – как бутон, его можно описывать двадцать лет. Это объясняет, как возможна «вечная жизнь», которая без такого бутонного строения обычной жизни была бы жуткой тягомотиной. Вечная жизнь и есть распускание того бутона, которым является обычная жизнь, и это расцвета в обычной жизни почти нет, он лишь слегка угадывается в истории.
Есть истории, а есть История, как есть работа и работы, а есть творчество, есть знания, а есть наука. Есть эпизоды, а есть кино. История реакции Германии на поражение в Первой мировой войне, история отношений с нацизмом философа Мартина Хайдеггера или папы Римского Пия XII Пачелли, – это истории, это разрозненные знания, эпизоды.
Так история 300 спартанцев – всего лишь эпизод, сказ, соскальзывающий в миф. Даже история войн персов с греками – не собственно История. История – это история борьбы за свободу, не потому, что свобода есть великая идея, а потому что свобода есть существенное измерение жизни каждого человека. Война же, заработок, секс – измерения не столь существенные.
История синтезируется из историй, когда объединяются истории Мартина Хайдеггера и папы Пия Пачелли, история Германии с историей Англии и других врагов Германии в войне. Это объединение по «наибольшему знаменателю», а им является человек, его жизнь, любовь, свобода. Не Германия или Англия, не философ или папа римский стоят перед проблемами освобождения из власти рода и семьи, освобождения от работы, подчиняющейся природным циклам (и, соответственно, работы, основанной на технологиях, информации, индивидуальной ответственности).
Нацизм есть крайняя форма бегства от свободы, но религиозный фундаментализм, столь распространённый и в самых свободных частях мира, есть такое же бегство, пусть не столь агрессивное. Милитаризм – черта не только советского или нацистского режимов, но психологии большинства людей на планете, пусть они и не понимают, что мыслят и ведут себя милитаристски. Они видят мир глазами насилия и потому обвиняют гуманизм и демократию в насильственности, в «проектном мышлении» и т.п. Боязнь свободы в виде демократии, боязнь свободы в виде рационального мышления, боязнь свободы в виде гуманизма, – эта боязнь переживается не абстракциями, не странами и государствами, а людьми.
История с большой буквы синтезирует не множество частных историй в одну общую, а множество общих историй в одну частную, пропорциональную личности. Подлинно соразмерны человеку не другой человек, а человечество, но выразить эту соразмерность нелегко. Есть правда «постмодернизма», предлагающего уйти от «общего» к «частному», в том, что общее как выжимка из частного есть ложь. В этом правда историков ХХ века, введших в историю личность – её тело, её психологию, её конкретный опыт. История не есть академическая картина маслом, она – мозаика. Но в этом подходе возможны срывы, когда кусочки мозаики выдают себя за мозаику, хотя они не сложились вместе. Настоящая история есть роман «Анна Каренина», а не дневники великосветской морфинистки, брошенной любовником. Не есть она и уголовное дело о самоубийстве этой морфинистки, бездушное, хотя подробное, – а именно таковы современные многотомные «академические истории».
Почему историки не делают прогнозов
Интересно непредсказуемое. Большинство событий идут по прогнозируемому пути. Пилящий сук, на котором сидит, падает. История интересна, ибо она всегда непредсказуема. То в истории, что прогнозируемо, это уже не история, а география, социология или просто бухгалтерский отчёт. Этим история и интересна. Повторяемое в истории случается, но и повторяемое непредсказуемо. «История не знает альтернатив» – вздор. История знает лишь альтернативы, причём множественные, не какой-то сатанинский выбор из двух зол.
Когда в 1990-е годы в России появилось выражение «альтернативная история», это не случайно совпало с появлением выражения «традиционная медицина». В обоих случаях имелось в виду нечто, прямо противоположное обозначаемому. «Традиционной медициной» назвали именно нетрадиционную, высосанную из пальца сразу после завтрака «нетрадиционным медицинером». Настоящая медицина, научная медицина – чрезвычайно традиционна, в ней реализуется подлинная традиция, традиция как бережное накопление, проверка, баланс нового и старого, личного и общего. «Традиционная медицина» похожа на «традиционную религиозность» – это свежий набор суеверий и полуправды, составленный для ублажения своих фантазий.
Так и «альтернативная история» оказалась великодержавнической, антисемитской, антизападнической пропагандой, категоричной, не желающей слышать о том, что есть альтернативная история. Для этой «альтернативной истории» нет альтернатив: «жиды» и «европники» обокрали Россию, приписав себе все её заслуги, и всегда будут обкрадывать, ибо своего ничего сделать не могут. Это подлинно «безальтернативная история» параноиков и агрессоров.
Настоящая же история всегда альтернативна, поэтому историк исследует – он выясняет, какая из альтернатив осуществилась, какие альтернативы были. Историк лишь улыбается, когда слышит, что нечто «невозможно». В истории возможно всё: в самой демократической стране может развиться фашизм, в России может образоваться свобода и т.п. Тут ведь действующие лица – не молекулы воды, которые, действительно, не могут договориться друг с другом и вылететь в одном направлении из стакана. Тут действующие лица – именно лица. Альтернативность истории – счастье, пока человек действует, и горе, когда человек отказался от действие или совершил действие неправильное. Но даже горе – интересно, ибо его могло не быть.
В «Бравом солдате Швейке» был выведен желторотый кадет, который рисовал схемы великих военных сражений, воспроизводя стиль тех схем, при помощи которых футбольные тренеры разбирали матчи. Этому кадету уподобляются всевозможные «историцисты», для которых история – это чисто механическое явление, может быть, с небольшой примесью органической химии. Есть чёткие законы исторического процесса, надо их знать, и тогда предсказывать развитие истории легко и приятно. Чем они и занимаются.
Правда, точность этих предсказаний ровно такая же, как у цыганских прогнозов, даже меньше, потому что цыганка всё-таки вглядывается в клиента, а эти рассудительные персонажи вглядываются лишь в предрассудки и мифы, каковыми являются всякие «исторические закономерности».
Главный закон истории – история зависит не от материальных факторов, а от идей. Не среда определяет сознание, сознание определяет среду. Поэтому прогнозы делать глупо: идей не столько же, сколько людей, а в сотни раз больше, потому что у каждого человека сотни идей. Даже одна (формально) идея в каждой голове преломляется оригинально.
История человечества как история неуправляемости человечества
Вера в то, что люди управляемы – и, соответственно, вера в то, что кто-то управляем людьми – не такая древняя и распространённая, как представляется приверженцам этой своеобразной религии. Древний мир («языческий») успешно решал вопрос о том, насколько свободны люди, с одной стороны, исповедуя веру в абсолютную волю неких высших сил – инь и янь, мировой гармонии, высшего творца, с другой – дополняя эту веру убеждённостью в том, что высшие силы достигают гармонии через хаос, произвольность, «игру сил».
Получалось очень диалектично и практично: всё происходящее одновременно осмысливалось и как абсолютно неизбежное, предопределённое (на макро-уровне), и (на микро-уровне) как абсолютно случайное, суетное.
Естественные науки демистифицировали отношения с миром. Они не обнаружили в мире не высшей гармонии, ни низшей суетности. Всё оказалось и проще, и сложнее. Проще, потому что естественные науки исключили само понятие смысла и свободы, сложнее, потому что мир оказался многократно более сложным, чем может представить человек. Мир оказался принципиально познаваемым через сложные процедуры, но познаваемым в принципе бесконечно. Творение оказалось прямой противоположностью Творцу, Который через Откровение является как Бог, принципиально не могущий быть исследованным, познанным, описанным, но при этом принципиально открывающимся, познающим и дающим Себя познать в любое мгновение через простую процедуру – через любовь.
Архаическое представление о сочетании в человечестве свободы и несвободы в XIX веке выразилось в виде квази-социологии Маркса и некоторых других авторов (имеющей такое же отношение отношение к научной социологии как алхимия к химии, астрология к астрономии). Такая квази-социология воспроизводила в научных формах сформировавшуюся в конце XVIII века идею заговора как главной причины истории. Свободны заговорщики, несвободны жертвы заговора.
Вера в несвободу, в управляемость человечества очень живуча. Социология давно отказалась от притязаний управлять, ограничиваясь описанием и анализом, но в культуре осталась вера в то, что каждое событие есть результат воздействия со стороны людей более сильных (умных, богатых). Чем далее по шкале «модерн-архаика», тем сильнее этот предрассудок. Среди русских он сильно распространён, потому что Россия – государство казарменного типа, предельно военное по способу организации жизни, а казарма – одна из локальных ситуаций, где люди очень управляемы. Есть и другие ситуации, и в каждой сфере человеческого существования всегда множество отношений господства и подчинения, прямого или косвенного. Так происходит потому, что человек на восемь десятых – примат, а не человек, на одну десятую вообще неодушевлённый предмет, с которым можно обращаться как с камнем, и лишь на одну десятую, а то и меньше – собственно человек.
В кресле стоматолога вопрос об управляемости почти не встаёт, на столе у хирурга не встаёт абсолютно, если только субъект не оставил распоряжения на случай необходимости пересадки органов или вхождения в кому.
Однако, в семье, у рабочего места, за компьютеров, на площади – человек и человечество, равно как и все промежуточные общности, либо вообще не управляемы, либо управляемы очень мало и с непредсказуемым результатом. Увидеть это трудно именно потому, что в какой-то степени управляемость есть, интеллект соблазняется экстраполировать эту управляемость – а экстраполяция подводит, потому что внезапно обнаруживается внутренняя сложность структуры. Если будет жарко, все люди снимут шубы, но это не означает, что все люди пойдут за оратором, который жарче прочих проповедует.
Неуправляемость человечества не означает отсутствие желающих управлять. Вообще-то все хотят и управлять, и быть управляемыми. Человечество даже жаждет быть управляемым, да только не выходит. В локальных ситуациях человек способен вести себя в соответствие с выгодой, к примеру. Однако, попытка управлять людьми, апеллируя к тому, что для них выгодно (или может быть представлено как выгода) постоянно оборачиваются неудачей. Так происходит не только потому, что управляемые «взбрыкивают» и отказываются жить по выгоде. Есть и более существенная причина, по которой попытки найти, «кому выгодно» – митинг, революция или, напротив, апатия и отказ голосовать. Не живут «по выгоде» не только управляемые, но и правители – или те, кто хотел бы стать правителем. Здесь данные психологии критически важны для социолога, обуздывая его манию эктстраполяции, тенденцию воспринимать человека как часть множества. Существует крохотное пространство, которое делает поведение человека плохо предсказуемым в самых важных случаях. Предсказать, что клерк будет есть на завтрак, нетрудно – если знать ассортимент магазинов, культурные традиции, возраст и т.п. Но невозможно предсказать, выйдет клерк на митинг и, если выйдет, то с каким лозунгом. Невозможно – хотя многим очень бы хотелось делать такие предсказания, а многие предсказывают – и даже зарабатывают на этом деньги, правда, небольшие.
Любая правящая элита, которая решает, что она действительно управляет поведением своих подданных, рано или поздно обречена на горькое разочарование. Она и своим-то собственным поведением управляет лишь в очень ограниченных размерах.
Религия и наука сходны в том, что искушают людей веровать в свою управляемость. Законы Божии или законы природы, – не так важно. Поэтому особое усилие должны верующие и учёные (часто это один и тот же человек, но грани личности разные) прикладывать к тому, что не вводить ни себя, ни других в искушение мыслить в терминах несвободы. Существование смысла лишь на первый взгляд исключает свободу, на самом же деле смысл – источник свободы, и не только свободы целого, но и частей, свободы и Творца, и Его образа и подобия, свободы и человечества, и отдельного человека.
Поэтому не стоит видеть в том, что у толпы молодёжи в Афинах одни идеалы, а в Москве – другие, – результат воздействия разных руководителей. Руководители в некоторых ситуациях бывают, но никогда руковождение не определяет поведение людей – и особенно толп – более, чем наполовину. То есть, воздействие случайно, поведение же закономерно – и закон этот есть закон не экономики, а закон свободы.
Отсев и посев
История как память, выходящая за пределы личной памяти, есть источник человечности и человечества, есть огромный труд по самоэволюции, по созиданию единства. Память порождает общение и порождается общением. Никакой другой «ноосферы», никакого другого «воскрешения средствами науки» не существует.



