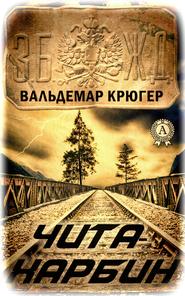скачать книгу бесплатно
– Худоватый ишо. Но ничего, к осени жиру нагуляет.
Сказанное естественно относилось к его более везучим собратьям, успевшим удрать с галерки.
За хлопотами по приготовлению ужина троица и не заметила, как сияющее расплавленным золотом тележное колесо солнца провалилось в пучину ложащейся на степь покрывалом, по-южному темной ночи. Вечерняя заря полыхнула на западе прощальным багрянцем, окрасив снизу редкие облачка, рассыпавшиеся белоснежными барашками на темно-голубом бархате вечернего неба. Рожком пастушка засеребрился набирающий силу молодой месяц. Щедрая рука сеятеля разбросала по небосклону мерцающие звезды, и там, где сыпанула погуще, пролег светлой полосой Млечный путь. А в остывающей от дневного зноя траве, стрекочут без умолку неугомонные цикады, и откуда-то из глубины засыпающей степи вторит им перепелка, «фить-пирю, фить-пирю», а сидящим у костра людям слышится, «спать пора, спать пора».
Урчащий желудок Бурядая напевал однако несколько отличающуюся от оригинала мелодию – «есть пора, есть пора». Оно было и немудрено, весь день не было во рту и маковой росинки, а «постный чай» без масла лишь только раззадорил аппетит. Попыхивая мерцающей светлячком трубкой-ганзой, он ощупал ладонью перемешанные с землей угли костра, определяя готовность жаркого из тарбагана. Степа и Прошка не медля, в точности повторили его жест. Чтобы не делал дедушка Бурядай, были они тут как тут.
– Готово аба? Можно кушать?
– С часок подождать надобно.
Чтобы скоротать время до ужина, Бурядай решил рассказать детям несколько сказок, каких он знал великое множество. Первая сказка этого вечера называлась «Баргу и Булагчин[45 - Записано со слов С. В. Климова, 59 лет, рабочего судоверфи пос. Листвянка, родом из села Кадуй Нижнеудинского района Иркутской области, в 1936 г. / Легенды Байкала. irkipedia.ru]». Бурядай прокашлялся от першившего в горле дыма, не от табака разумеется, а от затухающего костра, и начал рассказывать.
На той стороне Байкала, к Ангаре и Енисею, тысячу лет назад жило одно небольшое племя бурят. У них был свой вождь, прославленный охотник Булагчин. Всю жизнь он водил свое племя вокруг Байкала по крутым горам и гольцам, по таким трущобам, что теперь никакой человек не пролезет. У Булагчина был младший брат, звали его Баргу. Однажды все племя остановилось на берегу напротив Ольхона.
– Аба, – перебил Бурядая Степа, – а кто такой Ольхон?
– Ольхон то, это остров посредине Байкала.
– И большой он? – не унимался малый.
– Ну как тебе сказать, – протянул Бурядай, не бывавший на Ольхоне, явно выигрывая время.
Он и на батюшке Байкале побывал всего-то один единственный раз, во время военной службы, сопровождая полковника Вострецова, искавшего излечения своей жены у одного бурятского шамана. В тот раз пробыли они неделю, проживая в верстах семи от священного озера. Несколько раз ездил Бурядай к озеру со своим другом Марком Нижегородцевым, восхищаясь каждый раз видом Байкала, то смирным, аки божий агнец, стерегущий на зеркальной поверхности воды стада братцев-белоснежных облачков, то разгневанным великаном, гонящим крутые волны, разбивающиеся о крутой, скалистый берег. Навечно врезалось в сознание Бурядая первое свидание с озером. Его чарующая красота, нежащая глаз синева, сливающаяся с бездонным небом, обителью доброго бога, покровителя всех бурят и монголов Бурхана. Велик Байкал, не зря его величают священным морем. Ну а коли велик, то и быть большому острову, рассудил, не мудрствуя лукаво Бурядай.
– Большой Степа остров Ольхон, – добавив для убедительности, – шибко большой.
– А ты знаешь про Байкал сказку? «Расскажешь нам?» – теперь спросил Прошка.
– Расскажу. Но сначала, эту до конца дослушайте.
Ну вот, сказал Баргу своему старшему брату.
– До каких пор мы будем лазить по валежнику и бурелому таежному? Давай выйдем в степь и там заживем спокойно.
Старший брат Булагчин осердился на слова младшего брата и сказал ему.
– Если не хочешь охотиться, то кочуй на Аларь и питайся там мышами. Степи скудные, ты пропадешь там с голоду. Баргу не послушался Булагчина, подговорил послушных себе людей и за неделю откочевал в степь. Степь в то время называлась аларью. Баргу развел скот, целые табуны коней, и зажил припеваючи. Булагчин не знал, как там в степи устроился его брат, сердце у него болело, и каялся он – зачем ему надо было угонять от себя брата. Через несколько лет, не имея никаких слухов о Баргу, Булагчин послал гонца в степи, чтобы разыскать брата. Когда гонец вернулся, то рассказал, что аларцы[46 - Алары или алaрские буряты – этнотерриториальная группа в составе бурятского этноса. В настоящее время основными районами расселения аларов являются Аларский (бурят. Алайрай аймаг) и Нукутский (бурят. Н?хэдэй аймаг) районы Иркутской области, входящих в состав Усть-Ордынского Бурятского округа.]живут в довольстве, ни в чем не нуждаются, что между народом его племени царят мир и благодать. Булагчин не поверил ушам своим и решил навестить брата. Не доехал он до брата один день езды и видит, что степь вся черным-черна от разного скота. «Видать, верно говорил гонец мой», – подумал Булагчин и начал объезжать стада. Целую неделю объезжал он табуны коней, гурты коров и овец. Всех не объехал, надоело ему трястись в седле, и направился он к юрте родного брата. Баргу его принял с честью и радостью. Посмотрев на богатство брата, Булагчин решил вывести своих охотников из тайги в степь. Он поселился недалеко от брата, племя которого к тому времени уже называли аларцами, племя Булагчина потом прозвалось булагатами[47 - Булагаты (бурят. Булагадууд) – этническая группа (племя) в составе бурятского народа. Название племени происходит от бурятского слова «булган» – соболь. Предки булагатов являлись замечательными охотниками на соболей, шкурки которых высоко ценились, являясь таким образом источником благосостояния булагатов.].
Рассказывая сказку о Булагчине, вспомнился невольно Бурядаю его четвероногий друг Нох-нох. Именно в честь благородного соболя, давшего название племени удачливых охотников-соболятников булагатов, решил назвать он его, но увы, не прижилось. Пора бы уже ему вернуться с побывки, только успел подумать Бурядай, как Нох-нох вынырнул из темноты ночи, как черт из табакерки. Легок на помине, или я сорочьи яйца ел, усмехнулся Бурядай, и потрепав пса за загривок, спросил.
– Ну как сбегал то, расскажи нам. Обрадовались тарбагану?
Громкий лай Нох-ноха расколол ночную тишину, улетев испуганной птицей в спящую степь.
– Ладно, ладно, уймись ты, шалопут, просухарил полночи-то с девицей своей. Самому то хошь досталось, – при этих словах Бурядай пощупал отвисший живот ластящегося к нему пса, – ну иди спи ужо вечерошник непутевый, или вон ложись и слушай, про Байкал сказку то.
Нох-нох примостился у ног хозяина, широко зевнул и закрыв глаза, приготовился слушать.
В старые времена могучий Байкал был веселым и добрым. Крепко любил он свою единственную дочь Ангару.
Красивее ее не было никого на всем белом свете.
Днем она светла – светлее неба, ночью темна – темнее тучи. И кто бы ни ехал мимо Ангары, все любовались ею, все славили ее. Даже перелетные птицы; гуси, лебеди, журавли спускались низко, но на воду садились редко говоря при этом.
– Разве можно светлое чернить?
Старик Байкал берег дочь пуще своего сердца.
Однажды, когда Байкал заснул, бросилась Ангара бежать к юноше Енисею.
Проснулся отец, всплеснул гневно волнами. Поднялась свирепая буря, зарыдали горы, попадали леса, почернело от горя небо, звери в страхе разбежались по всей земле, рыбы нырнули на самое дно, птицы унеслись к солнцу. Только ветер выл да бесновалось море-богатырь.
Могучий Байкал ударил по седой горе, отломил от нее скалу и бросил вслед убегающей дочери.
Скала упала на самое горло красавице. Взмолилась синеглазая Ангара, задыхаясь и рыдая, стала просить.
– Отец, я умираю от жажды, прости меня и дай мне хоть одну капельку воды…
Байкал гневно крикнул.
– Я могу дать только свои слезы!..
Сотни лет течет Ангара в Енисей водой-слезой, а седой и одинокий Байкал стал хмурым и страшным. Скалу, которую он бросил вслед дочери, назвали люди Шаманским камнем. Там приносились Байкалу богатые жертвы. Люди говорили: «Байкал разгневается сорвет Шаманский камень, вода хлынет и зальет всю землю».
Только давно это было, теперь люди смелые и Байкала не боятся…
Пораженные бессердечьем Байкала, наказавшего родную дочь, дети притихли, размышляя над рассказанным. Аба Бурядай такого бы никогда не сделал, решили справедливо они. Жаль, что у него нет дочери, тогда мы могли бы быть и его внуками. Хотя нет, он нас и так зовет своими внучатами, добрый аба Бурядай.
– Ну что притихли батыры? Знаете, как появился тарбаган? Нет, ну слушайте.
В давние-давние времена жил здесь один богатый найон, который был отличным охотником. Ни в степи, ни в падях, ни в окрестных горах ни один зверь ни мог укрыться от его верного глаза. Однажды этот богатый найон был приглашен на свадьбу, куда были приглашены много-много гостей, даже сам верховный небожитель Бурхан, был на этой свадьбе.
После того как найон подкутил, не мог он не похвалиться перед гостями своим умением стрелять без единого промаха. Никого я не боюсь на всем земном свете, любого уложу с одного выстрела, бахвалился хвастливый найон.
Долго терпел Бурхан, верховное божество всех бурят и тунгусов, нескончаемую болтовню кичливого задаваки, после чего сказал ему – умерь свой пыл, не хвастай, есть на белом свете существо, которое должны уважать и бояться все, живущие на этой земле, и перед которым он, самодовольный найон ничем не должен хвастать, и это существо, я, небожитель Бурхан, властелин мира.
Но найон не внял словам Бурхана и продолжил свой спор с богом. Тогда Бурхан осердившись, взмахнул рукой, и словно из ниоткуда появилась стремительная, словно выпущенная из лука стрела, ласточка. Вот тебе мое испытание, попробуй попади в нее, сказал Бурхан. Тогда ты сможешь говорить со мной на равных, если же ускользнет ласточка, накажу я тебя так, чтобы никому неповадно было говорить перечить богу.
Засмеялся ему в лицо найон, не испугавшись Бурхана, понадеясь на свою необыкновенную меткость, на твердую руку, не знающий промаха верный глаз.
Сгрудились гости, утихли, ждут чем же закончится спор Бурхана с найоном.
Найон же схватил свое не ведавшее промаха ружье, бросил его на сошки, сождал реющую ласточку, выстрелил и попал пулею ей по хвосту, выбив срединные хвостовые перья, так что хвост у ласточки сделался вилкой.
Бог осердился пуще прежнего, закричал на найона и наказал его так: «Будь же ты тарбаганом, живи только коротким летом, всю долгую зимою же спи, не наслаждайся жизнью и не пей воды». А ласточке повелел быть с раздвоенным хвостом, за то что она не сумела увернуться от пули.
Степа притих, что-то припоминая, обратившись затем к Бурядаю.
– Аба, а у тарбагана тоже губа двоенная. И еще он усатый, – здесь Степа хотел еще добавить, «как ты аба», но все же промолчал. Негоже то дедушку с тарбаганом сравнивать.
Бурядай усмехнулся. Гляди, заметил сорванец.
Степа не унимался, желая получить интересующий его ответ. Дед Бурядай он ведь все знает, что ни спроси.
– Это ему Бурхан сделал, губу такую, да аба?
Но на этот раз не знал ответа и мудрый Бурядай. Как говорится, на всякого мудреца довольно простоты.
– Ладно нуган ?ри[48 - Нуган ?ри (бурят.) – сын, мужское потомство], давайте-ка будем вытаскивать тарбагана из норы, а то кушать хочется.
А жаркое из тарбагана получилось – пальчики оближешь. Что и делали Бурядай, Степа и Прошка, поглощая тающее во рту сочное мясо.
На тревожащие сон запахи, или может сочные звуки трапезы, проснулся Нох-нох. Подняв лобастую голову, он втянул ноздрями аромат жареного мяса, перебиваемый запахом сгоревшей в жару шерсти тарбагана и поднявшись с ложа, поспешил отойти в сторону. Ну и запашок, скажу я вам, хоть святых выноси. Мнение его осталось неразделенным.
– Вкус-ня-ти-на! – проговорил по слогам Прошка, – попрошу дома мамку такое же сделать.
Бурядай лишь ухмыльнулся. Тебя мамка с этим сусликом поди и на порог не пустит.
Некоторые казаки из русских людей брезговали почему-то степным деликатесом, предпочитая ему свинину или баранину. А где ты баранов на каждый день напасешься, а тут вот оно мясцо тарбаганье с бутана тебе насвистывает, в котелок на тагане просится. Как похолодает десятка два тарбаганов еще добуду, всю зиму с мясцом в ус дуть не буду, решил Бурядай.
Старожилы забайкальских степей каждую осень запасались впрок тарбаганиной, используя при этом различные методы охоты. Один из них, подходом, с обученной тарбаганьей собакой, был частично описан выше. Некоторые охотники прячутся за собакой, которая нарочно вертится вьюном перед ним, отвлекая на себя внимание тарбагана.
А самые искусные умельцы скрадывают тарбаганов на открытых местах, без собаки и лошади[49 - При описании методов охоты на тарбагана использованы материалы книги А. Черкасова «Из записок сибирского охотника».]. Заметив животное, они начинают к нему ползти, волоча за собой берданку, но не прямо, а повторяя уловки охотничьих собак, выделывая при этом уморительные проделки. Они то валяются на спине, перекатываясь с боку на боку, подымают кверху то ноги, то руки, надевая на них шапчонку или шубенку, подкидывая ее другой раз даже кверху, и с каждым новым трюком, подбираясь ближе и ближе к посвистывающему зрителю. Тарбаган очень любопытен, и стоя столбиком на бутане разглядывает проделки шутника-охотника, не зная, чем же закончится театральное представление. Хлопок выстрела, и любознайка становится трофеем заезжего актера.
Другие охотники имитируют поведение диких зверей, скрадывая их на бутанах около их нор. Тарбаганы оставляют свои убежища, выходя на кормежку, ранним утром и поздним вечером. Хищники; волки и лисы, беркуты и тарбазины, притаившись за каким-нибудь укрытием, будь то камень или кустик, стерегут, когда тарбаган покинет нору. Стоит ему удалиться на несколько саженей, как они вихрем налетают на несчастное животное, убивая его на месте. Черные степные орлы-тарбазины хватают тарбаганов когтями и взмыв вверх, бросают добычу на землю, и падают следом на нее камнем вниз.
Охотники залегают в саженях десяти от выхода из норы, и обязательно за ветром, чтобы тарбаган не смог их учуять. Здесь нужно запастись терпением. Зачастую охотник лежит часами и возвращается к лагерю не солоно хлебавши. Хитрец-тарбаган, или же заметил его и спрятался, или вовсе решил в этот день посидеть в норе на диете из-за подскочившего холестерина. Но это конечно же шутка.
Тарбаганье мясо ценится из-за высокого содержания жира. Поздней осенью, перед тем как тарбаган залегает в зимнюю спячку, треть его живого веса составляет жир, который так ценится кочевниками. Поэтому они очень редко жарят мясо над открытым огнем, справедливо считая такой способ приготовления пищи нерачительным, потому что от сильного жара выкипает, сгорая в костре, почти весь жир, а им-то и дорожит кочевник.
Тарбаганов кстати готовили раньше и другим способом. Очистив животное от внутренностей и шерсти, из нутра вынимают очень искусно все кости и вместо них начиняют обезображенный труп животного раскаленными камнями. Отверстие проворно зашивают и катают будущее жаркое по траве до тех пор, пока не испечется[50 - Александр Черкасов, «Из записок сибирского охотника».].
Весьма любопытно, что способ приготовления тарбагана в земляной яме удивительно напоминает пачаманку инков из Южной Америки, но о запеченной морской свинке знает полмира, а о живущем в даурских степях хитреце-тарбагане, почти никто. А жаль.
Мы еще вернемся к нему, старожилу Даурии, тарбагану, несколько позже, а пока, отлистнем несколько столетий назад, к тому времени, когда русские казаки-землепроходцы пришли на берега Аргуни и Онона.
Что привело их сюда? Ответ вмещается в одном единственном слове – серебро.
В XVII веке, как это ни странно звучит, в России не было собственных разведанных месторождений серебра, так необходимого для чеканки монет. Дело доходило до того, что царское правительство скупало иностранные монеты, нидерландские риксдаальдеры и немецкие талеры и перечеканивало их в российские ефимки. До ввода в обращение бумажных денег (этого синонима инфляции), рождением которых (812 г.), как и бумаги (105 г.) мы можем быть благодарны Поднебесной империи, России оставалось ждать еще сто лет (1768 г.).
Все сырье для изготовления серебряных монет, ювелирных изделий и посуды ввозилось в Россию из-за границы. Такое положение дел не могло ни в коем разе соответствовать интересам набирающего силу Российского государства и требовало решений для устранения возникшей зависимости.
Указом от 10 декабря 1719 года Петра I ввел горную регалию и объявил, так называемую «горную свободу», гласящую «Соизволяется всем и каждому, во всех местах, как на собственных, так и на чужих землях, искать, плавить, варить и чистить всякие металлы, минералы, земли и каменья; если владелец не имеет сам охоты строить завод, то принужден будет терпеть, что другие в его землях руду и минералы искать, копать и переделывать будут, дабы благословение Божие под землею втуне не осталось. От рудокопных же заводов и прилежного устроения оных земля обогатеет и процветет и пустые и бесплодные места многолюдством населятся».
С этого времени в России начались активные поиски и разработка собственных серебряных месторождений. Попытки разведать залежи серебра на Урале и северо-востоке России не принесли желаемого результата. По слухам, месторождения серебра имелись в «даурской земле», на реке Шилке. Эти слухи подстегивали сибирских воевод для дальнейшего поиска пути за Байкал к желанному серебру. Без устали снаряжали они новые и новые казачьи отряды, желая выслужиться перед царем.
Во время проведения экспедиций казаки, верные своей тактике, закладывали на стратегически важных местах, таких как устья рек, опорные пункты-остроги, продвигаясь года от года все ближе к заветному серебру, истинной цели их походов. При этом казацкие отряды действовали одновременно из двух направлений, из Енисейского и Братского острогов они продвигались на восток, из Якутского острога, следуя берегом Витима, на юг.
Цель предпринимаемых экспедиций недвусмысленно изложена в наказе якутского воеводы «чтобы, укрепясь в их стране, быть ближе к забайкальскому серебру». Под «их страной» подразумевались земли верхоленских и приангарских бурят.
Главными опорными пунктами для достижения поставленной цели служили Братский острог (основан в 1631 г.) со стороны Енисейска и Верхоленский острог (1640 г.) со стороны Якутска, положившие конец независимому существованию бурят[51 - Н.Н. Смирнов «Забайкальское казачество», 2008].
После основания Верхнеленского острога в устье р. Куленги, живущие там приангарские и верхнеленские буряты «были очень стеснены и проявили большое напряжение для уничтожения оного».
Доведенные до отчаяния жестокостями и притеснениями местного управителя Ивана Похабова, приангарские и верхнеленские буряты, убив казаков, разосланных Похабовым для сбора ясака, ушли к монголам.
Воевода Яков Тургенев, сменивший Похабова[52 - Иван Похабов, после жалоб на него инородцев, был снят за злоупотребление властью, смог однако избежать суда, сбежав из-под стражи, во время ночевки у Шаманских порогах на Ангаре/История Сибири, часть первая, стр. 81, Санкт-Петербург, 1889 г.], послал людей для сбора ясака вверх по Иркуту, Китой и Белой, но они никого из «ясашных людей» не нашли.
Такие случаи насилия над бурятами, когда их обирали до нитки, и их ожесточенной ответной реакцией, с нападениями и сожжением острогов, были далеко не единичны. К 1660 году «подъясачная» территория севернее Байкала практически обезлюдела. Многие из бурятов, поняв невозможность устоять против русских, число которых возрастало год от года, перестали принимать участие в набегах на остроги и стали подумывать о том, как им избавиться от русских другим путем, переселением за Байкал, к монголам. Особенно сильно это движение началось с 1655 года[53 - История Сибири, часть первая, стр. 75, Санкт-Петербург, 1889 г.].
В 1660 году монголы забрали остальных бурятов, еще остававшихся в приангарских районах[54 - История Сибири, часть первая, стр.202, Санкт-Петербург, 1889 г.].
Показательны слова, какими российский исследователь Иоганн Эбергард Фишер[55 - Иоганн Эбергард Фишер (нем. Johann Eberhard Fischer; 10.01.1697 – 13(24). 09.1771) – российский историк и археолог немецкого происхождения, академик Петербургской академии наук.] охарактеризовал деятельность Ивана Похабова и ему подобных, во время завоевание Сибири: «Когда бы имъ согласiе, разсудокъ и умеренность таковы жъ были знаемы, как ограбленiя, разоренiе и смертоубiйство, то могли бы они ожидать долговременного продолженiя своего правительства»[56 - Сибирская исторiя съ самаго открытiя Сибири до завоеванiя сей земли российскiмъ оружiемъ. Соч. Iоганна Эбергарда Фишера. С.-Петербургъ. 1774 года. При Императорской Академiи Наукъ]
Конечно, можно сказать – каково время, таковы и нравы, таковы и его герои. Но не стоит судить мерками нашего, далеко не идеального времени.
Двадцать пять лет боролись буряты и тунгусы за свою независимость. Напрасно. Бурятским и тунгусским князьям стало ясно, что, противостояние русским не принесет им желаемого результата – избавление от незваных пришельцев из-за Большого камня. Они ни покорились, а выбрали для себя более выгодный вариант, сулящий им, их родам, возможность остаться на земле их предков, обретя в лице русских сильного покровителя, способного защитить от порабощения монгольскими ханами, данниками которых являлись буряты и тунгусы многие сотни лет.
Монголы же, извлекли для себя урок – никогда не затевай драки с русскими. Себе дороже обойдется. Или как написано об этом в «Истории Сибири»:
«Продолжительные и ожесточенные враждебные действия русских против верхнеленских и ангарских бурят, завершившиеся выселением последних за Байкал, надо думать, много способствовали легкому захвату забайкальских земель. Самый факт переселения бурят доказывал монголам силу русских, чем разумеется содействовал развитию в них желания избегать столкновений с русскими людьми, что и проявилось с первых же встреч монголов с русскими[57 - История Сибири, часть первая, стр. 78, Санкт-Петербург, 1889 г.]».
Все последующие годы между русскими и монголами не возникало крупных конфликтов, даже наоборот. Монгольские ханы, находившиеся под гнетом маньчжуров, были заинтересованы в установлении дипломатических и торговых связей с Россией. Они старались избегать серьезных столкновений с русскими и не препятствовали присоединению к России забайкальских бурят и тунгусов.
Буряты и тунгусы же, приняли верное решение, выбрав для себя из двух зол меньшее. В противоположность им, другой древний народ – енисейские кыргызы, являвшиеся злейшими врагами бурятов, предпочли бороться за свободу до конца, и в итоге, после ста лет войны с русскими, потеряли все, и были вынуждены откочевать в горы Тянь-Шаня, где кыргызы основали новое государство – сегодняшний Киргизстан.
Девять русских экспедиций за Байкал (1638, 1640, 1643 (третья и четвертая), 1644 (пятая и шестая), 1648, 1649, 1652), с наказами «чтобы на новых народов наложить ясак» и места около Байкала точно описать, а «а что главнейше было предметом, золотыхъ и серебрянныхъ искать жил» потребовалось для того, чтобы открыть, найти наконец дорогу к заветному металлу.
В 1676 году «в пяти днях пути от Нерчинска» на реках Алтаче, Мунгаче и Тузяче, впадающих в Аргунь, было найдено серебро.
В 1704 году у первого открытого в России месторождения серебра заработал сереброплавильный завод, первоначально называвшийся Аргунским. Начало разработок серебряных рудников[58 - В настоящее время село Нерчинский Завод – административный центр Нерчинско-Заводского района Забайкальского края.] ознаменовало собой расцвет Нерчинской каторги увидевшей за годы ее существования многих знаменитых людей – декабристов и петрашевцев, народовольцев и участников польского национально-освободительного движения (восстания 1831, 1863). К числу ее узников принадлежали знаменитый Н.К. Чернышевский (1864-71) и безвестный А. Алексеев, один из первых узников Нерчинской каторги, проведший в ее мрачных застенках 46 лет, стрелявшая в Ленина (или нет?) эсерка Фани Каплан (1907-17) и бессарабский Робин Гуд Григорий Котовский (1911-13), прошедший путь от уголовного преступника до овеянного легендами красного комкора.
В сознании российского общества сложилось негативное представление о Забайкалье, ассоциируемое в первую очередь с царской каторгой, что в корне неверно.
Забайкалье, это прежде всего его прекрасная природа и замечательные люди, живущие на его бескрайних просторах. Далеко не все из них, или их предки, пришли сюда по доброй воле, этого никто не оспаривает. Но к востоку от Урала этим никого не удивишь.
Серебро, казаки и каторга – истоки русского Забайкалья. Ища серебро, казаки нашли там себе родину, ну а каторга притащилась старухой следом, гремя крюкой-кандалами.
Первые служилые люди, верстанные в казачью службу, появились в Забайкалье около 1639 года. К концу XVII века енисейскими и якутскими казаками были основаны первоначальные остроги, ставшие форпостами стремительно растущей Российской империи.
С середины XVIII века к охране границы стали активно привлекаться иррегулярные воинские формирования, сформированные на добровольной основе из коренных жителей Забайкалья – бурят и тунгусов (эвенков).
Так, например, в 1764 году численность казаков- бурятов составляла 2400 человек, сведенных в состав четырех полков, созданных на родовой основе и носящих соответственно название своих родов: Ашебагатов, Цонголов, Атаганов и Сортолов. Впоследствии их стали именовать – 1-, 2-, 3-и 4-й Бурятские полки. Четырьмя годами раньше, в 1760 году из тунгусов (эвенков) князем Гантимуром был сформирован один полк пятисотенного состава, ставший с 22 солдатами Якутского полка и 162 нерчинскими конными казаками основой забайкальского казачества.
С самого начала одной из уникальных особенностей формирующегося Забайкальского казачьего войска, заключалось в том, что наряду с потомственными казаками, составлявших меньшинство, его основу составили выходцы из переселившихся в Забайкалье крестьян и представителей коренного населения.
Другой отличительной особенностью забайкальского казачества, являлось то, что наряду с православием, часть казаков из бурят исповедовала буддизм.