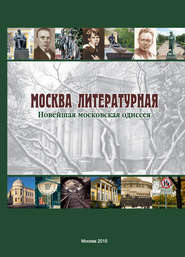 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Москва литературная. Новейшая московская одиссея
А мы сворачиваем на Погодинскую улицу, названную так в память выдающегося историка М.П.Погодина, чья усадьба находится в конце улицы. На месте поликлиники НИИ онкологии им. Герцена теперь элитный жилой комплекс. А был ещё один памятник модерна – построенное в 1897 году в русском стиле по проекту архитектора А.Е. Вебера живописное здание с шатровым крыльцом и пузатыми колонами. Строилось для Контрольной палаты, после революции в нём был институт педологии и дефектологи, потом 2-й МГУ, затем центр амбулаторной диагностики онкологического института им. П.А. Герцена. В небольшом скверике установлен в 1956 году бюст Н.Ф. Гамалеи (скульпторы С.Я. Ковнер, Н.А. Максимченко), знаменитому биологу, эпидемиологу. В 1908 году В.П. Кащенко, родной брат знаменитого психиатра, устроил на Погодинке Санаторий-школу для дефективных детей – первое в России учреждение такого типа. В учреждение принимались исключительно мальчики школьного возраста – «дети невропаты, истерики, умственно отсталые, испорченные неправильным воспитанием в семье, склонные к бродяжничеству, с другими отклонениями в развитии». Несмотря на довольно высокую цену, школа приобрела большую популярность в Москве. Здесь разрабатывались уникальные методики работы с детьми с отклонениями в развитии и поведении, готовятся кадры для работы с такими детьми. В 1918 году В.П. Кащенко передает свое детище государству, и оно, под именем Дома изучения ребенка, становится одним из опытно-показательных учреждений (ОПУ) Наркомпроса РСФСР. Мечтая сохранить дореволюционное педагогическое наследие, накапливать и пропагандировать опыт московских специальных школ, В.П. Кащенко открывает Музей педологии и педагогики исключительного детства. В 1921 году при Доме изучения ребенка открывается медико-педагогическая клиника, с 1923 года получившая официальный статус Медико-педагогической опытной станции. На базе Дома изучения ребенка В.П.Кащенко организует «шестимесячные курсы по подготовке работников по дефективности» (1918), которые вскоре становятся годичными (1919), а затем и трехгодичными (1920). Инициатива энтузиаста получает одобрение Наркомпроса и поддержку руководства города, благодаря чему в столице открывается Московский Педагогический институт детской дефективности (1920). Осенью 1924 года это небольшое образовательное учреждение вливается в состав педагогического факультета II МГV. На его базе велась подготовка первых дефектологов в России. В 1926 году профессор В.П. Кащенко отстранен от работы и освобожден от всех должностей. По счастью, руководителем Медико-педагогической станции назначается Лев Семенович Выготский, который вскоре создает Лабораторию психологии аномального детства. В 1929 году Наркомпрос РСФСР преобразует действующие службы в единую структуру – Экспериментальный дефектологический институт (ЭДИ). Сейчас это Институт коррекционной педагогики РАО (Погодинская, д. 8). В 1950-е годы в этих зданиях размещалось легендарное общежитие МГПИ. В архиве института до сих пор хранятся списки жильцов, среди которых Виталий Коржиков, Н. Рубцов, памятник которому стоит в главном корпусе МПГУ, и др. Бывал здесь у своих однокашников и Юрий Ряшенцев.
Далее расположен самый большой участок бывших усадеб – это дома 10, 12, 14. В 1808-м ими владели князья Щербатовы. Об этой усадьбе упоминает Лев Толстой в своем романе «Война и мир», в эпизоде с Пьером Безуховым, который остался в Москве, когда ее захватили французы, был ими пойман и обвинен в поджоге. Правда, Толстой допустил историческую неточность, в романе он упоминает, что Безухова привели в дом Щербатовых, где остановился маршал, герцог Экмюльский. На самом деле герцог останавливался в соседнем доме, принадлежавшем в то время фабриканту С.А. Милюкову. В доме князя Дмитрия Щербатова часто гостили его племянники Михаил и Петр Чаадаевы и будущие декабристы Федор Шаховский и Иван Якушкин. Немало испытаний выпало на долю семьи Щербатовых. Сын князя Иван Дмитриевич, был разжалован из капитанов, как сочувствующий солдатам Семеновского полка, восставшим против жестокого обращения полкового командира. После разжалования в солдаты князь был отправлен на Кавказ, где и скончался в 1829 году. Дочь князя, Наталья, пользовалась вниманием у двух декабристов Федора Шаховского и Ивана Якушкин, в итоге вышла за первого замуж. Якушкин очень тяжело пережил это событие. Жизнь Натальи Щербатовой сложилась трагично, сначала арест муж, потом ссылка его на вечное поселение в Туруханск, где он сошел с ума.
В 1835 году усадьбу покупает историк Михаил Петрович Погодин. Сын крепостного крестьянина, закончив Московский университет, он становится видным историком, коллекционером, писателем, издателем журналов «Московский вестник», «Москвитянин». Погодин был знаком со всеми известными русскими историками и литераторами. Еще Михаил Петрович был известен на всю Москву своей скупостью. Истинную щедрость он не считал нужным афишировать. А он помогал бедным, давал деньги начинающим авторам или сам издавал их произведения. Главный дом усадьбы представлял из себя одноэтажное деревянное строение с мезонином. В анфиладе первого этажа располагался кабинет Погодина. В одном из флигелей, расположенных рядом с домом, разместили пансион, который содержал Погодин по примеру других профессоров университета. В пансионе жило и кормилось около десяти учеников. Знаменит Погодинский дом еще и тем, что в нем много раз останавливался и подолгу жил Гоголь. В Москву он приехал впервые в 1832 году и тогда же и познакомился с Погодиным, но первый раз остановился у него лишь в 1839 году. Для Гоголя отводили мезонин. Здесь в 1841 году он устроил прочтение первого том «Мертвых душ» Аксаковым и Погодину, здесь же продолжил работу над поэмой, писал «Портрет», «Тараса Бульбу». В главном здании усадьбы бывали Аксаков, Загоскин, Чаадаев, Баратынский, Вяземский, Щепкин, жил Гоголь, Лермонтов читал «Мцыри», Островский – «Свои люди – сочтёмся». Здесь бывал Л. Толстой и описал этот дом в сцене допроса Пьера маршалом Даву.
В этом доме находилось погодинское «Древлехранилище» – ценнейшая коллекция предметов русской старины: монеты, рукописи, древние грамоты, старопечатные книги, картины, оружие, письма Петра I, автографы Суворова, Державина, Ломоносова. В 1852 году Погодин продал свои сокровища государству, и коллекция перешла в Императорскую публичную библиотеку. В доме на Девичьем поле Погодин прожил до самой смерти в 1875 году. От погодинской усадьбы осталась лишь затейливо украшенная деревянная постройка – «погодинская изба». Она была перестроена в 1856 году на средства богача В.А. Кокорева архитектором Никитиным. Эта изба как сказочный теремок, который уютно и уверенно чувствует себя по соседству со стеклобетонными зданиями клиник. Недавно с Е. Дворцовой шли мимо и заглянули во двор, а там разгуливают утки. Точно как в стихах Ряшенцева о послевоенной слободе!
После кончины Погодина усадьба перешла сначала к его сыну Ивану, а затем к жене сына Анне Петровне, урожденной княжне Оболенской. Она разделила усадьбу на 5 небольших участков, оставив себе один, крайний левый, все остальные распродала. На одном из проданных участков было выстроено здание Сергиевского приюта (№ 10) для неизлечимо больных, на деньги благотворительницей Ляминой. Спроектировал здание приюта С.V. Соловьев (1899–1901). Приютский храм в 1901 г. освятили в память ев. Сергея Радонежского. В советское время в храме расположились институты Наркомздрава, а сейчас в надстроенном здании – НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени А.Н. Сысина.
На территории погодинской усадьбы в 1959 году выстроили здание (№ 12), которое предназначалось Албании, но та не желала признавать перемен произошедшие в Советском союзе и здание отдали посольству Ирака.
Ну а впереди – Новодевичий монастырь. Он был основан в 1524 году великим князем Василием III в честь Смоленской иконы Божьей Матери «Одигитрия» – главной святыни Смоленска, – в знак благодарности за вызволение этого города из польско-литовского владычества и присоединения его к Московскому княжеству в 1514 году. Новым Девичьим монастырь назвали относительно более древних Зачатьевского женского монастыря, именовавшегося тогда Стародевичьим, и Воскресенского женского монастыря в Московском Кремле. В Новодевичьем монастыре похоронены Денис Давыдов, Антон Чехов, семьи князей Оболенских и Волконских, писатели Лажечников, Писемский, Загоскин, композитор Скрябин, поэт Плещеев, историки Погодин и Соловьев и многие другие известные люди. Новодевичьему монастырю посвящено множество стихов Ю.Ряшенцева: «Скажу, что из-за мартовских прудов бессовестно хорош Новодевичий…», «Поздно очистилось небо – жаль, не осталось уж и сентября… Голубые бойницы – в розовых стенах монастыря…».
Осень
Поздно очистилось небо —Жаль, не осталось уж и сентября…Голубые бойницы —В розовых стенах монастыря.Русская птица больше молчит,Ну а если взлетит тяжело —В небе вдруг и застынет,Будто душой обожгло крыло…Солнечно. И непохоже,Чтобы в прудах созревали снега…Куда так высоко забралась, птица?Знать, милому не дорога…Высота и печаль, как ни глянешь, – рядом.Так будет, видно, и впредь…Вот какая осень на Девичьем поле —Лазурь и медь…Молодость сгинувшая Любит явиться в такие дни —Передать тротуару привет от просёлка,От полузабытой родни…На месте нынешнего МДМа и станции метро Фрунзенская был воинский плац, там ездили верхом кавалеристы. Ю. Ряшенцев рассказывал: «Мы с ребятами бегали через него в одних трусиках купаться к Андреевскому мосту, где была купальня с 10-метровой вышкой. Вся Москва-река была в купальнях».
Освоена, но не воспета,Грязна, прекрасна, глубока,За тёплым камнем парапета —Как сон подростка, та река.Состав воды давно опален,Давно остыл к ней рыболов.И внятен плеск былых купаленТому лишь, кто седоголов…Ю. Ряшенцев вспоминал: «На том месте, где сейчас спорткомплекс “Лужники”, раньше был полуостров, заросший кустами с множеством купален, и был стадиончик, не чета нынешнему, кажется, “Трудовые резервы”».
Студенты МГПИ помогали расчищать, как говорил Б. Вахнюк, грандиозную «лужу», где потом началось строительство стадиона им. Ленина. Работали там, в основном, ребята из нашего общежития на Погодинке, Коржиков с компанией соседей по комнате.
Проходим на улицу Усачёва. С 1915 года на улице Усачева начал функционировать завод «Каучук», для рабочих которого вскоре потребовалось построить жилой поселок. В начале 1920-х годов неподалеку от Новодевичьего монастыря начинается строительство комплекса жилых домов в стиле конструктивизм – Усачёвский рабочий посёлок.
В 40-е годы территория за бывшим Артамоновским троллейбусным парком, ныне, увы, снесённым, от Трубецкой улицы до сквера на площади 10-летия Октября у метро Спортивная была застроена маленькими домишками, сарайчиками. Там ютился бедный люд, много было уголовников. Этот самострой называли Шанхаем, и он пользовался дурной славой. Как Марьина роща до Октябрьской революции, так и усачёвский Шанхай был центром блатной, уголовной жизни. А Ряшенцев учился в 23-й школе, рядом с Усачёвским рынком, за длинным домом, где теперь магазин. (Учился он и в 589 школе, где был факультет технологии и предпринимательства МПГУ). Учились во 2 смену, возвращались домой поздно. И когда шли через Шанхай, обязательно происходили стьггки с местной шпаной. Завтраки уже были съедены, отнимать нечего, и начинались драки.
Та дороженька лихаяМимо страшного Шанхая,Мимо стаек воронья,Мимо шаек пацанья…«Дорога в школу во время войны»А вот другая картинка, более мирная. Дворовая компания отправляется гулять, идёт на всю ту же Усачёвку – центр тогдашней жизни Хамовников, через сад Мандельштама, к «деревяшке». Так называли деревянные пивные, маленькие павильончики, где продавались пиво и водка. И где не очень смотрели, сколько тебе лет, чем и пользовались подростки.
* * *Мы ребята москворецкие —Гуляем стайкой.Наши птицы мировецкие:Ворона с чайкой.На виске малокозырочка,Кругла, примята.Меж зубов есть сбоку дырочка —Плевать, ребята!..Дома карточки настенные —Отцы неживые…Годы мирные, военные,Ещё какие?..В прохорях гуляет пяточка, —Айда к «деревяшке»Где там рваная десяточкаВ грудном кармашке?Всем – по кружечке да по баранке,И мороженице – Филе:У него и вовсе на «германке»Трёх отцов убили…Ю. Ряшенцев признавался, что самой большой его детской мечтой было иметь прохоря – короткие сапожки, в которые с напуском заправляли брюки. Это было высшим шиком у местной шпаны. «У Усачёвского рынка были коновязи и много лошадей. Вся Усачёвка была в навозе», – рассказывал Ряшенцев.
В автобиографическом стихотворении «Ушкуйник» Ю. Ряшенцев запечатлел знаковые приметы своего детства, используя фольклорно-былинную лексику (ушкуйники – вооружённые дружины в Древней Руси, совершавшие набеги на парусно-вёсельных ладьях на Волге и Каме). У Ряшенцева ушкуйники – мальчишечья разбойничья вольница, живущая по своим суровым законам:
Враспрогул баловали ребятушкиВ темной темени послеурочнойВдоль по всей Усачевке по матушке —По дощатой, барачной, доблочной.Кем я был в эту пору – не ведаю!Друг гасконцу и враг ларошельцам,Что ж гордился бесстыжей победоюНад очкариком или пришельцем?Проклиная Дантеса с Полетикой,Над Ахматовой сидя с коптилкой,Что ж грешил я блатною эстетикой:Прохорями да малокозыркой?Уже тогда Ряшенцев любил «Трёх мушкетёров», впрочем, как и всё послевоенное поколение подростков. В кино шёл знаменитый трофейный фильм с песенкой «Вар-вар-вар-вара!», которую распевала вся страна. По радио – телеспектакль «Три мушкетёра» с прекрасной песней на стихи М. Светлова: «Другу на помощь! Вызволить друга из кабалы и тюрьмы шпагой клянёмся, шпагой клянёмся, шпагой клянёмся мы!» Так что песни для фильма «Три мушкетёра», написанные в середине 70-х и принесшие Ряшенцеву всенародную славу, берут начало в сороковых годах.
Ю.Ряшенцев. Я шёл в школу через тёмную Усачёвку во время войны и знал, что на меня будут нападать гвардейцы кардинала в виде усачёвской шпаны, и должен был иметь рядом Арамиса, Портоса и Атоса. Мне было близко то, чем живут герои книги. Дружба дворовая, противостояние шпане – это было похоже.
Сад Мандельштама. Усадьба Трубецких
В XVII веке это была загородная усадьба князя Василия Голицына. Наследником стал его внучатый племянник – Никита Трубецкой. Он построил в 1758 году главный дом усадьбы. В усадьбе бывали многие знаменитости. 16 сентября 1826 года усадьбу посетил А.С. Пушкин, возвращаясь с праздничного гулянья на Девичьем поле по случаю коронации Николая I. Главный дом Трубецких являлся одним из самых древних деревянных усадебных домов Москвы, и после пожара в апреле 2001 года было принято решение «воссоздать памятник в несгораемых материалах». Однако летом 2002 года здание было разобрано до цоколя, на его месте возведен бетонный «новодел». Усадьбой владел декабрист Сергей Трубецкой, чья жена Екатерина Трубецкая первой отправилась за мужем в ссылку в Сибирь. С середины XIX века хозяином усадьбы был купец Павел Немчинов. После революции парк стал называться «Рабочий сад им. Мандельштама» – в честь первого секретаря Хамовнического райкома партии. В 1936 году здесь был организован детский парк.
Лазурь сквозь зелень в сентябре, как в мае, полна безумия.И там, за парком, – там труба хромая дымит Везувием…Через плац и прямо, сквозь тишь без просыпа,Куда придёт он? К саду Мандельштама, пускай не Осипа.В стране Советов глух для всех советов народ Хамовников.Уж он таков: все знают лишь поэтов – никто чиновников.Ю. Ряшенцев рассказывал: «В саду Мандельштама мы мальчишками ловили рыбу». «В саду, поставленном, как лодка, на прикол, безвольным росчерком последнего листа уж и ноябрьский подписан протокол…», «Бежит студент по саду Мандельштама. Как он бежит – уверенно, упрямо!».
Ну а мы пройдёмся по хамовническим переулкам.Олсуфьевский, Несвижский, Оболенский…Гляди, слепец, и не лелей надежд,Что на стезе всемирной и вселенскойУвидишь больше из-под жирных вежд.Из розового хрупкого окошка —Из одного, а сколько их вокруг! —И плач, и беспечальная гармошка.В щенке приблудном – вера и испуг.Надменный вызов в юном инвалиде,Красавицу обнявшем за плечо.И страсти – как в Мадриде, на корриде! —Хамовники – чего тебе ещё?!Космическому тайному капризуПодвластна эта поздняя весна.И сизый ангел бродит по карнизу.И жизнь всего одна. И мать одна.И ничего не выразишь ни словом,Ни музыкой. И в предрассветном снеПокойный друг движением суровымНа вёдро сменит дождь в угоду мне.Двор в Языковском переулке
Юрий Ряшенцев родился в Ленинграде, но в 1934 году, когда ему было три года, его перевезли в Москву, в тот дом в Хамовниках, где он живёт больше 70 лет. Квартиру, в которой живёт Ю. Ряшенцев, проектировал «под себя» архитектор дома, предназначенного для работников «Красной розы».
Мама Ряшенцева отдала за маленькую «трёшку» с крохотной кухонкой огромную квартиру в Ленинграде. Квартира в Языковском переулке хоть и небольшая, но уютная. В ней нет никаких еврочудес, скромная обстановка, зато много книг и на стенах афиши спектаклей, в которых звучат песни Ряшенцева: «Три мушкетёра», «Метро»… Тем, кто приходит к нему впервые, Ю. Ряшенцев обязательно показывает знаменитый круглый стол, за которым, по легенде, убили Распутина. Над столом этим пронеслись исторические вихри. Мама Ю.Е. купила его до войны в Питере на какой-то распродаже – вместе с легендой про Распутина. Когда в 41-м хозяева уехали из Москвы в эвакуацию на Урал, их квартиру заняли люди, в чей дом по соседству попала бомба. И на знаменитом столе рубили мясо – сын этих людей был мясником. После возвращения законных хозяев стол использовался исключительно по назначению. И сколько интересных людей попивало чаёк и кое-что покрепче за этим столом, и какие звучали беседы! До войны под огромным старинным кремовым абажуром с уютным приглушённым светом (абажур цел и сейчас) сиживали Виктор Шкловский и Владимир Луговской (Ю.Е. тогда по малолетству не оценил важности визита поэта, творчеством которого «заболеет» в студенческие годы). А потом… Визбор, Ким, Фоменко за этим столом сочиняли свои знаменитые капустники. За ним собирались поэты, писатели, режиссёры, актёры… Ряшенцев – человек гостеприимный. В его небольшую квартирку набивается порой куча народу. Тогда стол раздвигается на невероятную длину, и за ним может усесться одновременно 60 человек.
Итак, питерский мальчик из интеллигентной семьи оказался на полубандитской московской окраине. Первый человек, которого он увидел на новом месте, был сосед, спавший пьяный в луже возле подъезда. И интеллигентному мальчику пришлось усваивать законы двора, в котором ему предстояло жить в ближайшие 70 лет. Для первого выхода во двор его нарядили в красный бархатный костюмчик, который отчим, воевавший в составе Интербригад в Испании, привёз из-за границы. «Можете себе представить, – восклицал Юрий Евгеньевич, – хулиганский двор – и красный бархатный костюмчик!.. Больше я в таком виде во дворе не появлялся. А через какое-то время мама вышла во двор и с удивлением узнала, что у её сына кличка «Петух». Не в уголовном смысле, а потому что он, её сын, на всех наскакивает: в 5–6 лет уже начинаются драки!» В общем, Юрий Евгеньевич спуску никому не давал, и скоро двор его признал своим. Так что он спустя годы смог о себе сказать: «Оголец усачёвский, пират проходного двора». У него, между прочим, если присмотреться, нос сломан. Подрался в детстве с мальчиком Витькой, о чём с гордостью как-то поведал.
«Район Хамовники, где я живу всю жизнь, заселяли горожане в первом поколении – рабочие фабрик «Госзнак», «Красная роза», завода «Каучук». Они жили в домах, построенных в конце 20-х годов как рабочие кооперативы. Вокруг моего дома в Языковском переулке стояли метростроевские бараки». Тогда строилась станция Фрунзенская. Её открыли году в 55-м. А в начале 50-х метро ещё не было, студенты ездили в институт на трамвае, который ходил по Пироговке. «Во дворе у нас были картофельные грядки, гуляли утки, петухи, визжали поросята в сараях. Это была настоящая слобода», – рассказывал Ряшенцев.
Ты ни город, ни деревня, слобода.По дворам твоим бушует лебеда.И, как мы, – такой же парень слободской,Вольный сад глядит на улицу с тоской.От окраины до центра —Сорок пять минут.Да зачем далёко ехать —Всё ведь есть и тут:И рыданье от измены,И свиданье при звезде.И плясать и резать вены,Чай, не хуже в слободе.Палисадник под окошком невелик —Вот и отдых для прохожих для калик.Как там жизнь в далёком мире, как дела?Хоть для нас что дальше сада – то зола.Ты ни город, ни деревня, слобода.Кто рождён тут – слободской, и навсегда!Почему же 45 минут? От Фрунзенской до Библиотеки Ленина – 7 минут на метро, а пешком до центра – полчаса. Ряшенцев объяснил, что метро тогда было только «Парк культуры», от Усачёвского рынка, от школы надо было дойти до метро, а потом ехать до центра.
Стихи, что приведены выше, – это слова зонта из музыкального фильма с участием Ефима Шифрина «Ангелок с окурком» (название, которое дал этому вокальному циклу автор, – «Слобода»). Ю. Ряшенцев: «Этот вокальный цикл о вечной слободе и её вечных персонажах». Ряшенцев признаётся, что всегда любил этих людей, «хотя жить среди них не просто».
В цикле «Слобода» показана жизнь Хамовников с конца 40-х до конца 90-х годов XX века. В нём нашли отражение приметы послевоенного детства самого Ряшенцева и его приятелей. Тогда у мальчишек модно было держать голубей.
Голубятня огольцам – чистый рай.Кого первым бросить в небо —Выбирай.Выбираем чиграша Всякий раз —Что за голубь!Как походит он на нас!Ох, люблю я чиграша.Он не стоит ни гроша.Дорогие птицы с ним не ладят.А зато у чиграша Огольцовская душа:Он не знает сам, когда он сядет.В таком дворе, конечно, отыщется не один отсидевший. Ряшенцеву приходилось учиться мирно сосуществовать и с блатными. Его мудрость, тактичность, умение понимать и сострадать этим людям позволили ему, держа определённую дистанцию, при этом не унижать их своей интеллигентностью, более того – вызывать у них уважение. В стихах Ряшенцева персонажи, только что вышедшие из тюрьмы или готовящиеся в неё сесть, появляются нередко. Поэт пишет о них с усталой жалостью, даже справедливости ради отдаёт дань их своеобразному благородству и кодексу чести, но ни в одной строчке нет и тени восхищения блатной романтикой. Если где-то и прозвучит ухарство, то лишь в стихах-стилизациях, написанных от лица «бедовых ребят».
По такой-то темени и шуткаДо разрыва сердца доведёт.Возвращаться девушкам, ох, жутко:Кто-то поджидает у ворот.А это мы, а это мы,Соседские ребята.Мы с вами были до тюрьмыЗнакомые когда-то.Девки врассыпную, ну и – ходу!Лучше не лови и не зови.Где ж им знать, что, выйдя на свободу,Только и мечтаешь о любви.Кто не провожает вам так поздно,Те, небось, к любови – свысока.Наше же намеренье серьёзно —Вот вам наша честная рука.Стихи цикла «Слобода» пронизаны острой ностальгией по ушедшей молодости. Трудно представить тому, кто сам это не пережил: приехать в дом ребёнком, и состариться в нём, и видеть, как постепенно исчезают милые приметы счастливого времени юности, как старятся и уходят навсегда из твоего дома ровесники, с которыми, кажется, совсем недавно гонял в футбол, играл в войну.
Переулок перекопан. Проходным идёшь двором. Там живёт дружок на первом. И зазноба на втором. Там на розовом балконе одинокий инвалид Невесёлую гармошку неумело шевелит…
Переулок перекопан. Проходным идёшь двором.Там живёт дружок на первом. И зазноба на втором.Там на розовом балконе одинокий инвалидНевесёлую гармошку неумело шевелит…Переулок перекопан. А двором идти нельзя:Там стоит отец зазнобы, кулаком весь год грозя.Вдоль гремучих водостоков громыхает грозный лёд,И летят на счастье звёзды, и всё время – недолёт.Проходной двор, проходной двор.Сам себе – мент,Сам себе – вор.Здесь покуда не стемнело – благодать.А стемнеет – всё равно ведь не видать.Ни дружка и ни зазнобы. Вот уж скоро двадцать летПереулок перекопан – никаких других примет.Ничего от прежней шалой, как вот этот проходной,Дикой юности, недавней, приключившейся со мной…Дедушка и внук
– Что здесь было, дедушка, расскажи,Где теперь одни только гаражи?Почему, как в садик меня ведёшь,Ты больною ножкой по банке бьёшь?– Здесь в футбол играли на пустыре.Был я первым форвардом во дворе.Вырос бы в Боброва твой дед в срок,Ох, кабы не банка да пузырёк.– Нам читали в садике про принцесс.У меня к ним, дедушка, интерес.Да ведь дом фабричный наш – им чужой.Что ж ты плачешь, дедушка, ты ж большой?– Про принцесс не ведаю – не знаком.А к царевне хаживал – вон балкон.Без царевны нету ведь слободы.И любви на свете нет без беды.Вот как лист качается,А ветерок – насквозь.Ох, всё у нас кончаетсяНе так, как началось!..Когда ещё нас было трое,В те дни окраиной мы были —Картошка под окном цвела.И детство, нищее, сырое,С протяжной песней об утиле,Нам свистнуло из-за угла.Читали бабы похоронку.Играли огольцы в пристенку.Вставал над окнами салют.Жизнь походила на воронку:Затягивала. Всё – в новинку:Беда, восторг и неуют.Не странно ль, что в сплошном запале,В блажном порыве – только свистни! —Мы, с полной ветра головой,Талонов хлебных не терялиИ в очереди, как в Отчизне,Ценили юмор грозовой…Поэт не боится неприглядных бытовых деталей, хотя и не смакует их. Но вот помойки, подворотни и проходные дворы – почти непременная часть пейзажа в его стихах: «И воздух родных подворотен неверен и зыбок и полон весёлых угроз и угрюмых улыбок», «Шорох северного лета. Запах подворотен… Я другой не верю – эта родина из родин…», «А потом – во двор проходной: во дворе проходном – былое…»



