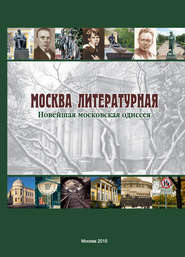 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Москва литературная. Новейшая московская одиссея
Тема взаимоотношений Горького и Шолохова не так легка для трактовок и многие пункты в ней требуют если не переосмысления, то, по крайней мере, нового, незашоренного, прочтения. С одной стороны, считается, что, пытаясь организовать писательскую оппозицию к Съезду Союза писателей 1934 года, Горький полагал Шолохова «среди своих». С другой, для Горького Шолохов всегда оставался «областным писателем» (термин самого Горького). – Так или иначе, но и горьковский адрес в шолоховской биографии кажется мне заслуживающим внимания.
Мы заодно заворачиваем поклониться к дому еще одного могиканина советской эпохи, ее признанного Достоевского (в той же степени, в которой М.А. Шолохов, и только он один, для этой эпохи Толстой) – Леонида Леонова…И вот мы подходим к классической кирпичной башне позднесоветской постройки, где Леонову суждено было окончить свой век, мы смотрим на дикое, но с прискорбной адекватностью передающее стиль эпохи сочетание кричащей вывески над парадным – и мемориальной доски-памятника, выполненного в форме обращенной в мир пирамиды…А в жизни М.А. Шолохов и Л.М. Леонов не только не дружили, но, говорят, даже почти и не здоровались. Наш маршрут позволяет указать на еще один литературный контекст шолоховского творчества, но на сей раз – показательный контекст непересечения авторов-современников, признанных мастеров своего времени.
Наконец, мы в Сивцевом. Вообще, Сивцев вражек (овраг на месте речки со сказочным прозвищем Сивка) – пространство столь знаменитое и столь отмеченное различными персонажами культурной летописи двух последних столетий, что достойно отдельной экскурсии. А нас интересует Сивцев вражек, 33. Опять-таки, типичная кирпичная высотка, отражающая советские представления 60-х о комфорте. После получения Нобелевской премии государство презентовало лауреату московскую квартиру в историческом центре города. Сивцев – он, несмотря на звонкое имя, всё-таки всего лишь переулок (для Шолохова это обстоятельство – фатально, видимо, нигде кроме, как в переулке, для него квартира в Москве немыслима…), со всей, положенной переулкам, узкостью и извилистостью – такой, что мы с определенным трудом находим себе уютное местечко для остановки. Перед нами – мемориальная доска «дважды Герою Социалистического труда, великому советскому писателю и общественному деятелю М.А. Шолохову».
…На Сивцевом Шолохов вновь оказался в исключительно своей компании. Чуть налево по соседней стороне улицы – Сивцев вражек 34, где нанимал квартиру молодой Л.Н. Толстой (вот оно, замкнулось, – толстовское кольцо в московской топографии Шолохова). А если пройти вглубь, то обнаружится фасад углового здания Сивцев вражек, 38, которое в качестве типичной старомосковской интеллигентской квартиры – квартиры Громеко описано у Б.Л. Пастернака в романе «Доктор Живаго» (снова – «живаговская» ниточка вплетается в реальный биографический шолоховский сюжет). Так и жил здесь (то есть останавливался, когда приезжал в Москву) советский нобелевский лауреат – в окружении пристанища великого русского не-лауреата (что изменилось бы в истории литературы, если бы первым русским автором, получившим Нобеля, стал граф Толстой?..), и – дома-напоминания о великом же советском от премии отказнике…
Буквально пару слов о Нобелевке Шолохова. Общеизвестно, что Нобелевская премия по литературе имеет не только собственно литературный, но зачастую политический и социальный смысл, обозначая некое послание мировой и литературной общественности (как было и в случае с относительно недавними вручениями премии Орхану Памуку, Мо Яню… И в случае присуждения Нобелевки Борису Пастернаку, конечно!). В этом отношении как раз «советскость» Шолохова сработала, простите за выражение, «на руку» писателю. Ведь история получения Шолоховым нобелевской премии тоже достаточно показательна и примечательна. Шолохова активно переводили и печатали за границей, правда, к сожалению, воспринимали исключительно в мелодраматически-экзотической плоскости. А в послевоенный период, когда уважение к Советским войскам, освободившим Европу от фашизма, определило и изменение восприятия Советского Союза, Шведская королевская академия дала понять советскому руководству, что хотела бы отметить литературные достижения послереволюционного периода. Имя Шолохова как наиболее приемлемого и желанного для обеих сторон кандидата звучало уже тогда, но быстрого развития идея не получила. Хотя не исключено, что частые послевоенные поездки Шолохова по Скандинавии представляли собой своего рода подготовительную работу в этом направлении… Потом разразился скандал с нобелевской премией Бориса Пастернака, кандидатура которого, кстати, тоже обсуждалась еще до публикации романа «Доктор Живаго». Но последней точкой в перипетиях шолоховской нобелевки стал отказ в 1964 году от премии Жана-Поля Сартра, симпатизировавшего советскому искусству. Сартр заявил, что Нобелевская премия носит политико-буржуазный характер, сознательно не отмечая заслуг писателей «восточного лагеря». В частности, Сартр упомянул и Шолохова с Пастернаком: «Вызывает сожаление тот факт, что Нобелевская премия была присуждена Пастернаку, а не Шолохову, и что единственным советским произведением, получившим премию, была книга, изданная за границей и запрещённая в родной стране». Так что, можно сказать, Шведская академия прислушалась к мнению французского философа и в следующем же 1965 году вручила премию именно советскому автору, наиболее, наверное, уместному в данном контексте. Думается, Шолохов как автор «Тихого Дона» действительно лучше любого другого писателя представлял для Европы эстетическую и нравственную ценность искусства и литературы советской эпохи. Кстати, 2015 год – юбилейный не только для писателя, но и для его нобелевской премии – с ее присуждения прошло полвека.
Очень актуальными и заслуживающими осмысления кажутся те пункты Нобелевской речи Шолохова, в которых он говорит о роли романа в современной ему литературе, о становлении и эволюции этого центрального на данный момент повествовательного жанра. А еще часто обращаю внимание на такой, казалось бы, неожиданный факт: в своей нобелевской речи Шолохов, рассуждающий о социалистическом искусстве, цитирует… Евангелие. Ненавязчиво, но, думается, очень неслучайно возникает у него отсылка к нагорной проповеди: «Человечество не раздроблено на сонм одиночек, индивидуумов, плавающих как бы в состоянии невесомости, подобно космонавтам, вышедшим за пределы земного притяжения. Мы живем на земле, подчиняемся земным законам, и, как говорится в Евангелии, дню нашему довлеет злоба его, его заботы и требования, его надежды на лучшее завтра. Гигантские слои населения земли движимы едиными стремлениями, живут общими интересами, в гораздо большей степени объединяющими их, нежели разъединяющими». Можно, конечно, услышать в этих словах апологию коллективизма, но можно ведь и вспомнить знаменитую и широко известную в 1960-е годы цитату Джона Донна: «Нет человека, который был бы как остров, сам по себе, каждый человек есть часть материка, часть суши… смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством…» Возможно, даже такое случайное совпадение представляет собой повод серьезно задуматься о сути того, какие именно вековечные истины и нравственные установки выражал своим творчеством и своей судьбой Михаил Шолохов.
Пройдя его московскими кругами от начала до конца, в меру собственных скромных познаний, возможностей и сил, мы отправляемся на Гоголевский бульвар {рядом с домом № 10) – к памятнику М.А. Шолохову (скульптор А. Рукавишников). Здесь, замыкая бульварное шолоховское кольцо, мы вспоминаем все ключевые мотивы шолоховских произведений, нашедшие воплощение в скульптурной композиции.
Указатель адресов (по маршрутам)
Оболенский пер., д. 14 (перекресток Хользунова (бывш. Трубецкого и Оболенского переулков) – гимназия № 9 им. Григория Шелапутина, в которой учился Шолохов.
Колпачный пер., д. 11 – глазная лечебница Снегирева.
Бурденко ул., (бывш. Долгий пер.), д. 20 – дом, в котором М. Шолохов квартировал в период обучения в гимназии и в начале 20-х годов.
Моховая ул., д. 9— Рабфак им. Покровского.
Малая Дмитровка, д. 12 — Государственный институт журналистики (ГИЖ), здесь учился И. Молчанов, друг М. Шолохова
Покровка, д. 9 — Литературная студия при общежитии «Молодой Гвардии», которую Шолохов посещал в 20-х годах.
Леонтьевский пер., д. 18 – редакция газеты «Юношеская правда», в котором напечатан первый из «Донских рассказов», «Родинка».
Кузнецкий мост, д. 9 — редакция журнала «Комсомолия», там напечатан рассказ «Бахчевик».
Воздвиженка, д. 9 — редакция «Журнала крестьянской молодежи», в котором работают друзья М. Шолохова Н. Тришин и В. Кудашев, публикуются рассказы Шолохова; в этом же старомосковском особняке состоялась пресс-конференция в честь присуждения Шолохову Нобелевской премии по литературе.
Воздвиженка, д. 16 — на вечере МАПП А.С. Серафимович представляет Шолохова столичным литераторам.
Тверская ул., д. 1/14 – гостиница «Националь»; в ней произошла первая встреча А.С. Серафимовича и М.А. Шолохова; впоследствии Шолохов, приезжая в Москву, часто останавливался в ней.
Мира проспект (бывш. Первая Мещанская), д. 60 — на этом месте стоял дом, в котором Шолохов снимал квартиру в середине 20-х годов.
Георгиевский пер., д. 2/14 — по этому адресу, в снесенном в 1938 году доме, в квартире № 5 Шолохов получил свою первую жилплощадь в Москве (по прописке). Здесь был задуман «Тихий Дон».
Большая Дмитровка, д. 7/5 (Камергерский пер., д. 5/7) – в этом доме, в квартире № 13 проживал В. Кудашев, здесь проходили первые читки «Тихого Дона» и в течение длительного времени наследники Кудашева хранили рукописи романа.
Кузнецкий мост, д. 7. — издательство «Московский рабочий», впервые выпустившее «Тихий Дон» отдельной книгой; в редакции издательства Шолохов знакомится с Е.Г. Левицкой.
Романов пер., д. 3 — Пятый дом союзов, здесь проживала Е.Г. Левицкая (в конце жизни – на Кутузовском проспекте, д. 26); Шолохов бывал у нее в гостях по обоим адресам.
Тверской бул., д. 25— ИМЛИ РАН им. А.М. Горького; в этом доме М. Шолохов навещал в 30-х годах проживающего здесь с семьей А.П. Платонова.
Малая Никитская, д. 6/2 — мемориальный музей-квартира Максима Горького; Шолохов не раз был зван в этот дом.
Сивцев вражек, д. 33 — по этому адресу находилась последняя московская квартира М.А. Шолохова; об этом напоминает мемориальная доска.
Гоголевский бул., рядом сд. 10— памятник М.А. Шолохову.
Библиография
1. Шолоховская Москва. Новейшая московская одиссея. М.: Экон-Информ, 2009. 48 с. + 4 с. ил.
2. Колодный Л.Е. Как я нашел «Тихий Дон». М: Голос, 2000. 624 с.
3. Кузнецов Ф.Ф. «Тихий Дон»: судьба и правда великого романа / РАН; Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. М.: ИМЛИ РАН, 2005. 864 с.
4. Белая Г.А. «Дон-Кихоты» 20-х годов. «Перевал» и судьба его идей. М.: Советский писатель, 1989. 400 с.
5. Голубков М.М. Утраченные альтернативы: Формирование монистической концепции советской литературы. 20—30-е годы. М.: Наследие, 1992. 202 с.
6. Емельянов Б. «Тихий Дон» и его критики». – «Литературный критик», 1940, № 11–12.
7. Ермолаев Г. «Тихий Дон» и политическая цензура. 1928–1991. М.: ИМЛИ РАН, 2005. 255 с.
8. Запевалов В.Н. А. Платонов и М. Шолохов: «Возвращение» и «Судьба человека» // Творчество А.П. Платонова. Исследования и материалы. Книга 2. СПб.: Наука, 2000. С. 125–134.
9. Конюхова Е.С. «Поднятая целина» Михаила Шолохова в контексте произведений о русской деревне 30-х годов (А. Платонов «Котлован», В. Белов «Кануны», Б. Можаев «Мужики и бабы», С. Залыгин «На Иртыше»): дис… канд. филолог, наук. М., 1995. 176 с.
10. Корниенко Н.В. «Сказано русским языком…» Андрей Платонов и Михаил Шолохов. Встречи в русской литературе. М., 2003. 356 с.
11 .Костин Е.А. Эстетика М.А. Шолохова: дис… доктора филолог, наук. Вильнюс, 1989. 321 с.
12. Минакова А. М. Поэтический космос М.А. Шолохова: О мифологизме в эпике М.А. Шолохова. М.: Прометей, 1992. 77 с.
13. Михаил Александрович Шолохов: Биобиблиографический указатель произведений писателя и литературы о жизни и творчестве / Рос. гос. б-ка, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького РАН; – М.: ИМЛИ РАН, 2005. 960 с.
14. Новое о Михаиле Шолохове: Исследования и материалы / редкол.: Ф.Ф. Кузнецов, В.В. Васильев, Н.В. Корниенко, С.Н. Семанов, А.М. Ушаков. М.: ИМЛИ РАН, 2003. 590 с.
15. Писатель и вождь: Переписка М.А. Шолохова с И.В. Сталиным. 1931–1950 годы: Сборник документов из личного архива И.В. Сталина / сост. Ю.Г. Мурин. М.: Раритет, 1997. 159 с.
16. Проблемы изучения языка и стиля М.А. Шолохова. Ростов н/Д: Рост. гос. пед. ун-т, 2000. 87 с.
17. Семанов С.И. «Тихий Дон» – литература и история. М.: Современник, 1982.240 с.
18. Семанов С.И. Православный Тихий Дон. М.: Наш современник, 1999.142 с.
19. Семенова С.Г. Мир прозы Михаила Шолохова. От поэтики к миропониманию. М., 2005. 352 с.
20. «Тихий Дон» М.А. Шолохова в современном восприятии: Шолоховские чтения. – Ростов н/Д: Изд-во Рост, ун-та, 1992. – 174 с.
21. Хьетсо Г., Густаессон С., Бекман Б., Гил С. Кто написал «Тихий Дон»? (Проблема авторства «Тихого Дона») / пер. А.В. Ващенко, Н.С. Ноздриной. М.: Книга, 1989. 186 с.
22. Шолохов М.А. Письма / РАН; Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; Гос. музей-заповедник М.А. Шолохова; под общей ред. А.А. Козловского, Ф.Ф. Кузнецова, А.М. Ушакова, А.М. Шолохова. М.: ИМЛИ РАН, 2003. 480 с.
23. Шолохов М.А. Собрание сочинений. В 8-ми томах. М.: Художественная литература, 1985–1986.
Интернет-ресурсы
1. http: //www. sholohov. dspl. ш/
2. http://feb – web. ru/feb/sholokh/default. asp
3. http://encycl.yandex.ru/
4. http://hronos.km.ru/index.html
5. http://wvmmthenia.rn/sovht/mdex.htrnl
6. http://www.noblit.rn/
«Золотая моя слобода.»: Хамовники в творчестве Юрия Ряшенцева
Сейчас мы начнём путешествие по Хамовникам, бывшей московской окраине, слободе ткачей («хам» по др. – русски «полотно») по следам Ю. Ряшенцева, поэта и старожила этого района, который воспел его в своих стихах.
Пироговские улицы до 1924 года именовались Царицынскими. Топоним был связан с тем, что в этом уголке Москвы в XVI столетии находился двор первой жены российского императора Петра I – царицы Евдокии Федоровны, происходившей из рода Лопухиных. По другой версии – по этой дороге ездили в Новодевичий монастырь русские царицы.
Представим себе, что сейчас 1946–1947 год. Совсем недавно кончилась война. Нищета, разруха. А нам по 15–16 лет, и мы счастливы, что живы, что наступил мир. И пускай голодно, продукты по карточкам, из одежды только перешитое из шинели пальтецо да гимнастёрка с галифе, доставшиеся от старшего брата-фронтовика. Но зато наступила весна или пришло бабье лето, как сейчас. Воскресный день, и мы с дворовой компанией отправляемся гулять.
Ну, айда, слобода, неизвестно куда: может, в город,А может, и за город.Воровать – у кого? А читать – невдомёк.А мечтать – недосуг.Да и в городе – вечный на нас наговор,А за городом – попросту заговор:Жалит жижа лесная сквозь рваный сапог,Метит в голову сук.Здесь, в родных проходных, и начало начал, и разгон,И полёт, и падение.Здесь и вопли котов, здесь и грабли ментов,И гитарная сыпь.А холодная близость столичных дворцов —Просто фарт дармовой, совпадениеМатеринской дороги с державной нуждойВ послецарскую зыбь.Ну, айда, слобода, неизвестно куда: на Девичку,А может, – в Хамовники.Шмыгнет в тихий подъезд пионерский вожак,Бонна в сквере вздохнёт:– Продувная шпана, золотая орда, басурманы,Тевтоны, храмовники!..* * *Я хочу описать восприятие мая подростком.Он не знает ещё, что и май – только месяц в году.Но движение липы, взмывающей над перекрёстком,Он уже ощутил, и душе его – невмоготу.Как сова на мышонка, глядит на беднягу экзамен.Но, семейной нужде благодарен, встаю из-за книг.Квартирующий старый писатель, роняющий «Амен!»,Этой дивной латынью венчает паденье вериг…Нет, покуда свежо. Но колышутся стёкла вдоль клиник,А ещё потоньшают стволы, а ещё прилетитСлаборазвитый ветер и, как невезучий алхимик,В серебро одуванчиков золото вдруг превратит.Лёгкий мел на асфальте под красною туфелькой ловкойПодчеркнёт, что весна – прошлогодней весне не чета.Не здоровайся с этой раскосой шальной полукровкой —Фенимором и прерией пахнет её красота.Фенимором! И ты, поспешающий за клопоморомДо закрытья аптеки, – ты полон счастливой тоски,При которой да сгинет вся мразь бытовая по норам,Да ползут по просторам лишь майские только жуки!Странный ветер предчувствий струит этот месяц-предтеча:Трын-травы с мандрагорой сплели ароматы в один.Сон со стыдным объятьем, крахмальным мечтам не переча,Вызревает махровым бутоном средь мартовских льдин.И в небесной игре, в палисадниках старых домишек,В махаоне на ставне Погодинской тихой избыВдруг сквозит обещаний такой беспощадный излишекИ такая нехватка немедленных жестов судьбы…Как его оценить: глубина безнадёжная, вздор ли —Этот ветер, который я пью и в котором тону?..Кто же знает, что сладкий комок в отгорланившем горлеЛучше слова и музыки явит мне эту весну…Может быть, именно эти липы имел в виду поэт, липы, растущие возле вьетнамского посольства на Большой Пироговской, 13. Это здание на Большой Царицынской улице было построено в 1892–1894 гг. по проекту главного архитектора Москвы Иллариона Александровича Иванова-Шица в стиле модерн – в неогреческом стиле. Здесь разместился детский приют имени Николая Сергеевича Мазурина. Род купцов Мазуриных славился своей благотворительностью. Отец Николая был владельцем бумагопрядильной мануфактуры в Реутове. Сам он учился и жил в Европе, вернувшись в Москву уже стариком. После смерти Мазурина его гражданская жена, француженка Мария Шарбоно, пожертвовала средства для создания сиротского приюта на Девичьем поле, который получил имя её покойного мужа – Н.С. Мазурина. В приют принимали мальчиков и девочек 5–9 лет вне зависимости от вероисповедания и сословия. В 30-е годы – Дом испанских детей С 1937 года здесь была средняя школа, а с 1950-х – посольство социалистической республики Вьетнам.
…А нынче вдоль вьетнамского посольстваПолзут машины. Хочется понятьМосковских лип ведьмаческое свойство —Влюблять людей и времена менять.Повеет с веток, и взойдет булыжникЧерез асфальт, и мы – в тридцать шестом.Ещё поют старьёвщик и барышник.Уже бедой отмечен этот дом.Уже весёлых листьев перебранкаНе заглушает странных голосов.Худы и смуглы беглецы от Франко —Они уже остались без отцов.Когда, ревнитель Интербатальона,В испанке с жёлтой кисточкой иду,Они кричат мне дико: – Эспаньола!..И кормят тульским пряником в меду.И сердце пятилетнее разбитоИз-за косынки с жёлтой полосой.И песенка, по имени Челита,Меня щекочет жёсткою косой…Мы проходим через сквер на Девичьем поле к светофору. Вправо уходит Плющиха. До XVIII века она называлась Саввинская, по Саввинскому монастырю, который был разрушен в 1930 году. С XVIII века получила название Плющиха по кабаку Плющева. С этой улицей связаны имена многих выдающихся деятелей культуры. В начале улицы год снимали дом Толстые. Льву Николаевичу было тогда 8 лет. Здесь жили поэт А. Фет, художник И. Суриков, писатель И. Лажечников (их дома не сохранились), философ И. Ильин, провела последние годы Анна Тимирёва – возлюбленная адмирала Колчака. Неподалеку, в 7-м Ростовском переулке, жила Ада Якушева. Сюда провожал её Юрий Визбор, сюда приходили его письма из армии. Ростовские переулки получили своё название по подворью ростовского митрополита.
Существуют разные гипотезы происхождения названия Девичье поле. По одной – царевна Софья, сестра Петра I, подарила эти земли Новодевичьему монастырю. По другой – сам монастырь получил название по уже существовавшему Девичьему полю, на которое приводили самых красивых девушек для отправки в Золотую Орду – это была дань татаро-монголам. Ещё один вариант названия – в древности на этих обширных заливных лугах девицы пасли коров, а по вечерам водили хороводы, устраивали всевозможные игры и, конечно же, пели. В XVIII веке на Девичьем поле начали строить свои загородные владения московские аристократы: Черкасские, Голицыны, Трубецкие.
Девичье поле известно как место проведения массовых народных гуляний. Здесь чествовали икону Смоленской Божией Матери, которая находится в Новодевичьем монастыре. На Девичке построили деревянный театр, в котором в праздники шли бесплатные представления (его закрыли во время эпидемии чумы 1771 года). 16 сентября 1826 года здесь прошли гуляния по случаю коронации императора Николая I. Специально выстроили красивые галереи, накрыли столы с фруктами, медом и пивом, выпечкой, жареным мясом, копчеными окороками и многим другим. Для питья возле столов установили 2 больших и 16 малых фонтанов, из форсунок которых били струи с белым или красным вином. После сигнала о начале трапезы огромная толпа бросилась на штурм столов, и через 15 минут вся еда была сметена подчистую, скамьи и столы разломаны, а галереи сравняли с землей. После этого гуляния на Девичке запретили, проводили лишь солдатские учения и воинские смотры. Народные гуляния возобновились лишь с 1864 года. Здесь широко отмечали Пасху и Масленицу. Когда был построен Клинический городок, гуляния с 1911 года перенесли на Пресню, чтобы не беспокоить больных.
В 1884-м московская Городская дума приняла решение о строительстве на Девичьем поле медицинских клиник и институтов как лечебной базы медицинского факультета Московского университета. Но уже в 1882 году на средства Е.В. Пасхаловой и купчихи В.А. Морозовой были возведены здания акушерского и психиатрического отделений клиник. Клинический городок строился как на средства государства, так и на средства благотворителей. В 1897 году строительство было закончено. В комплекс вошли здания 8 институтов, 12 клиник и 1 амбулатории. В 1931 году на базе медицинского факультета МГУ был создан Первый медицинский институт, чьей лечебной базой и стали клиники Девичьего поля. При клиниках по проекту Александра Мейснера была построена церковь Архангела Михаила, освященная в 1897 году. После революции здесь был читальный зал, спортзал, склады. В 1977-м начался снос церкви, но общественность встала на её защиту. В 90-е началось восстановление церкви, она была освящена в 2002 году. Здесь находилась главная святыня клиник – икона «Богоматерь-Целительница», список с которой можно видеть в церкви.
В начале Девичьего сквера – памятник Л. Толстому, который прожил недалеко отсюда многие годы жизни. Теперь в этом доме музей. Скульптор С.Д. Меркуров, 1972. Памятник Толстому открывает галерею скульптурных портретов под открытым небом, развёрнутую почти до Новодевичьего ансамбля. Это старые и новые памятники выдающимся учёным-медикам, сёстрам милосердия Второй мировой войны. Восьмерым выдающимся врачам – И.М. Сеченову, Н.И. Пирогову, Н.Ф. Филатову, В.Ф. Снегирёву, С.С. Корсакову, Ф.Ф. Эрисману, А.И. Абрикосову, Н.А. Семашко. В романе Ю. Ряшенцева «В Хамовниках и больше нигде» эти памятники по ночам переговариваются. Интересен памятник Н.И. Пирогову (скульптор Шервуд). «В бывшем Фрунзенском районе Пирогов сидит на троне с грустным черепом в руке».
Девичье поле – одно из любимых мест Ю. Ряшенцева. У него есть здесь своя скамеечка, на которой он сочиняет стихи. К 75-летию поэта студенты МПГУ придумали интерактивное действо с мушкетёрами и гвардейцами на Девичке и в заключение исполнили «Пироговские частушки» на стихи Ряшенцева: «Над Девичкой синей птичкой чья-то звёздочка летит…»
Пироговские частушки
Над Девичкой синей птичкойЧья-то звёздочка летит.Я б вошёл в любовь с отмычкой —Жалко, совесть не велит.Эта совесть – что за повесть?Сочинил её кретин.Кабы прок от ней, а то ведьПочитай что вред один.Какая грусть, какая грусть,Какая тьма над над сквериком.Не мил спокойный – ну и пусть:Гуляй теперь с истериком.На Большой на ПироговскойПотемнело ровно в шесть.Кабы этот взгляд бесовский,Ангел мой, бы приобресть!Жалко мая, жалко лета,Но совсем не жаль зимы.Ты кого кружишь, планета?Эти мы – уже не мы.За што меня, за што меня,За што меня зашторили?Где счастья нет в разгаре дня —Там к вечеру не горе ли?Клуб завода «Каучук» построен в 1927–1929 годы по проекту архитектора К. Мельникова при участии инженера Г. Карлсена в стиле советского конструктивизма. Памятник архитектуры, кандидат на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В зрительном зале ДК «Каучук» снимались эпизоды фильма «Берегись автомобиля».



