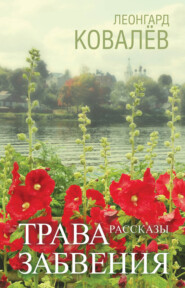скачать книгу бесплатно
Рядом с вокзалом находилось основное здание клуба, где была и библиотека. В клубе показывали кино. Деревянное строение это с архитектурными претензиями в виде каких-то башенок, шпилей, выкрашенное охрой и суриком, окружали старинные тополя. Фойе украшали растения в кадках. Здесь были столики для желающих поиграть в домино, шахматы, шашки. Перед началом сеанса с эстрады, специально устроенной для этого, выступали певцы, певицы, играл оркестр.
Здесь я видел: «Огни большого города» и «Новые времена», «Волга-Волга», «Весёлые ребята», «Дети капитана Гранта», «Василиса Прекрасная», фильмы о лётчиках и моряках, о революции и Гражданской войне, о шпионах и врагах народа. Эти последние, такие как «Ошибка инженера Кочина», «Партбилет», производили сильное, однако тяжёлое впечатление. Несмотря на малый свой возраст, я вполне воспринимал подавляющий пафос этих картин.
Атмосфера страха, сеявшаяся вокруг, расклеенные повсюду плакаты, изображавшие «ежовые рукавицы» в действии, другие, подобные им, достигали того результата, на который были рассчитаны. Ходили пугающие слухи о шпионах и диверсантах, которых, кажется, было уже столько, что опасность подстерегла на каждом шагу. Едва ли не каждодневные разговоры взрослых о том, что ночью «взяли» кого-то, заставляли держать в уме постоянную, смутную тревогу. И однажды глубокой ночью (а все эти дела, как и вообще чёрные дела, творились по ночам) к нам громко и требовательно постучали. Вошли люди в форме НКВД. Начальник спросил фамилии проживающих, потребовал паспорт дедушки. Сидя за столом, он смотрел в свои бумаги и что-то писал. Вдруг он спросил имя-отчество дедушки, хотя паспорт был у него перед глазами. Дедушка ответил, а энкавэдэшник назвал из своих бумаг другие имя и отчество. Оказалось, пришли за человеком под той же фамилией, проживавшим в маленькой избушке позади нашего дома. Так дедушка и все родные пережили несколько минут настоящего страха. В ту ночь добыча служителей преисподней была в другом месте.
А в первые дни нового года, рано утром, пришли все в слезах тётя Варя и Эмма – ночью забрали дядю Гену. Дяде, однако, невероятно повезло. Он попал в тот короткий промежуток, когда некоторых арестованных выпустили. Его освободили через две недели, он вышел бледный, заросший чёрной бородой. Были и радость, и слёзы по поводу его освобождения, и потом он рассказывал, как их били валенком, в который закладывали тяжёлый камень. Так отбивали внутренности, не оставляя на теле пыточных следов. Думаю, это было не последней причиной ранней смерти дяди Гены.
Обстановка окружающей враждебности, чувство, что кругом шпионы и враги, усиливались проходившими судебными процессами над троцкистами и бухаринцами, а также обычаем устраивать грандиозные похороны крупных деятелей и героев, как Горький, Орджоникидзе, Чкалов. Трансляции этих похорон с чеканным голосом диктора и траурной музыкой вызывали мрачные впечатления и тяжёлые чувства. Из нашего репродуктора я слушал их, затаив дыхание, каждый раз от начала до конца.
Происходили ещё какие-то странные, в то время непонятные события. Однажды всё обозримое небо покрыло несметное количество самолётов-бомбовозов, летевших низко – медленно, тяжело. Перелёт длился довольно долго. Что это было? Не знаю об этом ничего. В другой раз, тоже на небольшой высоте, пролетел какой-то не такой, не наш самолёт. Из разговоров взрослых было знание, что это немецкий, фашистский самолёт, и почему-то из-за этого плакала Эмма. Возможно, на этом самолёте в Москву прилетал Риббентроп?
Конечно, нам было известно о существовании очень плохих людей – фашистов. Они находились в Германии и убивали всех хороших людей, а особенно самых лучших – коммунистов. Об этом рассказывал фильм «Карл Бруннер», в котором трогала судьба немецкого мальчика, представленная интересно и человечно. Шла война в Испании, фашистские самолёты бомбили испанские города. В «Правде» была напечатана карикатура: могучий республиканский солдат наносит сокрушительный удар генералу Франко, – а он же и есть фашист, – удар, от которого у злобного генерала из перекошенной пасти вылетали зубы. И гордо звучало: «Они не пройдут!»
Были в то время фильмы о жестоких басмачах и злых белофиннах. На вокзальной площади состоялся митинг лётчиков, вернувшихся с финской войны. Слушая выступавших ораторов, они заполнили значительную часть площади – в тёмно-синей своей униформе, в пилотках, с медалями и орденами на груди.
Но были другие события, захватывавшие воображение: перелёт Чкаловского экипажа через Северный полюс в Америку; Папанинская эпопея; подвиг лётчиц самолёта «Родина»; ещё не утихли рассказы о недавней Челюскинской экспедиции, о лётчиках Водопьянове, Громове, Леваневском. В героическом обрамлении представлялись бои с японцами на Дальнем Востоке. Обо всём этом печаталось в газетах с большими заголовками, снимками, проводились помпезные передачи по радио, показывалось в кино. Таково было это время. И вот его голоса уже далеко, и мало кто слышит их.
В те дни мне пришлось близко узнать, что на свете есть смерть. Умерла молодая женщина, жившая через дорогу от нас. Похороны были многолюдные, с большим количеством цветов, среди которых утопали гроб и покойная, с духовым оркестром и душераздирающей музыкой.
А незадолго до моего отбытия в санаторий умер от диспепсии мой десятимесячный братик. Хоронили его мать, дядя Гена, тётя Варя, Эмма и я. День был радостный, яркий. Я впервые оказался на кладбище. Затенённое старыми деревьями, с памятниками и свежими холмиками могил, укрытыми венками, оно произвело неизгладимое впечатление, заставив подумать о тех, кто были и кого больше нет, о таинственном, страшном, обозначаемом словом «смерть».
Маленькая могилка была вырыта в ярко-жёлтом песке, на пологом спуске к долине, на краю кладбища. В красном гробике лежал хорошенький мальчик – в кружевах, похожий на куклу чистым, без кровинки лицом. Страшное это было дело: пугающий зев могилы, куда навеки был положен и засыпан влажным песком маленький человечек. И как радостна была картина летнего дня, говорившая о прекрасном и вечном! Как можно было соединить их? Сияло небо, светило солнце, всё было в зелени, яркой, счастливой под набегавшим ветром. Мать роняла молчаливые слёзы, и по-детски громко, безудержно плакала Эмма.
Несмотря на всю обстановку подозрительности и страха, на то, что кругом были враги и шпионы, всё ещё оставались солнце и небо, трава, деревья, оставались дом и дружба, весь круг близких и дорогих людей. А если тебе к тому же каких-нибудь пять или семь лет и когда у тебя есть всё, какие мировые проблемы могут испортить жизнь?
Я оставался предоставленным самому себе в мире, где большую часть времени всем было не до меня. Жизнь эта казалась скучной, неинтересной, томила однообразием и одиночеством. Всё это были одни и те же двор, сад, огород, и всё я оставался один, сам с собой. Потому, когда происходили пусть даже ничтожные события, они оживляли такие дни. Событием было чтение взятой в библиотеке книги, покупка новой, обычно грошовой, книжки, коробочки цветных карандашей, интересная радиопередача, приход Эммы с родителями или наше посещение их дома.
Вот бабушка варит в саду вишнёвое варенье – на костерке, в латунном тазу, поставленном на два кирпича. Мы с Эммой стоим рядом и ждём, когда она соберёт для нас вкусные пенки деревянной ложкой на длинном черенке. Или мы с бабушкой отправляемся в поле, где пасётся стадо, чтобы подоить Сондру. Бабушка несёт ведро, мы идём в конец улицы и оказываемся за городом, на природе. Солнце палит, оно в зените, небо безоблачно. По сторонам дороги высокие, редко посаженные ели, источающие под зноем смолистый аромат. Стадо пасётся недалеко, нас встречает Василь, весь в сознании своей профессиональной ответственности. Он о чём-то говорит с бабушкой, для меня сейчас у него нет времени. Бабушка доит Сондру, получается полное ведро молока, и мы отправляемся в обратный путь. На улице мы проходим мимо большого двухэтажного дома. Он стоит на пригорке, за высоким забором. Это коммуна, подобная той, какую описал Макаренко. На крыше – трое коммунцев. Одного спустили с крыши вниз головой, двое других держат его за штаны. Висящий орёт благим матом, приятели хохочут. Глядя на это, бабушка сокрушается, но что можно сделать?
Однажды возле нашего дома милиционер и красноармеец ловили сбежавшего коммунца. Стриженный под ноль, в синей рубашке и зелёных штанах, видимо, специальной одежде для коммунцев, прижатый к забору, он искал глазами, куда бы юркнуть, но бежать было некуда, он был пойман. Милиционер скрутил его, взвалил, как мешок с картошкой, на телегу проезжавшего колхозника, и повёз в сторону коммуны.
В цирке, куда ходили мы с бабушкой, показывали поезд, пассажирами которого были разные звери: обезьянки, собачки, зайцы. А в кукольном театре я смотрел спектакль, где вместе с куклами на большой сцене с чудесными декорациями существовал настоящий, живой Иван. Спектакль назывался «Большой Иван».
По нашей улице, в противоположной стороне от парка, за углом, находился небольшой базар. Бабушка делала там необходимые покупки и часто брала меня с собой. Там было много интересного, мне нравился этот живой цветистый мир. Тут продавались горы разнообразной глиняной посуды, также чугуны, сковороды, топоры и пилы, грабли, лопаты и рядом ярко раскрашенные глиняные игрушки: зайцы, собаки, свистки в виде петушков и птичек; а ещё вырезанные из дерева молотобойцы, медведи, старики и старухи; изделия из цветной бумаги; «морские жители», дудки, трещотки. На прилавках горки красных раков, разноцветные конфеты в виде круглых шаров и длинных палочек, соблазнительные штуки из мака с мёдом. В конце базара находился большой чан с керосином. Здесь всегда стояла очередь желающих получить его, ибо в каждом доме был примус, которым пользовались, чтобы не всякий раз топить печь или плиту.
На улице возле базара перед зданием почтамта на асфальтированной площадке мальчишки устраивали катанье на самокатах, гремевших подшипниками, которые использовались для них.
Помнится ещё, как бабушка вырвала мне зуб, который шатался и очень мешал. Она привязала крепкую суровую нитку одним концом к моему зубу, другим – к дверной ручке, вынула из плиты, которая в это время топилась, тлеющую головешку, одной рукой придержала дверь, а другой сунула мне к лицу головешку. Я отшатнулся – и зуб вылетел.
Иногда в выходной день мать отправлялась в город сделать какие-то покупки, и я упрашивал её взять меня с собой. Мы доходили до театра, до центрального парка, откуда с высокой кручи открывался вид на Днепр и Заднепровье. Парк, более интересный и красивый, чем тот, возле которого жили мы, площадь, окружённая большими домами, театр, много людей на улицах, – это давало новые впечатления, обогащало понятиями другой жизни.
В городе было много интересного. Мы заходили и в книжный магазин, и мать покупала там что-нибудь мне. Назад я уже еле плёлся от усталости, отставал, но в следующий раз опять упрашивал взять меня с собой.
В солнечный летний день железнодорожники организовали маёвку с выездом народа в живописную местность, на берег Днепра – с буфетами, с музыкой духовых оркестров, с выступлениями артистов. Взяли и нас с Эммой. Праздник получился замечательно незабываемый – среди чудесной природы.
Мне было пять лет, когда я увидел во сне, будто в наш дом с высокого крыльца ломится волк, тот самый, от которого ускользнули три поросёнка. Вскоре после этого я заболел. Я не мог держать голову естественным образом и стал носить её на руке. Мне начали сниться кошмары. Я стал кричать по ночам, а проснувшись утром, укрытый с головой одеялом, не мог пошевелить руками, чтобы, отодвинув его, избавиться от духоты. Выход вскоре нашёлся: я догадался стаскивать одеяло ногами, а немного полежав, снова обретал способность двигать руками.
Мать стала показывать меня врачам, и они лечили меня каждый на свой лад. Показали меня и местным профессорам, сделали рентгеновский снимок, но и на нём не увидели, в чём дело. Бабушка привела знахарку, она совершила надо мной таинственные манипуляции со свечами и невероятно толстой книгой, раскрыв которую, кропя меня водой, бормотала свои заклинания. Не помогло и это. Мать повезла меня в Минск. Там мы попали на приём к профессору Найману, позже, уже после войны, оболганному и уничтоженному бериевцами.
Я уже не мог идти сам, по многолюдной минской улице мать несла меня на руках. Я был тяжёлый, мне было пять с половиной лет. Мать выбивалась из сил. Был осенний месяц, наверное, октябрь, день солнечный, но прохладный. При переходе через пересекавшую улицу с головы у матери ветром сорвало берет, швырнув его под колёса проезжавшей «эмки». Один из прохожих, военный, бросился за беретом и выхватил его из-под самого колеса.
В гостинице с какого-то высокого этажа – так высоко я ещё не был никогда – я видел, как далеко вниз ушла земля, какими маленькими там казались люди. Оставив меня в номере одного, мать уходила хлопотать о врачебном приёме.
Игрушки, которые были со мной, мало развлекали меня, я лежал в постели, долгие часы меня окружали одиночество, тишина.
Профессор, глянув на снимок, сделанный в Могилёве, тотчас поставил диагноз: ушиб шейного позвонка. Было предложено два лечебных варианта: гипсовая коробка, охватывающая голову и туловище, включая ягодицы, или специальный жёсткий неснимаемый воротник. Я выбрал гипсовую коробку; воротник, который закуёт мне шею, пугал меня. Профессор сказал матери:
– Мужайтесь, будет ли лечебный эффект, неизвестно. В положительном случае в гипсе придётся провести, может быть, лет пять.
Профессор был невысокого роста, подвижный как колобок, с головой, полностью свободной от волос, напоминавший этим «доктора», который лечил меня «микстуркой» и «порошочками».
В назначенный день меня раздели догола, положили на холодном медицинском столе лицом вниз, и группа студентов, изучавших процедуру под руководством профессора, обступила стол, и каждый хотя бы один палец положил на меня, а на тело и голову стали накладывать влажные и холодные, пропитанные гипсом куски марли – несколько слоёв. От страха, а больше от стыдливости я кричал на всю клинику.
Меньше чем через год мать снова привезла меня к профессору. Я был уже на ногах. Осмотрев меня, профессор сказал:
– Вы счастливая мать, он вполне здоров.
Долгие восемь месяцев пролежал я в гипсовой коробке. Иногда заходили тётя Варя и Эмма, но не задерживались. Взрослые, как всегда, были озабочены своими делами. В комнате, кроме меня, в своей кроватке барахтался Игорь, родившийся в то время, когда я заболел. Он был занят погремушкой, резиновым утёнком и был почти беззвучный ребёнок. Особенного ухода за мной не требовалось, потому целые дни я оставался один.
Вечером с работы приходила мать, что-то делала для Игоря, для меня, иногда ходила в кино с тётей Варей и дядей Геной, которые всегда брали с собой и Эмму, и когда возвращалась, подсаживалась ко мне, рассказывала содержание фильма, что-нибудь ещё, а часто и читала вслух.
Мне давали книги, карандаши, бумагу – я читал или рисовал, положив бумагу на кусок фанеры. И когда уставал, думал о той жизни, которая протекала за стенами дома и была недоступна мне.
Прошла осень, прошли Новый Год, ёлка, зима, прошла и весна. Стало тепло, зазеленела трава. В саду расстилали рядно, меня выносили из дома, клали на него, оставляя так на весь день. Позже ко мне приносили Игоря, который уже начинал подниматься на ноги. Возле нас ставили какой-то ящик, и он, держась за его край, вставал, пробовал ходить.
Долгие дни эти со мной были только сад с тяжелеющими плодами на ветках, небо и солнце. Рядом, словно маленькие подобия его, цвели одуванчики, на них летели шмель и пчела. Заходившая ненадолго Эмма садилась на край рядна, сплетала из них венок, но вскоре уходила. Оставаясь один, целыми часами я смотрел в эту лазурь и думал… О чём?.. О чём можно думать в шесть лет?
К лету я начал тайком подниматься на ноги вместе со своей коробкой, привязанной ко мне бинтами, и пережил неожиданные ощущения: земля, которая долгое время оставалась у моих глаз, вдруг ушла страшно далеко вниз. У меня закружилась голова, я должен был вновь учиться ходить.
В следующем году меня отправили в туберкулёзный санаторий. В туберкулёзный потому, наверное, что предполагалась возможность возникновения этой болезни из-за ушиба позвоночника, на самом деле просто потому, что нужной путёвки не было. Та путёвка, которая по показаниям подходила мне, досталась другому ребёнку.
До места назначения меня сопровождала чужая женщина. В незнакомом городе, куда мы прибыли поездом, за нами приехала «эмка». Она развернулась на площади перед красивым зданием с овальным фасадом и колоннами по нему и выехала за город. В пути женщина и водитель оживлённо беседовали. Предоставленный самому себе на заднем сиденье, я впервые ехал в легковом автомобиле.
Небольшое светлое здание санатория, кажется, в два этажа, несколько других строений, видимо, хозяйственных, стоявших рядом, находились посреди соснового бора. Я оказался в группе детей такого же возраста. Там всё было как в детском саду – большая комната с игрушками, спальня, где стояли наши кровати, столовая. Распорядок был тоже детсадовский. Лечение – исключительно целебным воздухом бора. Время, незанятое приёмом пищи, послеобеденным сном, играми в комнате, проходило в лесу.
Но всё здесь вызывало во мне отторжение. У меня не было близости ни с кем из детей, всё было постылым и чуждым, лишённым тепла. Я чувствовал вокруг пустоту. Ночью, когда все спали, я думал о доме, вспоминая умершего братика, плакал. Долгие годы потом слово «санаторий» вызывало во мне чувство нерадостного, чуждого. А в памяти остались образы величавых деревьев, бора. Задумчивый шёпот, которым они обменивались друг с другом в вышине, дурманящий запах папоротников, густо разросшихся под ними, живо и ярко вспоминаются и теперь.
Одним из воспитателей и обслуживающих работников санатория был молодой мужчина, много времени проводивший с нами. Он вырезал для нас из толстой сосновой коры замечательные лодочки и кораблики. На них устанавливались бумажный парус и руль, и они красиво плавали в большой луже перед санаторием. Это мало развлекало меня. Даже когда воспитательница, расположившись на поляне среди окружавших её детей, читала интересную книжку, я оставался в стороне, погружённый в своё.
Была там девочка, которая не росла. Считали, что воздух соснового бора поможет ей. Она была постарше остальных, но такого же роста, как и другие дети. И тоже держалась отдельно, была молчалива, печальна.
В комнате для игр висела картина, изображавшая море, далёкий в нём парус и на берегу женщину и мальчика, машущих ему рукой. Я никогда не видел моря, оно представлялось мне влекуще прекрасным. А парус? Одинокий? Я уже знал эти стихи. В них заключалась тайна. Оставшиеся на берегу не могут изменить судьбы, а море всё дальше и дальше уносит надежду и счастье… Я всё ещё помню эту картину…
Я опять был у себя во дворе и в саду.
Вдруг я стал находить возле дома, в траве, ключи – отдельные и целыми связками. Откуда? Что это были за ключи? Возможно, среди них был и тот, волшебный, который откроет таинственную дверцу? Но, значит, и она тоже где-то здесь, близко? Я обследовал весь большой сарай и все уголки в саду, во дворе, в доме, но волшебной дверцы не было нигде. Я мечтал о чудесных приключениях, о Буратино и девочке с голубыми волосами. Я знал – они совсем близко. Ах, как хотелось оказаться в стране, где жили они! А эти двор и сад? Они были скучны, неинтересны, здесь всё было известно до последней травинки. И каждый день всё то же, одно и то же – солнце, деревья, небо, трава. И всё время один. Эмма готовилась поступать в школу, у неё были новые подруги. Игорь был ещё слишком мал.
Приближалась новая осень. К нам пришли соседи, которые жили в красивом домике через дорогу. Это были мать и дочь, девочка моих лет. Девочка была хорошенькая, желтоволосая, с красивыми карими глазами, Женя. В то время как бабушка и мать Жени обсуждали что-то, я показал ей свои рисунки, книжки. Она не выказала интереса ни к тому, ни к другому, а мне хотелось подружиться с ней.
Вскоре я побывал в доме этих, желанных для меня, соседей. В большой полусумрачной комнате, освещённой лампой под оранжевым абажуром, – дом окружали тенистые деревья, – за столом, стоявшим посреди комнаты, мать Жени что-то шила на машинке. В углу, возле окна стояла детская кроватка с ковриком над нею, с вышитыми на нём жёлтенькими утятами. Но сближения между нами опять не получилось.
Каждый день, засыпая и просыпаясь, я думал о ней. Мне хотелось, чтобы мы были вместе – вместе играть! Нам было бы хорошо. Она была такая нежная, такая красивая.
Они пришли снова, и бабушка опять что-то обсуждала с матерью Жени. Мы были во дворе. Было солнечно – так славно и так чудесно. Я опять не знал, чем её заинтересовать, а она оставалась странно неприступной.
– Хочешь, пойдём в сад, сорвём яблок? – сказал я, не придумав ничего другого. Я готов был для неё на всё. Но она горделиво повела плечиками, посмотрев равнодушно, свысока:
– Подумаешь! Задаётся своими яблоками! Задавака!
Стояли дни ранней осени. Солнце уже не жгло, не томило. Берёзы в парке, тополя вдоль улицы грустили о том, что прошло. В тихой задумчивости был старый сад… И она ушла… Мы жили так близко, но больше я никогда не видел её …
Последние события и последние воспоминания всей той жизни относятся к сорок первому году. Я уже был школьник. Утром двадцать третьего июня я приехал из пионерского лагеря и увидел, как в городе невероятно и поразительно всё переменилось. Станция, примыкавшие к ней площадь и улица, тихие и малолюдные в прежнее время, были теперь, словно растревоженный муравейник. Множество людей сновало здесь, не замечая ничего вокруг себя.
Дома была только бабушка. Мужчины находились неотлучно у себя на работе. Игорь был в детском саду и там оставался на ночь. Мать возвращалась из дома отдыха тем же поездом, каким ехал и я. Узнав об этом как-то в пути, разыскивала меня на перроне, в то время как я был уже дома.
Едва я переступил порог, по радио была объявлена воздушная тревога. Со станции зазвучали частые гудки паровозов. Бабушка велела мне идти в сад, сама же оставалась у плиты. Тут же появилась и мать.
В саду ещё продолжалась многообразно чарующая, мирная жизнь. В задумчивости, в тишине стояли деревья. Сияло небо, сверкало солнце. С безмерной щедростью они одаривали землю своей благодатью. Им не было дела до человеческих безумств.
Для укрытия во время ожидаемой бомбёжки дедушка уже выкопал глубокую яму. Как и всё, что он делал, яма была сделана аккуратно, старательно – совершенно круглая, диаметром метра два, с ровным, утрамбованным дном, со ступеньками для схода и выхода, с тщательно выровненным бруствером из вынутой земли. Трава уже была скошена, по саду шёл запах сена. Я сел на краю ямы, не спускаясь в неё. В небе, высоко-высоко, летел вражеский самолёт. Далёкий, таивший угрозу звук его моторов был слышен в саду.
В парке группа людей в штатском задержала некоего человека. В то время как там проверяли содержимое небольшого его чемодана и, кажется, что-то нашли, в сад неожиданно вбежал высокий мужчина, заросший чёрной недельной щетиной. Он явно спасался бегством. Не обращая внимания на меня, пугливо озираясь, увидев то, что происходило в парке, выскочил из сада и скрылся со двора.
Минуты через три в сад вбежали двое чекистов с пистолетами в руках, спросили, не забегал ли кто. Я ответил, но куда дальше побежал тот человек, не мог показать – из сада этого не было видно.
День был роскошный, радостный – последние мгновения, которые я провёл в этом саду, последние минуты той жизни, того далёкого, невозвратного, которое казалось тогда бесконечно скучным и так томило…
Воспоминания эти означают возвращение на пепелище. И дом, и сад, и все, кто там жили, – их давно уже нет. Во время оккупации из всей родни в городе оставалась только бабушка. Она не могла бросить дом и своё хозяйство, приглядывала ещё и за домиком Эммы. По своей неискоренимой потребности она приютила у себя нуждавшегося человека, который вскоре выгнал её, присвоив себе и дом, и всё имущество. Искать защиты было негде и не у кого.
После войны, последние годы жизни, бабушка бедствовала. Мы жили в другом городе. В последних письмах она писала: «… в жизни своей я много переплакала, но судьба уж, верно, моя такая, что мне до гробовой доски придётся плакать, ну да что поделаешь – так, наверное, нужно…»
Дедушка, как только началась война, потребовал, чтобы ему дали магистральный паровоз. Ему было за семьдесят, и он уже давно не водил поездов. Было проведено медицинское освидетельствование, и оно показало, что дедушка по всем показателям здоров. Устроили проверку технических знаний, и опять дедушка поразил членов комиссии, без запинки ответив на все вопросы. Ему дали паровоз. Однако у него оставался всё тот же недостаток: он засыпал, чуть ли не стоя. Потому вскоре его перевели на маневровый паровоз, потом сделали начальником угольных маршрутов. Он получал уголь в Кузбассе и Караганде, а в конце сорок третьего года работал уже ночным сторожем водокачки на станции Унеча. Однажды его нашли мёртвым на далёком расстоянии от охраняемого объекта. Причина смерти не была установлена. Телесных повреждений не было, кроме небольшого синяка возле виска…
Бабушка лежит на том же Карабановском кладбище, где похоронен мой маленький братик, и тоже в безымянной могиле. Дом сгорел в последние дни оккупации, при бомбёжке. Сгорел сарай, исчез забор, от сада остались уродливые обрубки без ветвей и листьев. Думаю, сейчас уже нет и их. На месте старого доброго дома построен другой – небольшой двухэтажный, примитивной послевоенной архитектуры. Роскошный двор и всё пространство сада вытоптаны, здесь уже ничего не растёт. Мне жаль старый дом. Долгими днями детства, когда я жил с ним, я не думал о нём. Только теперь пришло осознание того, почему там легко и хорошо было жить. Раньше в доме жили другие люди – те, кто построили его. Это была простая и добрая жизнь. Те люди, приносили сюда свои заботы, думы, страдания, здесь они работали, отдыхали и здесь любили. Они ушли не по своей воле, а дом хранил молчаливую память о них. Теплом, которое оставили они, доброй памятью этой он согревал и нас. И значит, вместе с ним сгорела память и о тех людях, и о нас тоже…
Нет и того домика, где жила Эмма. Из всех нас она одна остаётся жить в Могилёве. А мать, отец, тётя Варя, дядя Гена, дядя Коля? Их тоже давно нет. Они умерли каждый в свой срок и покоятся в разных местах, далеко друг от друга.
Иногда вспоминаю и ту желтоволосую девочку. Что сталось с ней? Осталась ли жива после войны? Как сложилась её жизнь? И много ли получила она от неё, такая красивая и такая гордая?
А я? Я живу далеко, в доме, где много подъездов и много квартир. Тесный двор заставлен машинами, мусорными баками, загажен собаками, время от времени нападающими на людей, – они считают, что территория принадлежит им. Солнце почти не заглядывает в наши окна – их загораживают такие же высокие дома, небо чаще всего почему-то покрыто тучами. Три наши комнаты составляют меньшую площадь, чем та одна, в которой мы жили тогда. В комнатах даже в солнечные дни – полумрак. На улице приходится быть настороже: могут встретиться грабители, наркоманы, сумасшедшие, всевозможные мошенники, «подростки», которым скучно и надо развлечься. Зато в доме есть удобства.
Проходят годы, забываются чёрные дни и чёрные дела. Белый снег успокаивает чувства. А те, кто идут по нашим следам, скажут: «Да не было этого ничего!» А может, и просто ничего не скажут – промолчат, отвернутся, обратятся к своим заботам. Да и в самом деле, кому нужны то дерево и та трава, которые росли где-то там, семьдесят-восемьдесят лет назад? Разве тому только, кто тогда, давным-давно, полный наивных надежд и фантазий, лежал на этой траве под этим деревом и смотрел в небо… И часто на память приходит любимая дедушкина поговорка: кто старого не видал, тот и новому рад.
Голос издалека
Я ещё не был школьником, но знал уже о пионерах и пионерских лагерях, мечтал и бредил ими. Жить в лесу, на берегу реки… палатки, костры, походы с горнистом и барабанщиком – могло ли что-либо сравниться с этим счастьем? И вот оно сбылось – мне досталась заветная путёвка, после первого класса я оказался в пионерском лагере.
Начальником лагеря был человек немолодой и неприметный. В лагере его видели редко. Никакими заметными действиями, личным участием в жизни лагеря он не заявил о себе. Запомнился только тем, что одет был в том стиле, которому следовало тогда большое начальство, руководители государства, вожди. Полувоенный френч с отложным воротником, застёгнутый на все пуговицы, фуражка военного покроя с матерчатым козырьком подчёркивали сходство с человеком немаленьким, может быть, даже указывали на личную преданность.
Всеми делами в лагере руководил старший пионервожатый – лет тридцати или побольше, высокий, коротко стриженный, черноволосый, несмотря на молодость не имевший, кажется, ни одного природного зуба. Улыбка его сияла сплошным золотом. Золото было, видимо, различной пробы, потому зубы имели разный оттенок. Был он энергичный, спортивный, голос имел командирский, громкий, лагерем руководил решительно и строго. Вид вместе с тем имел весёлый, но улыбка не давала повода надеяться на снисхожденье.
Жили мы в больших и добротных деревянных бараках, совсем ещё новых, в комнате четверо или пятеро из одного отряда. Мы сразу подружились, и у нас завёлся обычай перед сном рассказывать сказки. Сначала рассказывали все по очереди. Но вскоре выявился лучший рассказчик – деревенский парнишка, настоящий мужичок, серьёзный и самостоятельный, – веснушчатый, с выгоревшими добела волосами, в одеждах домашнего деревенского производства. Фантазия из него била ключом. После того как все остальные выговорились, он стал бессменным рассказчиком историй, в которых действовали волшебники, разбойники, в то же время танки, самолёты, конница, Красная армия и всё, что только могло родиться в его голове. Мы все уважали нашего товарища, признавали в нём личность.
День начинался с побудки, которую трубил горнист. Потом были: утренний туалет, линейка. После завтрака поход из лагеря в интересные места с какими-нибудь занятиями, играми. Возвращались к обеду, после которого наступал мёртвый час. Потом были: полдник, снова занятия, развлечения, для чего имелись спортивные и прочие устройства и приспособления. Была и библиотека. После ужина горнист трубил отбой, и лагерь затихал до утра.
В центре лагеря стояла трибуна, перед которой на спланированной площадке выстраивались отряды на утреннюю и вечернюю поверки. На мачту перед трибуной поднимался флаг. На вечерней линейке с трибуны начальник лагеря и старший пионервожатый принимали рапорт дежурного. Отсюда зачитывались приказы, распоряжения, объявлялись благодарности и выговоры, сообщалось об исключении из лагеря провинившихся. Тут же объявлялось о назначениях для разных работ на следующий день. В одном из таких приказов был поименован и я. Мне было определено помогать на кухне, куда я и явился на другой день после полуденного отбоя.
Кухня находилась в отдельном бараке. Там стояли огромные котлы, в которых что-нибудь варилось, было множество кастрюль, баков, всякой другой посуды и много женщин в белых поварских одеждах. Они были заняты каждая своим делом, в мою сторону никто даже не посмотрел. Тогда я сам обратился к поварихе, которая была ближе других, объяснив, для чего я пришёл. Не отрываясь от работы, чуть глянув на меня, женщина, у которой на душе может быть были какие-то непростые думы, сказала:
– Какая уж от вас помощь, иди лучше погуляй.
Не заставив уговаривать себя, однако понимая, что полученное таким образом освобождение вовсе не оправдывало меня перед начальством, потому таясь, словно лазутчик, я выскользнул из лагеря и первый раз в жизни совсем один оказался в лесном зелёном царстве, раскрывшемся передо мной.
Весь в игре солнечных и воздушных скольжений, лес был полон шумов и звуков, близких и отдалённых. Пробиваясь сквозь движущееся сплетение ветвей и листьев, с полудня на тропу падали отвесные лучи. Пронизывая игольчатые вершины сосен, теряясь среди тяжёлых еловых лап, они наполняли лесное пространство благостным дыханием лета, запахами разогретой ими растительности, самой земли.
На открытых местах ярко зеленели бархатные мхи, золотыми солнышками светились лютики, на высокой ножке колебались ромашки, в траве прятались колокольчики, другие цветы, над ними гудели пчёлы, шмели, порхали нарядные бабочки, ползали жучки, божьи коровки. Вершинами леса, то ширясь, то затихая, тянулся протяжный шум. С разных сторон звенели птичьи голоса. В небе проходили редкие облака. Вдали куковала кукушка.
Заросли вереска шуршали под ногами. С холма открылись далёкие дали. Снова и снова шёл, затихая, осторожный, вкрадчивый шёпот. Эти вздохи, волнения кущ, высоких трав, перебегающий по ним ветерок, птичий пересвист, смутные звуки из неведомых отдалений бора, – чем были они для того, кто впервые оказался среди них, они, которыми означила себя живая душа природы? Никогда в том мире, откуда я пришёл, где жил и куда должен вернуться, не было так много счастья и столько покоя… таинственного многоголосья и многое значащей тишины. И этот зов – далёкий, тоскующий об иной судьбе… Их невозможно было понять, объяснить. Хотелось только, чтобы они были всегда…
Но счастье – только короткий миг. И если в жизни случались такие мгновения, то самые яркие из них и самые памятные, конечно, – те, тогда, в тот далёкий, незабываемый, никогда, ни в каком подобии не повторившийся день…
Минуты шли, проходили, и нужно было возвращаться.
Выход из леса, конечно, должен был остаться незамеченным. Достигнув опушки, за которой начинался лагерь, затаившись, я стал ожидать, когда горнист протрубит подъём.
Между тем я был уже не один. Ко мне присоединились девочка постарше и мальчик, которые, как и я, гуляли в лесу и тоже выжидали момент, чтобы незаметно вернуться в лагерь.
В лагере, однако, происходило что-то непонятное. Трубы горниста не было слышно, подъёма ещё не было, однако по территории уже пробегали то один, то другой, то несколько человек, а со стороны барака, где жили девчонки, стал доноситься всё громче какой-то странный шум. Подождав минуту-другую, увидев, что движение в лагере необъяснимо возрастает, мы перебежали к бараку, откуда слышался тот непонятый звук.
У порога большой комнаты нам открылось невероятное. Девчонки, которые здесь жили, все сразу не просто плакали, но прямо-таки голосили, заламывая руки, чуть ли не рвали на себе волосы. Мы остолбенели, никто ничего не мог объяснить, и сразу из многих уст одно и то же:
– Если бы вы знали!.. Если бы ваш отец!.. Если бы у вас был брат!..
Неожиданно по лагерю разнеслось: «Все – на митинг!»
И всё население лагеря со всех его концов бросилось к трибуне, на которой стояли: начальник, старший пионервожатый, кто-то ещё. После продолжительной паузы, за время которой собравшиеся поутихли, подбирая слова, с трудом, начальник объявил:
– Сегодня… на рассвете… на нашу родину, на Советский Союз, напала Германия… началась война…
Столь ужасное известие это поразило каждого, несколько секунд все оцепенело молчали. Начальник добавил, что лагерь немедленно закрывается и все должны отправиться по домам.
Поднялась суматоха, началось настоящее светопреставление. Все бросились сдавать какое-то имущество, постельные принадлежности, получать вещи из камеры хранения. Я побежал сдавать библиотечную книгу, забрать свой чемодан. Все быстро покидали лагерь. Прошел всего час-полтора – и он опустел. Во всём лагере из обслуживающих работников осталось, может быть, два-три человека, которых даже не было видно, а из детей – двое: я и ещё один мальчишка, мой земляк, с которым у меня почему-то не было никаких отношений, а была даже какая-то враждебность.
Роковые события не сблизили меня с моим антиподом. Он оставался где-то в другом месте, я его не видел. Было известно только, что за ним выезжает тётя, которая заберёт и меня. Моя мать в это время была в доме отдыха.
Странно, жутковато было это – так внезапно остаться в полном одиночестве в большом, только что шумном, многонаселённом городке.
Потянулись томительные часы неизвестности, ожидания. Своего приятеля по несчастью я не видел. Из работников лагеря кто-то появлялся на минуту и снова исчезал. Со своим чемоданом я сидел на крыльце одного из бараков.