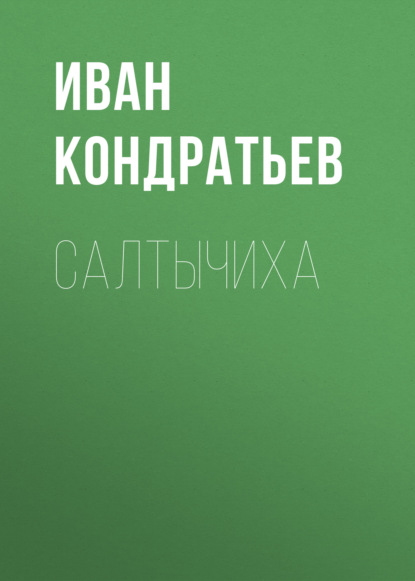 Полная версия
Полная версияСалтычиха
О, так будь же ты проклято, наше непрочное человеческое счастье!
Глава XIII
Своя воля
Кости покойного Преображенского полка сержанта Николая Митрофановича Иванова упокоились в ограде церкви Святого мученика Власия, что в Старой Конюшенной.
Немного народу провожало покойного сержанта, и немного слез было пролито над его гробом. Плакала одна Ироида Яковлевна и, возвратившись домой, тотчас же слегла сама, да уж и не вставала более: через месяц, не более, не стало и ее – умерла и она, не в силах будучи перенести потери горячо любившего ее мужа.
Перед смертью она все-таки благословила дочь, постаралась через знакомых подьячих передать все имущество дочери, хотя и несовершеннолетней, но уже взрослой и благоразумной, как значилось в передаточной бумаге. Дашутка (так в последнее время называла ее мать) не отходила от постели умирающей, сидела возле, подолгу вглядывалась в ее исхудалое, позеленелое лицо, и на глазах ее иногда навертывались слезы.
– Умру… умру… – еле слышно говорила больная женщина. – Останешься одна… одна… сиротинкой… Ох, Дашутка, трудно жить на свете сиротинкой… всякий-то обидит… всякий-то слово скажет бранное…
– Может, кое-как и проживу, матушка, – отвечала угрюмо дочь.
– Ох, не проживешь одна-то… ох, не проживешь… Не судил Господь мне, матери, устроить тебя… Тогда бы уж и умереть легко… и умерла бы, устроивши-то тебя, дочурка…
– Не печалься, в обиду себя не дам…
И точно, Дашутка себя по смерти матери в обиду не давала. Диву дались соседи, как это так девчонка стала всем домом заправлять. Сперва находились было молодцы-парни, которые хотели втереться в дом, чтобы забрать вместе с молодой хозяйкой все в руки, да получили от нее такой отпор, что не только сами отказались обмануть девчонку, но и другим заказали покушаться на это. Одного такого молодца она вымазала дегтем, обваляла в перьях и выгнала за ворота. Другого чуть не заморозила в снегу. С третьим поступила еще проще: долго он помнил веники малинового домика и две злорадные фигуры каких-то злорадных здоровых баб. Это были две новые, необыкновенно сильные жилицы малинового домика, которых откуда-то добыла для услуг в доме бывшая сожительница Ионы Маркианыча. В их руках все кипело, как у самых заправских мужиков. Одна из них, высокая, краснощекая, дебелая, лет тридцати, по имени Фива, исправляла даже обязанности кучера. Фива ловко правила красивенькой савраской барышни и катала ее, барышню, в случае надобности по Москве, одевшись в кучерской кафтан. Другая занималась больше по хозяйству. Обеих их Дашутка очень любила, все им доверяла и не боялась с ними ничего. В особенности же она любила Фиву. Без этой краснощекой обитательницы малинового домика Дашутка не могла пробыть и часа. Она с ней беседовала, гуляла и даже спала вместе.
В одно декабрьское утро взгрустнулось что-то Дашутке. Позвала она Фиву и завела с ней речь.
– Не по себе мне чтой-то, Фива, – сказала Дашутка.
– Ой ли? – удивилась Фива.
– Право же.
– Ах-ах! – заахала Фива и закачала головой.
– Придумать бы что… развеселиться, погулять… – надумалась Дашутка.
– Погулять хорошо, красавица моя, золотая моя, – согласилась Фива. – Повелишь – пойду запрягу савраску-то, прокатимся по Москве-то, по матушке.
– Надоело мне катание, Фива. Хочу чего другого.
– Чего ж такого, золотая моя?
– А уж и сама не додумаюсь.
Фива, склонив голову, задумалась, потом краснощекое лицо ее озарилось загадочной улыбкой, и она тихо проговорила:
– Дело ведомое: одни да одни… хорошо бы и в другой компании побывать…
– В какой такой?
– Вестимо в какой… в мужской компании…
– Уж не к себе ли вам, Фива, позвать мужиков-то? – возразила Дашутка. – Чай, сама знаешь, как мы отсюдова выпроводили молодцов-то, удальцов-то разудалых. Больше нe придут.
Фива искоса поглядела на Дашутку и, заметив, что та не прочь продолжать речь в начатом роде, с несколько иронической усмешкой на лице уклончиво проговорила:
– Уж где прийти, золотая моя! Не придут. Тут им пришлось несолоно хлебать, особливо последнему, тому-то рыжему, с бородавкой на щеке.
Как будто припомнив что-то забавное, Фива захихикала в кулак, потом вдруг смолкла и остановила взгляд на своей повелительнице.
Та молчала, как будто что-то обдумывая, и глядела рассеянно в окно, выходившее в сад. Ей почему-то припомнился Иона Маркианыч, этот жалкий урод, погибший на ее глазах. Она припомнила, как это поразило ее, как она заболела и как во время болезни ей все грезился окровавленный труп ее учителя. Но куда же подевался труп? Вопрос этот на несколько минут занял ее. А между тем Фива все стояла перед ней и все чего-то ждала, тихо и терпеливо, не трогаясь с места.
– Чудно! – вдруг произнесла Дашутка совсем тихо, как бы прислушиваясь к своему голосу и не отрывая глаз от окна, из которого виднелись обрамленные снегом деревья.
Фива навострила уши:
– Что чудно, красавица моя?
– А то, – продолжала Дашутка. – Со мной нынче в ночь, когда мы не спали вместе, случилось такое, чего я досель забыть не могу.
– Ну? – подошла к ней Фива.
– Середь ночи вдруг проснулась я, Фива, не разбуженная никаким шумом, беспричинно, и чую, что есть кто-то в комнате…
– Ах ты, страсть какая! – тихо и искренне воскликнула Фива.
– Что за страсть! Я ни чуточки не испужалась. Спросила только: кто тут?
– Ну? – тревожилась Фива.
– Ну… кто-то и ответил: я… И голос такой молодой, такой чистый…
– Ужели так и ответил?
– Так и ответил…
Фива закрестилась:
– Ах, боже, боже! Какие дела-то бывают на свете! Ведь вот и я припоминаю одно такое дело-то! – начала она несколько таинственно. – Аль рассказать, красавица моя, дорогая моя?
– Расскажи, Фива, я послушаю, может, и веселее станет. Ты врать мастерица.
– Зачем мне врать, красавица! Врать мне перед тобой не след – не врунья я, не болтунья, не какая-нибудь трещотка деревянная. Говорю всегда правду-расправду. Вот умереть!
– Ну, говори свою правду-расправду.
– Уж скажу, скажу, коли начала. Дело-то было давно, и было оно у нас под Курском, на селе на Монастырском, – из монастырских ведь я, государыня моя. Вот и была, чу, у нас под Курью, на селе на Монастырском, девка ражая, девка пригожая, Павлюшка прозванием. Уж такая-то была мастерица на все, на все затейница – любо-дорого! Мы, девки, от нее ни на шаг. Без нее ни песен не поем, ни хороводов не заводим, так и таскаемся за ней, словно дуры. Да и смелая была девка: ни одному парню, бывало, спуску не даст, обиды не снесет. Зубастая была девка. Вот и захотелось раз о Святках Павлюшке-девке погадать о своем суженом-ряженом. Забралась она в баню-то, взяла с собой зеркальце, восковую свечечку пасхальную – да и засела там. Мы, девки, ищем Павлюшки – нет Павлюшки, точно в воду канула наша веселая Павлюшка. Поискали, побегали мы, девки, да и полегли спать. А Павлюшку-то только утром нашли, в бане-то и нашли, чу, еле живую…
– Что же было с ней, с вашей Павлюшкой-то? – спросила как-то безучастно Дашутка.
– А то было с ней, – продолжала рассказчица. – Пришел к ней, чу, паренек, стал сзади да и говорит: «Я твой суженый-ряженый, да только не быть тебе за мной, девка, без того чтоб ты меня с бою, с драчки не сыскала. Я, говорит, молодец, кулачный боец!» – да тут же и стукнул ее кулачищем в бок.
– Эк ты врать мастерица, Фива! – не утерпела Дашутка.
– Ей-ей! Так кулачищем в бок и саданул!
– Вестимо, парень живой затесался, да такую шутку над вашей Павлюшкой и сшутил.
– Совсем не живой! Павлюшка с ним опосля только встренулась, и был он, чу, совсем из другого села, из далекого. А как встренулась – тут-то, красавица моя, и загадочка мудреная.
– А ну поведай свою загадочку мудреную! – заинтересовалась несколько Дашутка.
– А встренулась она так. Хотя Павлюшка и не знала парня, и впервой его видела, да и кулак парень имел здоровой, все же он пришелся ей по душе, по сердцу, и затосковала по нем девка с той же ночи. А затосковавши, искать его начала. Ищет там, ищет сям, всюду своим девичьим глазком приглядывается, своим девичьим ушком прислушивается, своим девичьим язычком выпытывает – нет нигде такого парня, да и только. Смеемся мы, девки, над Павлюшкой, шутим. «Парень, мол, заморской, не простой, – говорим. – Поди, за тридевять земель живет-поживает, тебя, Павлюшка, поджидает. Поезжай туда, девка, за тридевять земель-то!» А Павлюшка сама смеется. «Нет, – говорит, – парень таковской есть, и я его сыщу». И что же, сыскала ведь.
– А как? – уже совсем заинтересовалась Дашутка.
– А так. Надела раз девка кафтан молодецкой, подпоясалась кушаком, шапку набекрень надвинула, рукавицы взяла да и пошла на Тускару-реку, на бой на кулачной.
– Вона девка какая! – воскликнула Дашутка, все более и более заинтересовываясь рассказом Фивы.
– Девка бедовая! – подтвердила Фива и продолжила: – Там уж было, на Тускаре-то, на реке, народу много-премного. Все больше парни молодые, здоровые. Побежали и мы, девки, хохочучи, за Павлюшкой-то. Что, мол, думаем, будет делать Павлюшка? А Павлюшка… что бы ты думала, красавица моя?.. Павлюшка тоже на кулачки биться пошла. Так и пошла.
– Ну а дале? – встала из-под окна Дашутка и подошла к Фиве.
– А дале… дале-то сперва хорошо, потом плохо. Павлюшка-то ведь парня свово нашла. Глядь – а он бежит прямо на нее и точь-в-точь такой, каков приходил к ней в баню. Видели мы, что Павлюшка вскрикнула да так и встала на месте. А парень на нее. «Бережись, – кричит, – а то зашибу!» А девка ни с места. Глядит, глаза выпуча, да рдеет вся лицом, что ягодка. Тут парень и угодил ей под хряшки в бока. Покачалась девка маленечко, прошептала тихохонько: «Милый, милый…» – да и свалилась на снег. Мы кричать, плакать, парня укорять. А он: «Не знал, не ведал, девицы-красавицы, простите!» А сам наклонился над ней, да и взвыл: «Да ведь я-то тебя, дорогая, во сне видел, тобой, удалой молодец, бредил! Очнись! Очнись!» Очнулась Павлюшка, точно что очнулась, да только для того, чтоб вздохнуть напоследях да Богу душу отдать. Померла наша Павлюшка. Слышно, потом и парень с собой покончил – топором в грудину хлестанул. И уж выли мы, девки, тогда! Ах как много выли мы тогда! – заключила свой рассказ Фива и удивилась, глядя на Дашутку, стоявшую перед ней с пылающим лицом и со сверкающими удальством глазами.
– Фивка! Сейчас мне кафтан, кушак, шапку, рукавицы! – приказала взволнованная девушка. – Хочу и я на кулачный бой, на Москву-реку! Хочу! У меня теперь своя воля!
И Дашутка притопнула ногой.
Не более как через час из ворот малинового домика, скрипя полозьями, выехал возок. Бодрый савраска фыркал и порывался вперед. Им правила не узнаваемая теперь Фива, в темном кафтане, с бараньей шапкой на голове. В возке сидела Дашутка. Она была в собольей шубке, крытой зеленым бархатом, и в собольей же шапке с зеленым же верхом.
– Ну, трогай! – крикнула она. – Сперва по Троицкой, потом на Москву-реку!
Конек вдруг взмахнул головой, раза два сильно рванулся вперед, перебил ногами и подхватил, несясь опрометью вдоль по длинной и гладкой белой улице. Морозный воздух свистел мимо, и у Дашутки дух захватывало. Все кругом неслось, кружилось и металось, как будто пересыпалось и падало.
– Песню, Фивка! – приказала удалая девушка, когда возок, проскакав Ямскую, мещанскую слободку, очутился на Троицкой дороге.
И Фива, попридержав несколько савраску, заорала весьма модную в то время в Москве песню, сочиненную царевной Елизаветой Петровной:
На селе, селе Покровском,Среди улицы большой,Разыгралась, расплясалась,Красна девица, душа!Прохожие только сторонились, заслышав эти звуки, вылетавшие из здоровенной груди.
А звуки песни все неслись, все неслись и таяли в морозном воздухе, и казалось, им не будет конца. Здорова была орать краснощекая, дебелая Фива-кучер.
Глава XIV
Кулачный бой
Ярко-огненное, но холодное зимнее солнце низко стояло над обрамленными снегом садами Замоскворечья, когда бойкая савраска Дашутки, вся в инее, подкатила к церкви Николая Чудотворца на Берсеневке.
Напротив этой церкви на Москве-реке, на льду, почти во все прошлое столетие обыкновенно происходили кулачные бои. Сo всех сторон Москвы в полдень, после обеда, по воскресеньям и праздникам, а нередко и в будни собирались удалые молодцы, чтобы потешить себя кулачным боем, поразмять свои косточки да и чужих не пожалеть.
Собирались к бою удалые молодцы, старые и молодые, да и подростки как будто нечаянно, как будто мимоходом, на скорую руку. «Иду, мол, Москвой-рекой, вижу – народ сволочился, греться собирается. Отчего, мол, и мне не побаловать маленько, не погреться-то?» И для подобного грения собиралось иногда народу тысячи по три, по пяти, причем немало было и просто глазеющих людей, и людей из высшего круга, да немало и женщин, любовавшихся боем большею частью из своих закрытых ковровых возков с медвежьими полстями. Не упускали случая побывать «на боях» и молодые девушки. Вообще кулачный бой был для всех самой обыкновенной и притом самой любимой забавой.
Несколько ранее, до Петра и при Петре, кулачные бои имели даже довольно мрачный характер. В то время любители боев обыкновенно собирались в партии, летом на широких перекрестках, а то и просто на обширных дворах домов, зимой – непременно на льду, и таким образом составлялись две враждебные стороны. По данному знаку свистком обе стороны бросались одна на другую с криками «бережись!» – и начиналась общая свалка, причем для возбуждения храбрости в охотниках особенные музыканты громко били в бубны и лихо играли на гудках и свирелях. Бойцы поражали друг друга в грудь, в лицо, в живот, поражали неистово и жестоко, и очень часто многие уходили с боя калеками, а других выносили мертвыми.
Нередко вместо кулаков начинали драться палками, и эти бои имели подобие каких-то своеобразных турниров, сопровождавшихся еще чаще кулачных боев убийствами. Не быть хоть раз в жизни хорошенько битым считалось даже для «добра молодца» своего рода позором.
И в самом деле, могли ли быть срамом побои в те времена, когда все дралось сверху донизу и хвалилось дракой как доблестью, и хвалилось крепостью своих боков с синими пятнами, как природным панцирем! Всякому мужчине со здоровым телом и здоровым кулаком хотелось быть богатырем своей земли, и он не боялся ничего, ни перед чем не падал духом, не клонил своей удалой головы, и народные сказания о мощности богатырских ударов и богатырской устойчивости в перенесении тех ударов являлись с двумя венками: один надевался на нападающего, который сразу ломал ребра и разбивал челюсти супротивника, а другой – на того, кто молча, без стона выносил подобные увечья. Русское молодечество уже с детского возраста было помешано на таких картинах, на картинах беззаветного отчаяния и славы. Бесшабашные удальцы если и не верили в свои сверхъестественные удары – разбей, мол, череп, – зато крепко верили в молчаливое перенесение тяжких побоев, да и смерть им геройской казалась. Они знали, что ежели кому из них суждено лечь насмерть в честном бою, где он пробовал свою железную силу и свое железное терпение, то на похороны его будут смотреть из своих слюдяных окон боярыни с любовью, красны девицы с грустью, горожанки из калиток с печалью, и все на разные голоса промолвят: «Ай да ясный сокол! И стоял – не пятился, и упал – не кручинился, и идет на смертный одр – не охает!»
Так бывало после кулачных боев в сумерки. А вечерком у каждой, может быть, зажженной лучины или у свечки воску ярого молва вела речь о таких чудесах на бою, каких чудес в бою и не бывало, но молве верили на слово и не смели ей не верить. Не боялся такой молодец, коли провинится. И кнута жгучего не боялся, коли не был виновен, и стать перед грозные очи царевы не боялся, и дерзко упорствовал, коли не хотел выдать своих воров-товарищей.
Вот он идет, подобный упорный вор-молодец, из Кремля, из Кремля – крепка города. И народная песня того времени повествует нам о таком удальце-молодце, о таком царском изменнике в таких выражениях:
Как ведут казнить добра молодца,Добра молодца, большего боярина,Что и свет атамана стрелецкого,За измену супротив царя-батюшки.Перемог боярин кнутья застеночны.Измочалил спинушкой ремни моржовые,Не потешил он стоном допросчиков,И идет теперь, молодец, не оступается.Он и быстро на весь народ озирается,Царю-батюшке не покоряется.Перед ним идет грозен палач,В руках он несет остер топор.А идут за ним отец и мать,Отец и мать, и молода жена.Они плачут, как река бежит,Возрыдают, как ручьи шумят:«Ты, дитя наше милое, кровное!Покорись ты царю-батюшке,Выдай своих воров-товарищей!Авось тебя Бог помилует,Государь-царь пожалует!»Молча идет удалой стрелец,Не простой стрелец, атаманушка.Закаменело его сердце молодецкое:Он противится царю, упрямствует,Отца, матери не слушает,Над молодой женой не сжалится,Малых детушек не болезнует.Привели его на площадь Красную,Отрубили буйну головушку,Что по самые плечи по могучие!Понятно, что такой молодец-удалец и жить хотел, умереть был не прочь да и семью свою любил особой богатырской любовью. Но в день казни что же ему напоминала его кровная, дорогая семья? Какие картины пробегали в его голове по дороге на плаху? Несомненно, грезилось ему его младенчество, когда он сидел на коленях у матери и смотрел в окно слюдяное. А мимо несли под руки насмерть убитого молодца с боя кулачного. А родимая его матушка словно теперь кричит ему на ухо, как тогда кричала, в окошечко: «Ай да ясный сокол, боец-сорванец! И стоял он – не пятился, и упал – не кручинился, и идет на смертный одр – да не охает!» В отрочестве то же участливое восклицание он слышал у калитки. Возмужав, он сам ломал ребра товарищам. В зрелом возрасте за чаркой меда или браги он слушал подобные же речи: «Не бойся, мол, пытки – бойся измены товарищам! Не жалей тела – жалей слова! Да и знай, что у молодца жизнь – копейка, а голова – дело найденное!»
Под влиянием такого молодечества среди мужчин молодечествовали и женщины, невзирая на свое затворничество. В Древней Руси многие женщины и девицы всю жизнь носили мужские кафтаны да и стояли наряду с мужчинами. Когда было нужно, и женщина умела постоять за себя. Мы тому видим немало примеров в пословицах и былинах. Говорилось: «Женина родня идет в ворота, а мужняя – в прикалиток». Или: «Женина родня – отворяй ворота, мужнина – запирай ворота». Поговорки подтверждают то же. Забубенный парень-жених говорит своей удалой невесте: «Не тужи, красавица, что за нас пошла: за нами живучи, не улыбнешься!» И бой-девка отвечает: «Да и нас возьмешь – не песни запоешь». Потом такой же сорванец говорит такой же буйной головушке: «Красна девица, за нами живучи, за пустой стол не сядешь, а всегда со слезами!» И девка отрезывает ответом: «За такую услугу и от нашей стряпни каждый медовый кус и у вашего брата поперек горла станет!» Мужья били своих жен, били за всякую малую вину, но и жены умели мстить по-своему. Недаром распевалась песенка:
Ты жена, змея, скоропея лютая:Из норы ползешь – озираешься,По песку ползешь – извиваешься,По траве ползешь – всю траву сушишь.Иссушила ты в поле травоньку.Все цветочки лазоревы!Ты жена, змея подколодная!Иссушила ты меня, молодца,Как былинку на камешке!Пела и жена после мужниной расправы:
У меня, младой, строченые бока!А и всем я не потешу дурака —Я свово ли простофилю-муженька!Поведу я дом по своему уму.И точно, она вела дом по своему уму и дурачила как хотела мужа, и эта нравственная пытка была для мужа больнее побоев.
Есть указания, что девицы в борьбе частенько побеждали добрых молодцов. В одной песне парень подошел к девичьему хороводу и хвастливо вызвал девицу, которая бы могла с ним погулять. Девица такая отыскалась. Вышла и говорит парню:
Стой-ка, молодец, обостойся,Со мной, девицей, пораздорься,Пораздоривши, поборемся!Девка молодца поборола,На нем синь кафтан замарала,Шелковый кушак изорвала,В руках тросточку изломала,Пухову шляпу долой сбила,Все кудерочки столочила!Таковы-то были и женщина и девушка в те далекие могучие времена, когда у всех ради удовольствия трещали бока и сворачивались набок «салазки».
Добродушное было время!
Глава XV
Боец
Зеленая шубка Дашутки, вроде кафтана-однорядки, и ее набекрень надетая бобровая шапка сразу обратили на себя внимание одного силача, как только она выскочила из возка.
– Гей! Зелен кафтан без изъян! – крикнул он, оскалив зубы. – Не бока ль погреть, с нами попреть сюда прикатил? Коли к нам, так, стало, из носу клюквенный квасок пустить захотел! Ха-ха-ха!
Силач разразился грубым смехом и стал поворачивать во все стороны довольно пьяное и потому красное лицо свое, надеясь найти в окружающих сочувствие своему остроумию. Толпа вокруг была велика. Но все как-то не обратили внимания на шутку силача, а наблюдали за двумя стенками мальчуганов, которые делали почин: с гамом быстро кидались друг на дружку и так же быстро отступали. С берега они казались налетающим друг на дружку черным роем, мухами.
Кто-то в толпе, с берега, громко, но хрипло одобрял и подзадоривал мальчуганов.
– Не робь, не робь, ребята! – кричал он. – Вали валом – будет лом!
В толпе послышались смех, шутки и замечания:
– Дробны севодня чтой-то ребятки!
– Ребятки – мякина!
– Дрянь ребята!
– Намедни не в пример ходовитее были!
– Те были ходовитее!
Со стороны стенок послышался шум и визг. Ребятишки, воодушевленные и холодом и насмешками, с ожесточением бросились друг на дружку. В одно мгновение все смешалось и перепуталось. Обе враждующие стороны представляли теперь одну громадную кучу, из которой как-то странно мелькали головы и руки борющихся. Общего шума и визга уже не было. Слышались одни только одиночные, точно молящие о пощаде, выкрики. Затем все враждующие как по команде стали рассыпаться и бежать друг от друга. На льду, однако, осталось несколько борющихся, которые медленно приподнимались и очищали с кафтанишек снег.
Среди них вдруг очутился низенький, толстенький мужичок, махая руками в рукавицах и крича во все горло:
– Ребятки, разбегайсь! Долой, ребятки!
Ребятки торопливо улепетывали по сторонам, некоторые хныча, некоторые прихрамывая, и вскоре место, где они боролись, совсем очистилось. Остался на нем один мужичок, к которому мгновенно, точно выскочив из-подо льда, подбежал другой мужик, росту несколько повыше, но все же невзрачного вида, и хлопнул его по плечу.
– Дядя Ефрем! Пора и нам! – сказал он.
– Пора! – было ему ответом.
Дядя Ефрем отскочил в сторону и пронзительно засвистал. На его свист ответило со всех сторон еще несколько свистков, и на лед с берега быстро хлынула большая толпа бойцов, которые, точно хорошо обученные солдаты, торопливо разделились на две партии и стали плотной стеной друг против друга. Несколько мгновений прошло в каком-то молчании. Потом с обеих сторон одновременно послышались выкрики, похожие на лошадиное ржаниe. Обе толпы ринулись друг к дружке, и все мгновенно смешалось в этом хаосе криков, возгласов, стонов, брани и какого-то необыкновенного пыхтения и храпа…
Кулачный бой начался по всем правилам, какие были созданы тогда для этого рода потехи…
Несколько минут Дашутка не трогалась с места, стоя на берегу, в сторонке. Но ее подмывало бежать туда, где происходила борьба, и она не выдержала наконец: крикнула Фиве беречь савраску и бросилась на лед. На льду она, не помня себя от какого-то дикого упоения при виде этих падающих и кричащих людей, с жаром бросилась на первого попавшегося бойца и ударила его кулаком прямо в грудь. Тот приостановился, измерил соперника ровным холодным взглядом и так же ровно и холодно шагнул к нему. Дашутка почувствовала боль в боку и зашаталась.
– Голова дурова! – кто-то проговорил над ней. – И усишки еще не показались, а туда же – в драку лезет!
Когда Дашутка очнулась от жгучего холода на голове, то ее поддерживал тот самый боец, которого она ударила в грудь. Он теперь ласково смотрел ей в глаза и тихо спрашивал:
– Говори, где ты живешь? Я отвезу тебя домой…
– Там… там…
Дашутка указала, где стояла ее савраска.
– Ах, дурочка, дурочка! – шептал ласково боец, не переставая заглядывать ей в глаза.
И Дашутке почему-то хорошо было от этого взгляда, и она невольно прижималась к тому, кто ее нес, как ребенка, к возку.
В возке она опять позабылась и только как будто сквозь сон помнила, что кто-то говорил возле нее. Из всего этого разговора она почему-то запомнила одно слово, и оно одно наполнило весь ее больной мозг, и слово это было – Салтыков…
Глава XVI
Под волчий вой
Дашутка очнулась у себя только на постели, совсем раздетая. Возле нее сидела верная Фива, ахала что-то, шептала и прикладывала ей к левому боку какие-то тряпки. Бок у ней тупо ныл, но она почему-то чувствовала себя хорошо. Ее кидало в тот жар, который так обыкновенен после обмороков.



