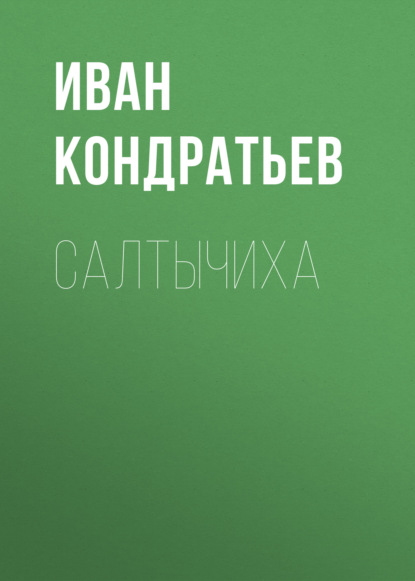 Полная версия
Полная версияСалтычиха
– Встань-ка, девонька, встань!
Галина встала, бледная, с опухшими от слез глазами, и остановила свой вопросительный взгляд на старике
– Сродственник? – спросил тот.
– Нет… так… знакомый…
Старик помолчал, скучно и тускло посмотрел на девушку и сообщил ей:
– Убит был тута, недалеко, у Самотеки…. Слышно, Салтычиха пристрелила…
В глазах у Галины помутилось, сердце сильно застучало, голова закружилась. Она тут же сразу грохнулась на землю, а когда очнулась, то возле нее никого не было: не было не только живых людей, но даже не было ни ее дорогого Сидорки, не было груды тех посинелых и почернелых трупов, которые были вытащены из амбаров. Все уже было убрано и похоронено где следует.
Она приподнялась, взяла себя за голову, потом медленно привстала. Прямо перед ней вырисовалась, вся красная, церковь Иоанна Воина. Рука девушки невольно сотворила крестное знамение, а губы тихо прошептали:
– Сидорка… милый… вечная тебе память…
Со стороны пруда несся невообразимый шум, гам, песни, музыка. Тут же было тихо и пустынно. С полдюжины исхудалых и ободранных собак бродили невдалеке и зло посматривали на девушку. Мрачно высилось здание кирпичного амбара, длинного, без окон, и несколько ворон уселись на его дощатой крыше. Они уныло, как будто перекликаясь, кричали и тоже как будто творили свои поминки по тем, кто так долго лежал под этой крышей, ожидая погребения…
Галина перекрестилась еще раз и, не соображая ничего, побрела на шум и гам разгульного Семика на Тюльпе.
Вороны и ее проводили своим унылым, хриплым криком…
Глава IV
Надо судить!
Молодой человек из военных, в голубой шинели на красной подкладке, в запыленной треуголке, то и дело торопил ямщика ехать как можно скорее. В пути он был второй уже день и был как раз на полдороге между Москвой и Петербургом.
Скакал молодой офицер в Петербург, по-видимому, с очень важным поручением, потому что подорожная его была подписана самим графом Григорием Орловым. Имя Орловых успело уже сделаться именем очень громким и страшным и потому повсюду на дороге производило надлежащее действие. Смотрители торопились и бегали, лошади давались прекрасные, ямщики на передок повозки вскакивали удалые и, как говорится, бесшабашные. И все это делалось для молодого офицера при самых неблагоприятных условиях. Ввиду скорого проезда императрицы в Москву на коронацию дорога чинилась тысячами рук, и сотни курьеров наводняли ее, поднимая пыль и крик и так же торопя ямщиков ехать как можно скорее, так как они едут по очень важному делу.
Важных дел в то время было действительно множество, и действительно все скакали, кричали и поднимали пыль на дороге не ради удовольствия, а именно ради дела.
Скакал ради важного дела и наш молодой офицер.
По крайней мере, посылая его в Петербург к императрице с какими-то бумагами, граф Орлов приказал поторопиться, заметив:
– Тебе только, Гаврюк, и мог доверить я cиe дело, никому больше. Думаю, ты не обманешь моего доверия, тем паче что в Питере, может, и сама императрица не оставит тебя без внимания. Попомни это!
Молодой офицер, коего звали Гавриил Запасок, имевший счастье быть каким-то отдаленнейшим родственником Орловых, отдал по-военному честь графу – «оправдаю, мол, доверие!» – и слушал далее, заранее уже радуясь в душе графской командировке.
Когда офицер Запасок прибыл в Петербург и пакет Орлова был передан императрице, то, хотя лично императрица по множеству дел и не осчастливила офицера аудиенцией, но не забыла его и приказала повысить чином.
Молодой офицер, как родственник Орловых рассчитывавший на большее, наградой остался недоволен.
Но еще более осталась недовольна сама императрица тем, о чем доносилось ей Орловым.
Весь тот день императрица была не в духе.
Никита Иванович Панин, известный воспитатель Павла Петровича и один из главных пособников Екатерины, более всех в это время находившийся вблизи императрицы и всюду ее сопровождавший, никак не мог постигнуть причины недовольства императрицы, бывшей так недавно в очень хорошем «авантаже».
В подражание императрице Панин тоже хмурился и все почему-то весь день поглаживал правой рукой борт своего голубого с блестками кафтана. Императрица заметила это.
– Ты бы, Никита Иваныч, отдохнул, – сказала она Панину, когда тот под вечер, явившись во дворец с маленьким и худеньким Павлом Петровичем, просил позволения сказать ей что-то надобное.
– Отдохнуть успею, государыня, – произнес Панин тихо и слегка склоняясь грузным своим корпусом к выгибному письменному столу императрицы, стоявшему у окна.
– Как знаешь! – произнесла императрица, медленно и со вкусом понюхала табаку и как-то своеобразно насмешливо посмотрела на Панина.
Панин понурился.
– Совсем, совсем заскучал Никита Иваныч, – сказала с шутливым участием императрица.
Панин точно встрепенулся, поправил свои белокурые букли, расставил руки и с торжественным по-придворному поклоном произнес:
– Ума не приложу… что с тобой, мать-государыня, сталось сегодня.
Императрица тихо рассмеялась:
– А еще, Никита Иваныч, мои тайные дела ведаешь!
– Тайные дела монархов лишь Богу одному ведомы, не людям! – ответил Панин торжественно.
– Ты прав, да права и я, – проговорила императрица вдумчиво и понюхала еще раз табаку. – День нынешний мне незадачлив что-то, – продолжала она далее, стряхивая с пальцев остатки табака. – Суди сам, Никита Иваныч, сегодня я получила от Григория из Москвы такое известие, что любого лежебоку расшевелит.
Императрица приостановилась. Панин превратился весь во внимание, насторожил свое придворное, дипломатическое ухо. «Дело не шутка, – подумал он, – ежели сама она говорит о нем так».
– Теряешься в догадках, Никита Иваныч? – начала государыня. – Думаешь: что, мол, такое? Откудова? Отчего, мол, мне не ведомо? Правду я говорю?
– Правду, государыня, подлинную правду! – искренне воскликну л Панин.
– То-то вот мы! В Питере живем, ничего не знаем, а подле Москвы и в Москве такие дела творятся, что кабы о них попало хоть кой-что в заграничные ведомости, то покойной императрице, Елисавет Петровне, ой как не поздоровилось бы!
На лице Панина, несколько вдруг побледневшем, изобразилось такое внимательное выражение, что императрица обратила на это внимание:
– Да ты сядь, Никита Иваныч, а потом слушай.
Панин сел и во все глаза стал смотреть на императрицу, ожидая, что она скажет далее. Но тут одна из пары собачек императрицы, лежавших у ее ног на атласных стеганых тюфячках, завозилась и тихо начала взлаивать. За нею, встревоженная, последовала и другая. Панин поморщился: видимо, неуместный лай собачек был ему не по душе. Императрице трудно было не заметить этого.
– Ах, Никита Иваныч, прости! – произнесла государыня, подавая обеим собачкам по бисквиту, которые лежали тут же на столе. – Не вини их – животинки они неразумные. Вини лучше тех, кои хоть и родились людьми и облик человеческий имеют, а поступки совершают хуже зверей диких. Тех ты вини, Иваныч, они стоят того.
Панин не понимал, на что, собственно, намекает государыня, хотя и ясно видел, что императрица сказала все это неспроста. Он по-прежнему смотрел на государыню и ждал. К его удовольствию, собачки, ухватив бисквитики, улеглись спокойно на свои тюфячки.
– Вот они и успокоились, – продолжила императрица, – им и немного-то надо: бисквитик – и довольно. А человеку все мало, всего ему давай больше да больше. Уж человек, если чего захочет, то ему хоть с неба сорви, а принеси. Он и от крови своего брата не откажется. Вот у меня, Никита Иваныч, есть одна такая особа на примете – кровь человеческую любит. Суди сам: в Москве живет на виду у всех, среди людей, а не зверей, такая барыня, которая в десяток лет своими собственными руками замучила сто тридцать девять человек своих крестьян и дворовых. Что, не зверь это, Никита Иваныч? – спросила затем императрица, все время тоже не спускавшая глаз с Панина и точно ожидавшая, какое действие произведет на него это сообщение.
Панин даже привскочил.
– Государыня, – воскликнул он, – ужель то правда?
Восклицание Никиты Ивановича звучало неподдельным удивлением, но это было только хорошее артистическое действо. Опытный дипломат тотчас же понял, о ком шла речь. Деяния московской Салтычихи были ему известны давно, и он давно уже знал немало подробностей о них. Но он молчал, как молчали и многие по поводу этого дела. Не хотели беспокоить как саму императрицу Елизавету Петровну, так и сильных при дворе Салтыковых, бывших все-таки родственниками несуразной, как говорилось тогда, персоны.
– Удивило тебя это, Никита Иваныч? – спросила государыня, нюхая снова табак и успокаивая встревожившихся по случаю порывистого движения Панина собачек.
– Истинно неслыханное дело, государыня! – развел руками Панин. – Сто тридцать девять человек!.. Совсем, совсем неслыханное дело!
– А дело налицо – есть все доказательства, – сообщила государыня.
– Все? – почти машинально спросил Панин.
– Все, Никита Иваныч, все! И удивительно мне, – как-то своеобразно переменила тон государыня, – как это вы тут, умники да разумники, про такие дела ничего-таки не слыхивали! Али вас не занимало это? По стопам Эрнеста Карлыча шли, по стопам Бирона? Что, мол, нам Россия? Провались она хоть совсем, было бы нам хорошо!
Голос императрицы крепчал, и в нем послышалась затаенная горечь.
– Не про тебя говорю, Никита Иваныч, – продолжала она, – говорю про других. Ты был в Дании, в Швеции, ты блюл мне Павлушу. Нет, другие-то что, другие?! Али, может, и сами теми же делами занимались, тоже что на собак на крепостных на своих глядели да глядят еще и теперь?! Так пусть они это позабудут. Жестокости, криводушие и лихоимство мне совсем, сударь, не по душе! Где нет пахотника, там не будет и бархатника! Пусть попомнят это!
Императрица замолчала, но на красивом лице ее изображалось явное волнение. Панину показалось даже, что на глазах императрицы сверкнули две-три слезинки. Добродушный от природы, человек хороший, Панин и сам расстроился и даже чуть не прослезился. Императрица заметила это. «Добрый! – подумала она. – Этот своих крепостных тиранить не станет. Надо сказать ему все».
Но подданный предупредил свою повелительницу.
Панин, этот добрый, мягкий, флегматичный генерал-поручик и александровский кавалер, которому Екатерина была обязана престолом не менее Орловых и которого она несколько стеснялась, привстав, медленно опустился перед императрицей на одно колено.
– Никита Иваныч, что ты! – удивленно произнесла Екатерина, взяв Панина за левую руку, которую он приложил к своему сердцу. – Встань!
– Не встану, государыня, доколе не выслушаешь меня! – сказал Панин голосом, в котором слышались почтительная решимость и то смелое достоинство, которое вырабатывается только у сильного вельможи при дворе сильного властелина.
Екатерина улыбнулась во все свое лицо и несколько вспыхнула. Униженность Панина показалась ей отчасти странной; она не ожидала от него этого.
– Бог мой! – воскликнула она. – Да стой, Никита Иваныч, на коленях хоть до завтра, до прихода Перфильича…[3] ведь ко мне он приходит первым. То-то удивится такому пассажу!
Панин, как бы не расслышав шутливых слов императрицы, начал сдержанным, но твердым голосом:
– Сему, государыня, точно надо положить конец!
– Чему же это? – словно не поняв его, спросила императрица.
– Произволу помещиков, государыня! – еще тверже сказал Панин.
Императрица молчала с минуту, потом встала и молча подняла с колен Никиту Иваныча.
Панин тоже стоял молча и ждал от императрицы слова. Слово это наконец и было произнесено императрицей.
– Быть так, Никита Иваныч! – громко сказала императрица, сухо поведя вокруг глазами.
Панин умиленно поник головой. А императрица продолжала:
– Положу конец тиранству и научу тех, кого следует, знать и ведать, что и крепостные люди – тоже люди!.. Пусть знают, что кнут – не на потеху гнут! Бей за дело да умело, а коль из кнута забаву делают, то кнут-то об двух концах: ино хорош по мужику, а ино хорош и по барину… Как думаешь, Никита Иваныч, – переменила вдруг тон государыня, – что надобно сделать с этой-то… с барыней-то… с этой-то тиранкой своих людей крепостных… с этой-то с Салтычихой, что ли, какой-то? А?
– Надо судить, государыня! – ответил, точно выпалил, Никита Иваныч и даже вздохнул как-то сразу и коротко.
– Именно! Судить надо, судить всенародно! – продолжала медленно императрица. – Да будет всем знамо и ведомо, что царствование свое мы открываем правдой, и правда будет наша первая мать и первая наша всенародная защитница!
Опершись одной рукой на столик, императрица, говоря это, своеобразно приосанилась, выставив несколько вперед из-под платья ногу в синей туфле, и Панину показалось вдруг, что государыня перед ним точно выросла и стала много величественнее прежнего.
– Нет слов выразить о величии поведанного! – только и мог сказать Никита Иваныч, поникая своей белокурой головой в буклях и разводя руками.
Ночью лежа в постели Никита Иванович много раздумывал по поводу слов императрицы.
«Ужель, – думал он, – так-таки и решится государыня предать суду всенародно московскую помещицу? Не взбудоражится ли дворянство? Не взволнуется ли? Поначалу оно бы и не следовало – соблазн велик…»
На этих мыслях опытный дипломат и заснул.
Глава V
Графская цветочница
Графский пустырь близ Донского монастыря, куда забрела Галина за щавелем, принес бедной девушке положительное счастье.
Галина, теперь хорошо одетая, сытая и свободная, жила в графском доме на правах выдуманной графом цветочницы.
Девушка имела отдельную очень хорошенькую комнатку, чистую постель, зеркальце, несколько пар платья и много других мелочей, необходимых девушке ее лет.
Обязанность девушки состояла в том, что она каждый день, по утрам и по вечерам, должна была приносить в графские покои по нескольку букетов цветов, расставляя их в предназначенные для этого фарфоровые вазы. При этом одета она была в платье из смеси чего-то малороссийского с турецким, с венком на голове, при распущенных по плечам волосах. Смесь эта была так оригинальна и так шла к хорошенькой фигурке Галины, что даже сам граф, умелый ценитель женской красоты, любовался ею и в скором времени заказал ее портрет в таком виде знаменитому тогда художнику Г. Портрет этот долго потом находился во дворце графа, составляя одно из лучших его украшений, и наконец после смерти графа был подарен какому-то любителю в Лондоне, сделавшему с него гравюру, которая очень часто встречалась в середине нынешнего столетия да встречается еще кое-где и теперь в так называемых забытых усадьбах. Графская цветочница изображена на ней в своем оригинальном костюме, с букетом роскошных цветов в руках, с венком на голове. Она грациозно стоит у вазы и о чем-то будто призадумалась. Такие нежные сцены были в очень большом ходу в ту эпоху, и потому неудивительно, что картина производила поразительное впечатление на созерцателей.
Все это для недавно бесприютной девушки было ново, непостижимо, и все окружающее ей часто казалось сказкой. Под влиянием новой, неслыханной жизни все прежнее как-то само собой забывалось, уходило куда-то все далее и далее. Как во сне припоминалась жизнь – и в троицком лесу, с отцом, и смерть отца, и жизнь на Лубянке, в салтычихинском доме, и Сидорка со своей любовью и неожиданной смертью. Смутно даже припоминались ей все бедствия после побега из дома Салтычихи. Горько и тяжело тогда было Галине. Вместе с боязнью, что ее не нынче завтра поймают и отдадут в руки Салтычихи, присоединилось еще и чисто материальное горе: женщина, старуха из жидовок, у которой она случайно нашла приют, обобрала ее дочиста, кормила и одевала ее очень плохо, однако рассчитывала извлечь из нее какую-то пользу, по-своему берегла ее и умела по-своему скрывать ее и от глаз полиции, и от глаз салтычихинских приспешников.
Проживая у жидовки в одном из глухих переулков близ Калужской заставы, Галина и забрела на огороды орловского дворца и, как уже известно читателю, нежданно-негаданно встретилась с самим графом.
Тут уж память не изменяла девушке.
Она помнила все подробности встречи и все то, что она рассказывала графу про Салтычиху. Она хорошо помнит, как граф, выслушав ее, быстро поднялся с места, с красным лицом, со сверкающими глазами.
– Ты не врешь?! – почти вскричал он тогда.
Галина клялась и божилась, что она рассказала сущую правду и что другие дворовые Салтычихи знают про нее еще более и еще более могут рассказать.
В тот же день она была взята в графский дом, где ее отдали под надзор и никуда не выпускали. Она сильно перепугалась, думая, что ее возвратят к Салтычихе, горько плакала и горько сетовала на то, что забрела на графские огороды и по своей глупости рассказала самому графу очень многое про Салтычиху. «Убьет она меня теперь, убьет непременно!» – думала она и все просилась к графу. К графу ее наконец допустили. Узнав, в чем ее горе и чего она боится, граф потрепал ее по заслезившейся щечке, успокоил и приказал именоваться цветочницей.
Между тем для той, кого так боялась Галина, для Салтычихи, наступил уже окончательный и бесповоротный расчет за прошлые деяния.
Граф никаких дел, особенно порученных ему императрицей, в долгий ящик не откладывал.
В тот же самый день, в который он узнал от неизвестной ему девушки все подробности салтычихинских истязаний над дворовыми, он приказал обер-полицмейстерской канцелярии нарядить над Салтычихой немедленное тайное следствие без проволочек и без отговорок, заметив при этом самому обер-полицмейстеру:
– Чтобы к приезду государыни все было кончено!
Начальник тогдашней полиции, генерал Ш., обещал постараться.
– Стараться мало, – заметил граф. – Надо сделать.
Этого было достаточно, чтобы начальник полиции кое-что сделал. Приезд императрицы на коронацию и ожидаемые по этому случаю милости имели при этом для него немало вдохновляющего свойства.
Через день в Троицком Салтычиха была арестована, причем не обошлось без довольно-таки порядочного побоища. Одному из полицейских проломили камнем голову, а двое дворовых Салтычихи, наши знакомые Анфим и Качедык, были, как говорилось в следственных бумагах, легко контужены.
Салтычиха билась в руках полицейской команды, как тигрица. Она кусалась, царапалась, и когда была привезена в Москву, в обер-полицмейстерскую канцелярию, то чуть не ударила самого генерала Ш. в лицо. Начальник полиции счел нужным сообщить об этом графу Орлову, прося инструкций.
– Птица невелика, – сказал Орлов, – дочь сержанта, не более. Свяжи веревками, а коль буянства не прекратит, то и в колодки забей.
Салтычиху припрятали так, что она видела только клочок неба, четыре стены – и ничего более. Она кричала, ругалась, проклинала всех и все и наконец должна была покориться своей участи.
Тайное следствие раскрыло ужасающие подробности. Они были так кровавы, так неслыханны, что граф счел за необходимое немедленно донести о том императрице.
Вместе с говором об ожидаемом приезде императрицы пошел по Москве говор и об аресте Салтычихи.
– Попалась-таки! – говорилось всюду, в домах, в гербергах и на улицах.
Помещики и помещицы из числа тех, которые привыкли обращаться со своими крепостными весьма «отечески», были сильно поражены тем, что Салтычиха была арестована за такое пустое дело, как «отеческая» расправа со своими крепостными людьми. «Отеческая» расправа была для них так нормальна и так обыкновенна!
– Новая метла метет, – говорили они глухо и таинственно, боясь все-таки открыто порицать действия новых людей. – Может, и поистреплется до поры.
Метла тем временем дело свое делала упорно и круто. Крепостные и дворовые Салтычихи были допрашиваемы ежедневно, и уже не боясь рассказывали все, что знали и видели. Показания были настолько возмутительны и трагичны в своих подробностях, что сами следователи, привыкшие уже ко всему, приходили в ужас. Это было нечто невероятное, не слыханное еще на Руси, и тем более невероятное, что трудно было отыскать всему этому причину. Никому не верилось, чтобы Салтычиха только из-за нечисто вымытых полов и из-за плохо выстиранного белья так ужасно тиранила бедных девушек. Выплыло наружу и дело с инженером Тютчевым. Узнано было и об убийстве Салтычихой дворового Сидорки Лихарева. Не миновали допроса, а затем и полного привлечения к делу и оба священника, троицкий и московский, отец Варфоломей, тот самый добрый старик, который из боязни перед Салтычихой хоронил заведомо замученных ею людей. Следствие производилось предварительно необычайно «в тайности», что, однако, нисколько не мешало почти всей Москве знать многие подробности дела. Судили о нем и вкривь и вкось, a многие боялись даже чего-то. Никто, однако, не знал, откуда сыр-бор загорелся, и многие из знатных москвичей, особенно родовитые Салтыковы, фамилия которых так неожиданно явилась опозоренной, не могли нигде и никак доискаться причины начала дела. Салтыковы очень хорошо знали, что одного доноса или жалобы дворовых было совсем недостаточно для того, чтобы Дарью Салтыкову арестовали и так строго и круто начали следствие. Им и в голову не приходило, что виновницей их позора была простая девушка, а затем уже и сам всемогущий Григорий Орлов. Среди всей этой поднявшейся кутерьмы Салтыковы вздумали было замять дело тем, чем обыкновенно заминали в ту эпоху всякие дела, но и тут они наткнулись, невзирая на почти баснословную щедрость, на такие преграды, которые их просто ошарашили.
Одному из Салтыковых, более настойчивому, генерал Ш. только и мог ответить:
– Не тем пахнет, государь мой.
– А чем же? – спросил тот.
– Пахнет правдой божеской.
Такие слова из уст начальника тогдашней полиции показались настойчивому ходатаю просто каким-то полицейским фарсом.
– Удивлены? – спросил генерал Ш., увидев в самом деле необыкновенно удивленное лицо ходатая.
– Поражен!
– Будете, государь мой, поражены еще более.
– Чем? Как?
– Увидите.
– Сообщите! Прошу!
– Эту вашу Дарью какую-то беспременно осудят и… казнят. Много очень доказательств!
Ходатай привскочил:
– Да пусть казнят – туда ей и дорога! Только зачем же позорить нас-то всех, Салтыковых!
– А вам что за позор! – заметил генерал Ш. – Ведь она роду не вашего. Дочь сержанта там какого-то.
– Все же наша фамилия на виду, все же нашу фамилию всякой подлой подьячишко произносит!
Генерал нахмурился.
– У царицы-государыни все равны, – произнес он холодно, – а тем паче те, кто служит ей. Подлыми верноподданных своих она не называет. Те только подлы перед ней и перед законом, кто подло поступает.
Ходатай понял намек, смягчился и в конце концов добился того, что генерал Ш. под большим секретом посоветовал ему обратиться к графу Орлову.
– Он теперь в силе… он может… – сказал генерал на прощание.
Ходатай поскакал к графу. Граф принял его немедленно и весьма любезно.
– В чем дело? – спросил граф.
Салтыков объяснил причину своего приезда, сказав между прочим:
– Как видите, граф, нашу фамилию позорят, топчут в грязь!
– А откуда ваша фамилия? – спросил, улыбаясь лукаво, граф.
– Наша фамилия… – Салтыков запнулся.
– Ну да, фамилия? – переспросил граф.
– Род наш известен… мы были еще отличены при императоре Петре… затем блаженной памяти императрица Елисавет Петровна…
Граф перебил:
– Слыхивал, слыхивал! Род ваш, точно, известен, как и мой. Деды наши никак в стрельцах служили, чернослободцами именовались, кафтаны мочалой чинили, батогами закусывали…
Ходатай вытаращил глаза. Он графа не понимал. Как так – ему, графу, богачу, любимцу императрицы, и открыто сознаваться, что он не более как внук какого-то стрельца времен Софьи Алексеевны!
– Граф! – только и мог произнести он удивленно.
– Что я граф – это точно. А что ваша Салтычиха… черт знает что такое – это еще точнее!
– Но ведь она вошла в наш род, она сделалась нам близкой, родной, – старался объяснить ходатай. – У нее есть дети, законные дети Глеба Алексеевича Салтыкова.
Граф прищурил глаза, что он имел обыкновение делать всегда, когда хотел сказать что-нибудь неожиданное или циничное.
– Верю вам, сударь мой, господин мой Салтыков, весьма много верю! – начал Орлов. – Только и вы уж, государь мой, поверьте мне немножко. У меня, сударь мой, есть хорошие конюшни – не Авгиевы, нет, – хорошие такие конюшни. Можете полюбоваться. Так вот, как тому и быть надо, в хороших конюшнях у меня и хорошие лошади. Лошади по конюшне, стало быть, и конюшни по лошадям. Ну вот! А не угодно ли вот вам, государь мой, в мою хорошую конюшню да поставить плохую мужицкую кобылу? Что из того выйдет, сударь? Кто украсит кого: конюшня кобылу или кобыла конюшню? Здраво судя, конюшня останется конюшней, а кобыла кобылой. Не так ли, сударь?



