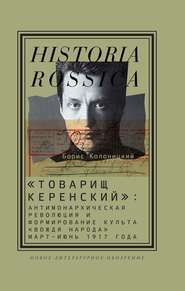
Полная версия:
«Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март – июнь 1917 года)
Видел ли кто хоть одного буржуя на улицах революции? Такие, как Милюков, Гучков, кроме товарища Керенского, все попрятались кто куда. Когда восставший революционный народ, придя к Таврическому дворцу, просил дать ему руководителя, один лишь товарищ Керенский согласился быть таковым и стать во главе их, просивших хлеба и свободы, но остальные министры теперешнего Временного правительства лишь только взяли портфели в свои кровавые руки, которые были запачканы кровью наших братьев, борцов за свободу[228].
Показательно, что этот текст, составленный низовыми активистами, был направлен в «Солдатскую правду» и газета Военной организации большевиков опубликовала его, хотя в это время пропаганда данной партии уже начала атаку против военного министра. Можно предположить, что даже некоторые сторонники большевиков все еще считали Керенского героем революции; во всяком случае, он противопоставлялся министрам-«буржуям».
27–28 февраля Керенский неоднократно выступал перед солдатами. Некоторые биографы использовали эти эпизоды, создавая образ вождя вооруженного восстания: «Когда… в Государственную Думу стали являться революционные полки, их неизменно встречал Керенский. Его речи, короткие и сильные, поддерживали бодрость в революционных войсках, направляли их по пути единственному, который мог привести к свободе»[229].
В те дни перед повстанцами выступали и другие депутаты Думы; показательно, однако, что эти биографы Керенского изображали именно его как вождя, который обладал даром определения «истинно верного» пути к свободе.
Вскоре после ввода войск в Таврический дворец Керенский вновь обратился к толпе, собравшейся в Екатерининском зале. Его слушатели требовали покарать деятелей «старого режима»: именно борьба с «внутренними врагами» считалась наиболее актуальной задачей революции. Керенский и призвал к арестам, но настаивал на необходимости избегать внесудебных расправ. Толпа шумно требовала сейчас же назвать конкретные имена, жаждала немедленных действий. Керенский приказал, чтобы к нему был доставлен ненавистный «общественности» И. Г. Щегловитов, бывший министром юстиции и затем председателем Государственного совета[230]. Интересно, что именно этот государственный деятель, а не какой-либо представитель исполнительной власти был назван в качестве первого кандидата на арест и такой выбор был одобрен слушателями депутата, становившегося революционным лидером, – хотя с точки зрения технологии борьбы за власть логично было бы захватить руководителей армии и полиции. Это косвенно свидетельствует о роли отдельных спонтанных действий в развитии революции.
В это же время Керенский и его соратники занялись организацией военных сил повстанцев; современные исследователи пишут о возникновении «штаба Керенского» – структуры, которая пыталась наладить охрану Думы, привлечь на сторону восстания войска, вооружить повстанцев, занять различные учреждения. Вечером была создана военная комиссия, ядром которой стала группа Керенского. Лидер трудовиков и сам вошел в состав комиссии, его подпись стоит под некоторыми приказами[231].
Около трех часов дня к Родзянко и Керенскому обратились социалисты, желавшие получить помещение в Таврическом дворце для организующегося Совета рабочих депутатов. С разрешения Родзянко им был выделен большой зал бюджетной комиссии и прилегающий к нему кабинет ее председателя. Был создан Временный исполнительный комитет, который взял на себя инициативу созыва Совета. Примерно в то же время Керенский и Чхеидзе санкционировали выпуск «Известий комитета журналистов»; эта газета стала важнейшим источником сведений для жителей столицы[232].
Когда студенты с саблями наголо доставили Щегловитова в Думу, Керенский «именем народа» произвел его арест, отвергнув попытку Родзянко предоставить председателю верхней палаты статус «гостя»[233]. Такой исход конфликта между Керенским и Родзянко отражал изменение соотношения сил, расположившихся в стенах Таврического дворца: авторитет лидера трудовиков возрастал, и председатель Государственной думы должен был это учитывать. Слухи о том, что Керенский арестовал Щегловитова, распространялись по городу[234].
Арест Щегловитова, ставший важным элементом мифа революции, влиял на формирование образа Керенского, подтверждая его репутацию как вождя переворота. Уже упоминавшийся Зензинов, видный эсер, писал в первом номере партийной газеты, вышедшем 15 марта: «А. Ф. Керенский отказался выпустить Щегловитова из Думы и, заперев его на ключ в министерском павильоне, заставил тем самым присутствующих вступить на революционный путь. Этот момент был одним из поворотных пунктов движения». К данному эпизоду Зензинов вернулся и в своих мемуарах, отмечая, что то был один из важных «жестов», определивших течение революции[235].
Так же воспринимали арест Щегловитова и некоторые другие современники. Автор «Петроградской газеты» описывал противостояние сил «старого» и «нового», олицетворяемого Керенским: «Два враждебных мира, два непримиримых противника стояли в грозный час решения друг перед другом. Старый, величественно важный сановник, столп реакции, и молодой избранник, смелый поборник великой цели свободы и народовластия. Коршун и орел»[236].
Об аресте Щегловитова сторонники Керенского часто упоминали после Февраля. В изображении одного из провинциальных приверженцев министра это действие выглядело не как импровизация, а как спланированная заранее акция лидера революции, который предусмотрительно и тщательно подготовил решающий удар, сокрушивший режим:
Когда в Думу пришли первые революционные полки, когда они бродили по Таврическому дворцу и спрашивали: «Что нам делать?», а все еще колебались что-нибудь предпринять… Керенский немедленно вытребовал своих офицеров. «Вы спрашиваете, что вам делать», – обратился он к солдатам, вынимая лист бумаги с адресами всех представителей старой власти. «Вот вам, офицеры, и работа. Идите, немедленно арестуйте сторонников престола и привезите их сюда».
В бессмертной шахматной партии между Думой и властью это был в ту минуту гениальный шах и мат сторонникам Николая Второго. И этот шаг сделал Керенский[237].
Согласно некоторым версиям популярных биографий Керенского, подготовленных в 1917 году, аресты, произведенные по его приказу, позволили ему разоблачить антинародные заговоры «слуг старого режима»: «…он первым допрашивал их, и эти допросы давали не раз возможность успешно бороться с врагами России». Молодому депутату молва приписывала заслугу в прекращении стрельбы на улицах столицы, и эти слухи нашли отражение в его ранних биографиях: «Так, при допросе Керенским бывшего министра внутренних дел Протопопова 1-го марта, последний выдал ему план расположенных на домах Петрограда пулеметов, на которых полиция производила обстрел народа. Пулеметы были сняты, и стрельба прекратилась»[238].
В то же время Керенский предотвратил самосуды над арестованными, которых доставляли в Таврический дворец; это обстоятельство также должно было укреплять его авторитет[239]. Для одних современников это была яркая демонстрация той власти, которой обладал политик, другие же видели в молодом депутате сторонника гуманных мер, борца с внесудебными расправами.
Между тем частное совещание членов Государственной думы постановило избрать из своей среды Временный комитет – Комитет членов Государственной думы для водворения порядка в столице и для сношения с лицами и учреждениями. На комитет возлагались обязанности следить за развитием событий и принимать соответственные меры, вплоть до взятия в свои руки всей исполнительной власти. Формирование нового органа власти было поручено совету старейшин, председателем комитета был избран Родзянко, Керенский стал одним из членов. Сразу же некоторые члены комитета начали действовать как представители власти[240]. В ночь на 28 февраля комитет взял власть в свои руки, однако руководители Думы датировали это событие предшествующим числом[241]. Комитет фактически одобрил действия Керенского по аресту царских сановников и подтвердил его полномочия[242].
Вечером 27 февраля, на первом заседании Петроградского Совета рабочих депутатов Керенский был избран в Исполнительный комитет Совета, а затем стал и товарищем (заместителем) председателя Совета; его кандидатура была выдвинута социалистами-революционерами. Сам он на этом заседании не присутствовал и о своем избрании узнал позднее[243]. Не было Керенского и на первом заседании Исполкома. Организаторы Совета, видные активисты социалистических партий, в большинстве своем относились к энергичному политику настороженно, но, выдвигая влиятельного депутата на пост товарища председателя, стремились с его помощью укрепить собственные позиции (в конце концов, и сам Совет возник при содействии Керенского)[244].
Смелые выступления перед восставшими солдатами, личный контакт с центрами протестного движения и, наконец, аресты царских министров – все это принесло Керенскому особую популярность, он быстро становился важнейшей фигурой революции. Из деятелей, известных широкой публике, только Керенский действовал столь решительно и ярко: «Он был единственный человек, который с энтузиазмом и полным доверием отдался стихии народного движения… Единственно он со всей верой в правду говорил с солдатами “мы”… И верил, что масса хочет именно того, что исторически необходимо для момента», – вспоминал трудовик В. Б. Станкевич. Уникальную роль Керенского отмечал и социал-демократ Н. Н. Суханов, ставший впоследствии его жестким критиком: «Незаменимый Керенский издыхающего царизма, монопольный Керенский февральско-мартовских дней». В такой обстановке некоторые консервативные члены Думы воспринимали его как революционного «диктатора»[245].
По-своему передает лихорадочный темп действий Керенского в дни Февраля его жена: «Первые дни он жил, не выходя из Думы, где работа шла и днем и ночью, и только уже совершенно обессилевши, он и другие депутаты урывали недолгое время для сна, валяясь тут же, на диванах и креслах в кабинетах Думы». Иногда близкие буквально заставляли его выпить чашку кофе, рюмку коньяка. Журналист А. Поляков вспоминал: «На ступеньках небольшой лестницы, ведшей в ложу журналистов, полулежал в полном изнеможении А. Ф. Керенский, а жена с ложечки кормила его яичными желтками, принесенными в стакане из дому». Порой депутат находился в полуобморочном состоянии, что производило гипнотизирующее впечатление на возбужденную толпу, заполнявшую Таврический дворец. Сам же Керенский не без удовольствия вспоминал впоследствии это состояние крайнего напряжения, для него Февральские дни остались самыми главными, «настоящими»: «Стоит жить, чтобы ощутить такой экстаз», – объяснял он[246].
Появлялись разнообразные слухи относительно Керенского, позднее он иногда изображался как кровожадный бунтовщик; правда, в прессу эти слухи проникли лишь осенью. Например, газета В. М. Пуришкевича в октябре задавала Керенскому вопрос от лица «русского общественного мнения»: «Правда ли, что, когда 28 февраля в Государственную думу одна из частей войск привела своих избитых и связанных офицеров и они обратились к Вам с просьбой о заступничестве, Вы ответили: “Ничего, пусть! Своим поведением офицеры заслужили этого!”»[247]
Но в первые месяцы революции роль Керенского описывалась исключительно положительно, что обосновывало его статус лидера. Леонидов писал о Керенском как о том, «кому мы в значительной степени обязаны совершившимся переворотом и кто принял власть из рук самого народа»[248]. И в некоторых политических резолюциях участие Керенского в перевороте оценивалось крайне высоко. Так, 27 апреля министра приветствовали рабочие и служащие рудников Донецкого общества «Ингулец» (Екатеринославская железная дорога), определившие себя так: «…получившие все гражданские права благодаря Вашему горячему участию в уничтожении царизма»[249]. И дружественные Керенскому публицисты, и многие рядовые участники событий явно преувеличивали его роль. Например, Н. М. Кишкин, комиссар Временного правительства в Москве, заявлял в начале марта: «…только что вернулся из Петрограда и могу засвидетельствовать, что если бы не Керенский, то не было бы того, что мы имеем. Золотыми буквами будет написано его имя на скрижалях истории»[250].
Репутация героя революции имела ключевое значение для создания образа «вождя народа». Сам Керенский, укрепляя свой авторитет, неоднократно обращался в публичных выступлениях к тем дням. Его сторонники, обосновывая решения своего лидера, защищая его от нападок оппонентов, также ссылались на его особую роль в дни Февраля. И в биографиях вождя, опубликованных в 1917 году, этим дням уделялось особое внимание. Как правило, вспоминались «пророческие» речи Керенского, аресты представителей «старого режима», особую же роль в обосновании права политика на революционное лидерство играли его действия, повлекшие за собой ввод мятежных войск в здание Таврического дворца.
5. «Борец за свободу» и культ «борцов за свободу»
В 1917 году Керенского многие именовали «борцом за свободу». Например, 26 июля 1917 года представители Куженкинского гарнизона приняли постановление:
…все любящие свою родину элементы страны должны сплотиться около Временного правительства, оказывая ему полную поддержку и доверие в надежде, что коалиционное правительство во главе с таким испытанным борцом за свободу трудящегося народа, каким является общий любимец, наш товарищ КЕРЕНСКИЙ, положит всю свою жизнь на защиту родины и революции от дерзких поползновений как со стороны внешнего врага, так и со стороны врагов революции справа и слева[251].
Составители этой резолюции использовали тактику легитимации, которую можно обнаружить и в других текстах того времени: политический лидер достоин поддержки, ибо он испытан годами борьбы за свободу народа, его безупречная революционная репутация служит залогом верности политического курса правительства, которое он возглавляет.
Действия Керенского в предшествующие годы и в особенности в дни переворота способствовали формированию подобной репутации. Неудивительно, что во многих приветствиях, посылавшихся ему в марте 1917 года, он именовался «борцом за свободу». Как уже отмечалось, конференция эсеров Петрограда, состоявшаяся в первые дни марта, приветствовала «стойкого, неустанного борца за народовластие»[252]. «Шлем сердечный привет борцу за свободу. Да благословит Вас небо на будущий подвиг», – обращались к Керенскому в то время некоторые политические ссыльные[253]. Показательно, что так описывали министра ветераны революционного движения, и это имело особый вес в глазах политизирующихся масс.
Порой таким термином – «борец за свободу» – обозначалась специализация Керенского. В частности, национальные организации именовали его «славным борцом за свободу России и ее народностей». Авторы других резолюций приветствовали политика как борца за социальное освобождение. Керенского называли «борцом за свободу трудящегося народа», «испытанным борцом за счастье и волю трудового народа», «неутомимым борцом и защитником обездоленного народа и его свободы» и «борцом за свободу униженных и оскорбленных»[254]. Во многих иных резолюциях революционный министр именовался «борцом за свободу», «борцом за свободу народа», «борцом за освобождение родины», «дорогим и неутомимым борцом за свободу и право»[255]. Особое значение придавалось стажу его активной политической деятельности и верности избранному политическому курсу: Керенского нередко называли борцом «испытанным», «неутомимым», «неустанным», «стойким».
Как мы уже видели, биографы Керенского в 1917 году создавали и подтверждали его революционную репутацию и тем самым обосновывали его право на политическое лидерство в условиях революции. Правда, так называли не одного только Керенского: статус противника «старого режима» становился важным ресурсом политической легитимации, поэтому разных лидеров той поры их сторонники именовали «борцами за свободу».
В марте многие жители России сочли нужным поздравить с успехом революции Родзянко, председателя Государственной думы и ее Временного комитета[256]. При этом авторы поздравлений не всегда точно представляли себе статус Родзянко: его именовали «главой свободного государства Российского», «главой свободной России», «министром-президентом», «председателем Временного правительства». Родзянко называли «борцом за свободу» и «освободителем России»[257], а иногда даже «вождем свободы»[258]. Некоторые обращения к Родзянко использовались впоследствии для характеристики иных вождей, в том числе и Керенского: председателя Государственной думы называли, например, «гением Свободной России»[259]. Чаще же Родзянко именовали «первым гражданином» – «первым свободным гражданином свободной страны», «лучшим гражданином», «первым гражданином свободной России». Так, присяжный поверенный И. Балинский приветствовал Родзянко следующим образом: «Да здравствует Государственная Дума… Да здравствует на долгие годы ее славный председатель, первый и достойнейший между равными гражданами гражданин свободной России»[260].
С именем Родзянко были связаны и некоторые первые проекты политики памяти эпохи революции. Так, Городская дума Екатеринослава 3 марта поспешила увековечить память о своем земляке, крупном землевладельце края: в зале Думы решили установить мраморную статую Родзянко, городская площадь получила его имя, а кроме того, планировалось в центре города воздвигнуть памятник Освобождению, со статуей Родзянко в середине композиции[261].
Представители различных политических партий также прославляли своих лидеров, напоминая об их революционном прошлом. Особенно активно этот прием укрепления и подтверждения авторитета использовался в тех ситуациях, когда партийные вожди оказывались под огнем критики со стороны своих оппонентов. Например, эсеры осуждали нападки консервативной и либеральной прессы на Чернова, которого они именовали «виднейшим борцом за свободу и счастье трудового народа»[262].
Когда же объектами яростной критики стали Ленин и «ленинцы», большевики сочли нужным опубликовать несколько биографических очерков, освещавших участие своего лидера в революционной борьбе[263]. Они заявляли: «Нельзя ссылаться на ложные грязные обвинения против т[оварища] Ленина, т[ак] к[ак] Ленин старый партийный вождь, вождь не мартовский…»[264] Сама формулировка могла рассматриваться и как скрытая критика политиков, выдвинувшихся лишь в дни Февраля, – упрек, который ветераны движения, казалось, могли адресовать и Керенскому.
После свержения монархии конструирование революционной биографии было распространенным приемом укрепления авторитета политических лидеров, представители различных течений именовали своих вождей «истинными» и «испытанными» «борцами за свободу», а соответствующий статус враждебных политиков подвергался сомнениям, критиковался, опровергался.
И все же именно для создания репрезентации Керенского образ «борца за свободу» был особенно важен. И он сам, и его сторонники, как мы уже видели, уделяли немало внимания выстраиванию такой репутации: ни один другой политический лидер не удостоился в то время стольких биографических очерков, созданных дружественными ему авторами.
К тому же иногда сторонники министра выделяли особый, более высокий статус Керенского по сравнению с другими «борцами за свободу». Так, председатель Борисоглебского землячества Харьковского университета вскоре после свержения монархии приветствовал «первого среди великих борцов за волю»[265]. И в последующие месяцы некоторые современники указывали на особое место Керенского в ряду «борцов за свободу». К примеру, 10 июля министру была направлена телеграмма о том, что организация социалистов-революционеров Молитовской фабрики «приветствует Вас, первого борца свободной революционной России, выражает Вам, в лице Вашем Временному правительству, – полное доверие». Представитель же Могилевского Совета крестьянских депутатов, приветствовавший Керенского 20 мая, именовал его ни больше ни меньше как «апостолом революции и освободителем крестьянства»[266].
В некоторых текстах той поры молодой политик рассматривался в качестве уникального, даже единственного освободителя страны. Это отношение проявлялось в письмах и резолюциях, адресованных Керенскому и осенью 1917 года: «Вы тот, кому вся Россия обязана освобождением от царского гнета»[267]. В другом случае министр описывается как главный освободитель страны, руководитель «борцов за свободу». Некий унтер-офицер П. М. Романов, пожелавший сменить свое родовое имя, напоминавшее теперь о «старом режиме», обращался к нему так: «Прошу вас, великий борец!!! За весь народ, который нес этот хомут и ярмо, вы уже, господин Керенский, во главе со всеми другими явились великим освободителем этого гнета и сняли это ярмо…»[268]
Именно применительно к Керенскому подобное обращение использовали даже пропагандисты австро-венгерской армии, стремившиеся распространять антивоенные настроения в рядах своих противников. В австрийской листовке, адресованной русским солдатам-фронтовикам, содержалась ссылка на министра, якобы заявлявшего ранее о своем желании прекратить военные действия: «Ваш верный товарищ Керенский, как освободитель народа, взял всю власть в свои руки и обещал народу, что война скоро кончится»[269].
Следует напомнить, что и сам Керенский в публичных выступлениях неоднократно ссылался на свои революционные заслуги и использовал этот прием чаще, чем другие видные политики.
Наконец, молодой министр, со своей стороны, тоже активно участвовал в создании культа «борцов за свободу». К этому его иногда подталкивало и общественное мнение. Так, общее собрание торговых служащих Тюмени, состоявшееся 5 марта, обратилось к нему со следующим посланием: «…в великий день выборов в городской Совет рабочих депутатов [собрание] просит вас, дорогой Александр Федорович, передать наш привет святым мученикам и борцам за свободу Екатерине Константиновне Брешковской, Вере Николаевне Фигнер, Николаю Морозову, другим ветеранам освободительного движения и сказать им, что мы жизнь положим за идеалы, к которым они стремились»[270]. В этом обращении именно Керенский упоминается как достойнейший представитель нового поколения революционеров, именно он уполномочивается выступать перед лицом легендарных предшественников, «святых мучеников», символизирующих братство «борцов за свободу». В других же приветствиях молодой политик даже упоминается в одном ряду со «святыми мучениками». Всероссийский съезд учителей, например, постановил приветствовать Керенского, Брешко-Брешковскую, Фигнер, Плеханова «и других деятелей революции» (показательно, что текст этого приветствия был напечатан в главной газете партии социалистов-революционеров)[271]. Молодой политик занял почетное место в ряду признанных ветеранов революционного движения, и в такой ситуации все усилия по созданию культа «борцов за свободу» были для Керенского особенно выгодными. К тому же формирование этого культа соответствовало основному вектору создания новой политики памяти после Февраля.
Революционная Россия должна была переписать свою историю, создавая картину прошлого, пригодную для политического использования в изменившейся ситуации. Одни события прошлого следовало забыть, другие – радикально переосмыслить; все политические и политизированные организации неизбежно втягивались в реализацию различных проектов политики памяти, а иногда и инициировали их. Порой же партийные деятели разного уровня просто не могли не реагировать на спонтанные действия толпы, которая уничтожала памятники деятелям «старого режима» и требовала смены названий эпохи «царизма». Следовало дать новые имена улицам, различным учреждениям и населенным пунктам, необходимо было позаботиться о создании новых монументов и подумать о судьбе старых захоронений революционеров и слуг «старого режима», нужно было воздать должное павшим «борцам за свободу» и приветствовать здравствующих ветеранов революционной борьбы. Особенно часто меняли названия военные корабли. Так, знаменитый броненосец «Князь Потемкин Таврический», название которого после известного восстания было изменено на «Святой Пантелеймон», в 1917 году по требованию команды получил имя «Борец за свободу»[272].
Столкновение конкурирующих проектов культурной памяти не стало в 1917 году главным фронтом политического противостояния, но в многочисленных конфликтах относительно памятных мест и мест памяти проявлялись разные аспекты борьбы за власть. В то же время роль инициатора соответствующего проекта могла быть важным – подтверждающим авторитет – ресурсом для политиков и администраторов, военачальников и членов всевозможных комитетов. Вырабатывая свою политику памяти, они опирались на развитую политическую культуру революционного подполья, имевшую давнюю традицию прославления, сакрализации своих героев и мучеников. Во время революции некоторые пропагандистские тексты, созданные ранее, переиздавались (немало соответствующих брошюр было опубликовано в 1905–1907 годах), после свержения монархии появлялись и новые биографии[273]. Особенно активно действовали в этом отношении социалисты-революционеры, прославлявшие в 1917 году своих товарищей по партии, известных террористов[274]. Статус «борцов за свободу» приобретали и другие деятели русской истории; так, А. Н. Радищев и ранее уже именовался первым русским борцом за свободу[275]. В других случаях первыми борцами за свободу называли декабристов[276].

