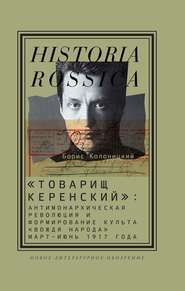
Полная версия:
«Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март – июнь 1917 года)
Керенский публично осуждал шовинизм, критиковал все европейские правительства за развязывание войны, а главное, неизменно и жестко атаковал российское правительство. Возможность гражданского мира внутри страны он не исключал, но обуславливал его проведением комплекса глубоких реформ. Порой лидер трудовиков выступал и с более радикальных позиций. Близкий к Керенскому трудовик В. Б. Станкевич описывал позицию лидера своей фракции следующим образом: «Служение войне путем критики правительства». Огромное воздействие на Керенского оказали документы международной социалистической Циммервальдской конференции, состоявшейся в сентябре 1915 года, и он нередко стал использовать язык интернационалистов, оставаясь при этом своеобразным «оборонцем», который не прекращал борьбу с правительством. Даже сам себя Керенский порой характеризовал – когда это было выгодно – как «левого циммервальдца», что не соответствовало действительности. Однако и некоторые современники воспринимали его как противника войны[158].
В разных ситуациях Керенский, желавший создать максимально широкую антиправительственную коалицию, мог высказывать различные мнения, приспосабливаясь к взглядам своей аудитории. На нелегальных собраниях он испытывал давление со стороны радикально настроенных социалистов-революционеров, которые вели антивоенную пропаганду, и, соответственно, использовал слова, убедительные для них, хотя со временем его разногласия с интернационалистским крылом эсеров обострились[159]. Целью Керенского было создание «красного блока», который объединил бы всех радикально настроенных противников режима, вне зависимости от их отношения к войне. Участвовал Керенский и в попытках создания нелегального «левого блока» – объединения всех социалистов[160]. В публичных же своих выступлениях он использовал все поводы для обличения правительства; такая позиция разделялась всеми силами, которые политик пытался объединить.
Вместе с Н. Д. Соколовым Керенский организовал юридическую защиту пяти большевиков, депутатов Государственной думы, арестованных в ноябре 1914 года. С думской трибуны будущий министр протестовал против ареста «наших товарищей», возглавил группу радикальных адвокатов, защищавших социал-демократов в суде[161]. И впоследствии он пытался добиться освобождения «пятерки» депутатов[162].
Позиция Керенского по некоторым вопросам иногда даже сближала его с большевиками[163]. А. Г. Шляпников, руководитель большевистского подполья, указывал и в сентябре 1917 года в центральном органе своей партии, что Керенский посещал нелегальные собрания представителей различных социалистических групп[164]. В обзоре деятельности нелегальных партий, составленном полицией, отмечалось, что в конце 1915 года была ликвидирована «народовольческая» группа, объединенная членом Государственной думы Керенским. В его квартире происходила конференция по выборам Петроградского комитета социалистов-революционеров и обсуждению декларации об отношении к войне. В декларации, составленной тем же Керенским, проводились, по мнению информаторов полиции, идеи Циммервальдской конференции[165].
Автор известных мемуаров меньшевик-интернационалист Н. Н. Суханов вспоминал, что Керенский действовал как «профессиональный революционер». Поездки по стране депутат Думы использовал для нелегальной работы. Он читал в провинциальных городах публичные лекции, содействовал организации оппозиционеров, помогал им деньгами (средства предоставляли политические друзья Керенского из либеральных кругов). Это не могло остаться незаметным. Видный деятель правых Н. П. Тихменев писал: «…революционные вожаки, вроде Керенского, усиленно объезжают Россию с лекциями и докладами, попутно, очевидно, что-то налаживая: вскакивают, как грязные пузыри, в провинциальных городах новые социал-демократические газеты, содержимые на какие-то темные деньги; наглость “прогрессивной” прессы растет…»[166] Противники депутата, возможно, преувеличивали результаты и масштабы его деятельности, однако известность оппозиционного политика в это время, безусловно, возрастала. Не только связи с подпольщиками, но и сама по себе репутация человека, связанного с подпольем, были весьма важны для Керенского в дни Февраля.
Политик, как уже отмечалось, не ограничивал свою нелегальную деятельность рамками партии социалистов-революционеров. Совещания, посвященные объединению различных левых организаций, происходили на квартире Керенского. Там 16–17 июля 1915 года состоялась конференция представителей народнических групп Петрограда, Москвы и провинции. Полиция считала депутата Думы ключевой фигурой этого объединения. На конференции было создано центральное бюро для координации деятельности трудовиков, народных социалистов и эсеров. Однако план такой коалиции оказался нежизненным: непреодолимые разногласия по вопросу о войне и полицейские преследования не позволили его реализовать. В октябре на квартире Керенского происходили собрания эсеров столицы, тайная полиция была осведомлена и об этом. В июле 1915 года жандармские подразделения на русско-финляндской границе получили секретный приказ. В нем говорилось, что Керенский, разъезжая по империи, «ведет противоправительственную деятельность». Предписывалось немедленно установить наблюдение за депутатом. После революции этот документ был вывешен на железнодорожной станции Белоостров для публичного обозрения, о чем сообщали дружественные Керенскому издания[167].
Полиция преувеличивала роль лидера фракции трудовиков в организации протестных акций. Согласно докладу директора Департамента полиции, забастовки рабочих лета 1915 года были связаны с пропагандистской деятельностью Керенского, которому приписывался даже призыв создавать заводские коллективы для образования Советов по образцу 1905 года. Депутата именовали в этом докладе «главным руководителем настоящего революционного движения». В действительности Керенский и Чхеидзе, лидер социал-демократической фракции, призывали рабочих не растрачивать силы на отдельные стачки, а готовиться к грядущим решительным действиям против режима. Но после Февраля такие оценки полиции, даже фактически неверные, укрепляли репутацию «борца за свободу». Газеты перепечатывали эти документы, предоставлявшиеся сторонниками Керенского, которые контролировали архивы, а его биографы их охотно цитировали[168].
Опыт военного времени был важен для становления Керенского-политика. Он упорно пытался – не всегда успешно – примирить разнородные политические силы на основе борьбы против общего врага – существующего режима. При этом свою позицию по наиболее спорному вопросу – об отношении к войне – он формулировал нечетко, а порой в разных аудиториях определял ее по-разному, иначе расставляя акценты. Нельзя, однако, считать Керенского «центристом» – вернее было бы говорить о доходящей до оппортунизма, но искренней и в то же время прагматичной идеологической пластичности. Такая неопределенность взглядов мешала Керенскому стать вождем какой-то одной партии, одной влиятельной группы, но именно она же позволяла ему считаться «своим» в различных кругах, а это было важно для той роли организатора межпартийных соглашений, той миссии строителя широкой оппозиционной коалиции, которую он взял на себя.
Оценить вклад лидера фракции трудовиков в организацию подполья сложно. Историк партии социалистов-революционеров М. Мелансон полагает, что эсеры-подпольщики пытались использовать Керенского и контролируемые им ресурсы в своих интересах, но отвергали его руководство[169]. Другие подпольщики также обсуждали отношение к Керенскому, влияние которого возрастало. Революционеров, очевидно, привлекали и денежные средства, находившиеся в его распоряжении. По-видимому, вопрос об использовании этих ресурсов А. Г. Шляпников и поставил перед В. И. Лениным. Во всяком случае, в своем ответе в сентябре 1915 года лидер большевиков аттестовал Керенского как «революционера-шовиниста» – с представителями этого направления нельзя было создавать каких-то блоков, однако следовало использовать их выступления, оказывать взаимные технические услуги. Письмо Ленина можно было трактовать и как совет воспользоваться ресурсами Керенского, и как призыв к совместным действиям во имя уничтожения режима: «…отношения должны быть прямые, ясные: вы хотите свергнуть царизм во имя победы над Германией, мы для интернациональной революции пролетариата»[170]. Как видим, те различные комбинации широкого фронта оппозиционных сил, которые пытался создать Керенский, могли включать даже большевиков. Опыт разнообразных переговоров во время войны, в том числе переговоров безуспешных, влиял и на действия их участников в дни Февраля, и на взаимные оценки. Так, первоначальная сдержанность некоторых видных большевиков в их оценках Керенского могла быть связана и с совместной деятельностью в предреволюционный период.
В 1917 году о контактах с Керенским вспоминали и другие большевики. К примеру, И. Степанов в конце августа опубликовал статью, в которой коснулся жизненного пути Керенского, к тому времени уже возглавлявшего Временное правительство. Автор вспоминал о своей встрече с будущим министром в ноябре 1916 года: по словам Степанова, лидер трудовиков в это время «полевел», но в рабочих выступлениях видел руку Охранного отделения и императорского двора, который он считал германофильским[171]. Можно предположить, что видный большевик хотел таким образом дискредитировать главу Временного правительства: Керенский-де не понимал истинных мотивов рабочего движения, его подлинной природы, а это предполагало, что политик не представлял истинных настроений масс, был от них оторван. В результате ставился под вопрос «демократизм» лидера Февраля. Однако текст Степанова мог читаться и иначе: даже большевики, политические противники Керенского, подтверждали его участие в нелегальной деятельности, а занятие ею продолжало быть в глазах многих источником авторитета любого революционного политика.
На репутацию Керенского оказывали влияние и другие действия, совершенные им во время войны. Осведомленный о настроениях разных групп подпольщиков, он участвовал и в различных совещаниях легальной оппозиции, на которых призывал либералов к решительной борьбе с режимом. Он убеждал своих собеседников, что страна находится накануне революции, однако большая их часть не разделяла этого мнения, считая энтузиазм Керенского чрезмерным[172]. Тем не менее после свержения монархии подобные предложения лидера трудовиков могли восприниматься как точный прогноз, как предвидение вождя, наделенного даром пророчества, а это должно было укреплять его авторитет.
В годы войны популярность Керенского возросла, чему способствовали его речи в Думе. Запреты на их публикацию лишь привлекали к ним внимание – тексты выступлений депутата распространялись в списках, в машинописи, а подпольные организации выпускали листовки, цитируя оппозиционного оратора. После Февраля эти запрещенные речи печатались в прессе и отдельными изданиями: они укрепляли репутацию министра как противника «старого режима» и утверждали его авторитет как политика, обладающего даром предвидения. Известность приобрели и другие тексты Керенского. В 1915 году был казнен бывший жандармский офицер С. Н. Мясоедов, безосновательно обвиненный Ставкой верховного главнокомандующего в шпионаже в пользу Германии; кампания шпиономании, инспирированная тогда Ставкой, должна была отвлечь общественное мнение от просчетов военного руководства[173]. «Дело Мясоедова», в виновности которого были убеждены люди разных взглядов, провоцировало различные конспирологические построения, в любом случае предоставляя важный пропагандистский ресурс: правые подчеркивали, что Мясоедов был женат на еврейке и имел деловые связи с еврейскими предпринимателями, а левые напоминали о жандармском прошлом офицера. Керенский успешно использовал «дело Мясоедова» для обличения «измены в верхах». Депутат направил письмо председателю Государственной думы М. В. Родзянко, требуя немедленного созыва Думы. Не приводя доказательств, Керенский писал, что «измена свила себе гнездо» в Министерстве внутренних дел, где якобы «спокойно и уверенно работала сплоченная организация действительных предателей». Эти силы-де оказывали «враждебное противодействие успешному окончанию внешней борьбы». Керенский выдвигал обвинение не только против какой-то группы чинов министерства – он обличал все могущественное ведомство: «…руководящие круги МВД весьма прикосновенны к тому влиятельному у нас политическому течению, которое считает настоятельно необходимым скорейшее восстановление тесного единения с берлинским правительством». Спасти страну – обязанность избранников народа: «Государственная Дума должна сделать все, чтобы оградить нацию от гнусного удара в спину»[174]. Письмо Керенского получило широкое распространение, некоторые современники целиком переписывали его в свои дневники. По данным Охранного отделения, письмо живо обсуждали в «партийных кругах» студенчества, размножали на гектографе. Листовки с его текстом распространялись в столичном университете, это вызвало возбуждение даже среди умеренных студентов, а левые студенческие группы – социал-демократы и эсеры интернационалистских взглядов – пытались использовать данный текст для антивоенной пропаганды[175]. Письмо Керенского издавали даже большевики[176]. Оно распространялось в Москве, Харькове, Киеве, Кронштадте, а в Юрьеве (Тарту) появились листки с переводом его на эстонский язык. Немало экземпляров письма попало в действующую армию[177].
Обстановка нарастающей шпиономании и ксенофобии эпохи мировой войны привела к появлению конкурирующих теорий заговора. Чуть ли не все политические силы России использовали в своих целях германофобию, правые же конспирологические построения были окрашены в цвета антисемитизма и англофобии. Оппозиция все упорнее говорила о придворной «немецкой партии», желающей сепаратного мира, получили распространение и слухи о «заговоре императрицы»[178]. После революции некоторые невероятные теории заговора временно приобрели статус достоверной информации; соответственно, их творцы и распространители наделялись репутацией смелых патриотов, разоблачавших измены «старого режима». Ненависть к полиции, прекратившей свое существование после Февраля, способствовала тому, что память о «разоблачении» Керенским «заговора МВД» служила повышению популярности революционного министра.
Создавая собственную версию «удара в спину» российской армии, Керенский обличал конспирологические построения своих политических противников. В годы войны некоторыми правыми политиками и высокопоставленными военными распространялись и слухи о том, что в прифронтовой полосе еврейское население чуть ли не поголовно занимается шпионажем в пользу противника, а в местечке Кужи евреи якобы даже обстреливали русские войска. Керенский отправился на место событий и провел расследование, на основании которого в июле 1915 года в Думе назвал обвинение «гнусной клеветой»[179]. О кужском расследовании и выступлении Керенского писал и Леонидов в 1917 году: «Керенский силою фактов и неопровержимостью собранных им данных разбил этот гнусный навет, разоблачил его темных авторов и вывел на свет Божий их недостойную и позорную игру»[180]. Репутация защитника национальных меньшинств тоже была весьма востребована после Февраля.
Дружественные Керенскому публицисты во время революции вспоминали и другой эпизод, важный для формирования образа политика. В 1916 году были призваны на тыловые работы многие жители Казахстана и Средней Азии, после чего произошло восстание, сопровождавшееся кровавыми этническими конфликтами и жестоко подавленное русскими войсками. Керенский, живший в юности в Ташкенте и ощущавший себя «туркестанцем», особенно болезненно переживал эти события. Вместе с депутатами Думы, представлявшими мусульман империи, он отправился в Туркестан[181]. Вернувшись в столицу, Керенский рассказал о своей поездке на частном совещании членов Думы. При интерпретации этого сложного конфликта депутат свел все проблемы региона к неверным действиям царской администрации. Впрочем, некомпетентность властей невозможно было отрицать, а после Февраля такая версия была особенно востребована: во всех бедах винили исключительно «старый режим». Например, некоторые русские учителя в Туркестанском крае, работавшие еще с отцом А. Ф. Керенского, после свержения монархии так приветствовали молодого министра юстиции: «Непоколебимо верим в спокойствие и светлое будущее родного Туркестана, взволнованного прошлым бунтом как следствием печальных недоразумений старого режима. Благословит и поможет Вам Бог»[182]. Поездка в Туркестан укрепила авторитет Керенского в среде мусульманской интеллигенции, что проявлялось и в 1917 году. Например, председатель Центрального бюро российских мусульман А. Цаликов и председатель Мусульманского народного комитета в Москве Гаяз Исхаки (в телеграмме: Гиязисхаков. – Б. К.) в мае направили Керенскому послание:
Ваша поездка в Туркестан и историческая защита туземцев этого края в Государственной думе окружила ваше имя в мусульманском мире светлым, сияющим ореолом славы. Вы показали мусульманам, каковы истинные русские люди. Мусульмане были в восторге, увидев вас во главе того могучего движения, которое дало многострадальной России со всеми ее народами благо свободы. Собираясь в первый раз на всероссийский съезд свободной России, мусульмане будут рады видеть вас своим дорогим гостем[183].
Леонидов в своем биографическом очерке уверял даже, что только решительные действия депутата Думы предотвратили ухудшение ситуации: «Когда разыгрались эти печальные события, Керенский еще не оправился от серьезной, перенесенной им операции. Прямо с постели, еще больной, несмотря на все запреты врачей, он пустился в путь и постарался убедить генерала Куропаткина не превращать искони лояльных народностей Туркестана в бунтарей и не бросать мирной окраины под ноги борющейся с внешним врагом России»[184].
Упоминание болезни Керенского требует комментария. Врачи обнаружили у него туберкулез почки; в клинике финляндского курорта Бад Гранкулла 16 марта 1916 года почка была удалена. Серьезная операция не могла не сказаться на здоровье Керенского – в течение нескольких месяцев его трудоспособность была весьма ограничена. Да и в начале 1917 года многие отмечали плохой внешний вид молодого политика. Сочувствие к больному проявилось в письмах и телеграммах, которые направлялись в его адрес до операции и после[185]. Керенского в это время старались поддержать публицисты и писатели (в том числе Б. Д. Бруцкус, Я. Л. Саккер, С. А. Есенин, А. П. Чапыгин, Д. В. Философов и др.). Среди прочих публицистов пожелания выздоровления политику выразила Л. М. Арманд, автор уже упоминавшейся брошюры, выпущенной в 1917 году. Коллективные же письма различных групп студентов дают представление о той репутации представителя «демократии», которую Керенский приобрел к этому времени у радикальной молодежи. Так, общее собрание студентов Московского университета, посвященное устройству студенческой столовой, приветствовало «глубокоуважаемого товарища» и выражало надежду, что в самый близкий срок можно будет услышать «горячее слово истинного представителя русской демократии». Участники общего собрания студентов Психоневрологического института слали приветствие по случаю выздоровления «мужественному народному трибуну» и тоже выражали надежду, что скоро вновь удастся услышать «горячее, сильное слово депутата – защитника заветных стремлений российской демократии». Приветствовали Керенского и политические организации – социал-демократическая фракция Думы, Еврейская демократическая группа и, разумеется, фракция трудовиков[186]. Как видим, среди людей, оказывавших министру политическую поддержку в 1917 году, было немало тех, кто выражал ему сочувствие ранее, в феврале и марте 1916 года. Эта поддержка человеку, который боролся с болезнью, свидетельствовала об авторитете Керенского, сложившемся к тому времени, и способствовала среди прочего укреплению эмоциональных связей между лидером и его сторонниками. Сочувствие к больному политику, как мы увидим, влияло и на формирование образов лидера в 1917 году.
Возвращаясь к вопросу об информированности Керенского, отметим, что он знал и о некоторых планах государственного переворота, циркулировавших в политических и военных кругах во время войны. Позднее сам он вспоминал: «Знали о заговоре и мы, руководители масонской организации, хоть и не были в курсе всех деталей, и тоже готовились к решающему моменту». На некоторых встречах заговорщиков Керенский присутствовал лично. Однажды к известному депутату явились офицеры, желавшие арестовать царя, – они хотели заручиться поддержкой лидера трудовиков[187]. Показательно, что к политику обращались разные группы, вовлеченные в сложные политические интриги; это свидетельствует о его влиянии и известности в тот момент. Впоследствии и сам Керенский признавался, что еще в 1915 году мечтал о перевороте[188]. Но, насколько можно судить, эпизоды, связанные с подготовкой переворота, не использовались широко для конструирования публичной репутации политика в 1917 году.
Кандидатура Керенского встречается и при обсуждении возможного состава нового правительства в случае изменения политического режима[189]. Слухи об этом получили широкое распространение; показательно, что даже Ленин, находившийся в Швейцарии, писал в начале 1917 года о возможности создания в России правительства П. Н. Милюкова и Гучкова или Милюкова и Керенского[190]. Возрастание авторитета руководителя фракции трудовиков лидер большевиков ощущал и в эмиграции, а для политической элиты Петрограда оно было еще более очевидным.
К началу 1917 года Керенский занимал уникальное положение. Его общественная позиция, его личностные качества, ресурсы, которыми он располагал, позволяли ему быть своим человеком в различных политических мирах, представители которых редко соприкасались между собой. Керенский являлся одновременно парламентарием и адвокатом, был связан с масонами и подпольщиками. Статус члена Государственной думы, депутатская неприкосновенность, информированность и известность позволяли ему эффективно и без чрезмерного риска содействовать подполью. Положение же человека, вхожего в миры подполья, делало его интересным, а нередко и авторитетным для политиков, ограничивавших свою деятельность легальным пространством. В разных отношениях и для разных групп он был выразителем общественных настроений и ресурсным центром, моральным авторитетом и информированным экспертом. Особенности политической системы, сложившейся в 1905–1907 годах, и во время войны делали возможным для Керенского одновременно играть такие разнообразные роли, но реализовать эти возможности мог только человек, обладавший незаурядными личностными и профессиональными качествами.
Керенский оказался в центре различных политических комбинаций, которые объединяли сторонников сохранения империи и федералистов, противников войны и оборонцев, монархистов разного толка и республиканцев многих оттенков. Велик соблазн объяснить это положение солидарностью представителей «российского политического масонства». Следует, однако, признать, что «объяснения» такого рода являются не более чем универсальными интеллектуальными «отмычками», ведь с помощью конспирологических предположений можно интерпретировать любое общественное явление; между тем их познавательный ресурс не очень велик. Важнее здесь отметить, что Керенскому весьма помогала его «надпартийность», «внефракционность». Он не был патриотом какой-либо партийной программы, а являлся по-своему непартийным человеком, что выражалось прежде всего в его отношении к войне: в разное время и в разных аудиториях он высказывал разные взгляды. Не всегда это можно назвать политической мимикрией. Политик стремился – порой, по-видимому, инстинктивно, бессознательно – создать гибкую и широкую идеологическую рамку, пригодную для достижения цели, которая оставалась для него постоянной, – революция во время войны. Для одних партнеров Керенского по переговорам это была революция ради успешного продолжения войны, для других – ради ее прекращения. В попытках создания подобных объединений участвовал не только лидер думской фракции трудовиков, но его роль была весьма значительной. Эта практика создания коалиции из столь разнородных компонентов очень пригодилась Керенскому во время революции, в правительствах разного состава, в переговорах с представителями разных элитных групп.
Опыт «политического защитника» и радикального депутата Думы был важен для создания общественной репутации, укрепления авторитета «народного трибуна», борца за «права трудящихся», поборника закона, защитника национальных меньшинств, представителя радикальной интеллигенции в законодательной палате и в мире большой политики. Эти грани образа Керенского стали востребованы в дни Февраля.
4. Герой революции
В первых выпусках столичных газет, вышедших после свержения монархии, было опубликовано обращение эсеров к Керенскому: «Конференция петроградских социалистов-революционеров товарищески приветствует в вашем лице, Александр Федорович, стойкого, неустанного борца за народовластие, вождя революционного народа, вошедшего во Временное правительство для защиты прав и свободы трудящихся масс»[191].



