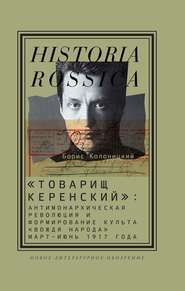
Полная версия:
«Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март – июнь 1917 года)
Авторы обращения одобряли вступление Керенского в правительство и – в отличие от большинства руководителей Петроградского Совета – давали ему мандат на участие в правительстве для защиты прав и свобод трудящихся. Такое доверие социалистов-революционеров столицы было связано с высоким авторитетом политика, основанным на репутации «стойкого и неустанного борца», при этом его выделяли по сравнению с другими «борцами» и провозглашали «вождем революционного народа». Подобное обращение было в ту пору еще довольно редким и стало следствием высокой оценки деятельности Керенского накануне революции и еще более – в дни Февраля. Первый легальный форум той партии, которой предстояло сыграть большую роль в последующих событиях, провозглашал политика «революционным вождем»; это существенно укрепляло его авторитет в глазах сторонников эсеров по всей стране.
Для образа «стойкого борца» и «вождя революционного народа» большое значение имели речи, произнесенные Керенским в канун революции; они часто цитировались. Задним числом речи эти воспринимались как грозные, смелые и точные пророчества. Дружественные политику публицисты, первые биографы Керенского писали о вдохновенных и точных предсказаниях вождя, об ощущении надвигающейся революционной грозы, которое передавали эти выступления. Показательно, что, как уже отмечалось, разные авторы при этом использовали схожие слова[192]. Дар «предвидения» и даже «ясновидения», которым публицисты наделяли Керенского, служил для обоснования его статуса уникального вождя. Одним из выступлений Керенского, запрещенных цензурой к печатанию, была выпущенная уже во время революции речь (заголовок, данный ей публикаторами, подтверждал эту репутацию): «Пророческие слова А. Ф. Керенского, произнесенные 19 июля 1915 г. в Государственной думе»[193]. В предисловии к другому изданию речей Керенского отмечалось: «…можно видеть, что его последние думские выступления были пророческими и что первый министр-социалист свободной России оказался одним из самых дальновидных наших государственных деятелей». «Пророческие» речи служили для авторов доказательством того, что министр обладает «горячим сердцем патриота-революционера и мудрым провидением государственного деятеля». Неудивительно, что политические друзья Керенского после Февраля переиздавали эти речи. Публикаторы обращали внимание читателей на те возгласы и заявления председателя Государственной думы М. В. Родзянко и либеральных депутатов, вошедших во Временное правительство, которыми умеренные политики прерывали слова «депутата-революционера» о грядущей гибели царизма[194]. Тем самым читателям давали понять, что подлинным даром политического предвидения и стойкостью настоящего революционера обладал в Думе лишь Керенский, а это ставило его в особое положение во Временном правительстве.
Показателен отбор думских речей политика, издававшихся после Февраля. Особенно часто вспоминались и переиздавались те из них, которые были произнесены в конце 1916 – начале 1917 года. Атака оппозиции на власть усилилась осенью, 1 ноября в Государственной думе прозвучала знаменитая речь лидера конституционных демократов Милюкова, рефреном которой были слова «Глупость или измена». Сенсационная речь лидера кадетов затмила еще более радикальное выступление Керенского, который в тот же день атаковал правительство столь резко, что председательствующий лишил его слова, однако лидер фракции трудовиков успел назвать министров «предателями интересов страны» и фактически призвал к свержению правительства. Три дня спустя Керенский пошел еще дальше, заявив, что государство захвачено «враждебной властью» и в стране установлен «оккупационный режим». На этот раз в измене обвинялся уже и глава государства: «Семейные и родственные связи сильнее интересов государства. <…> Интересы старой власти ближе к тем, кто за границей, чем к тем, кто внутри страны». Оратор призвал к уничтожению существующего режима, «страшной язвы государства». 16 декабря, в последний день думской сессии, Керенский вновь заявил, что компромисс с властью невозможен, и призвал либералов к решительным действиям; профессиональный юрист утверждал, что в сложившихся обстоятельствах долг гражданина – не повиноваться закону. За этот призыв он опять был лишен слова. Особую же известность получила речь, произнесенная Керенским 15 февраля 1917 года, после открытия последней думской сессии. Он обличал «государственную анархию» и требовал «хирургических методов», призывая к физическому устранению «нарушителей закона». Оратор заявил, что разделяет мнение партии, «которая на своем знамени ставила открыто возможность террора, возможность вооруженной борьбы с представителями власти, к партии, которая открыто признавала необходимость тираноубийств». Депутат Государственной думы признал, что поддерживает террористическую тактику нелегальной партии эсеров. Он клеймил «систему безответственного деспотизма» и требовал уничтожения «средневекового режима». В ответ на замечание председателя о недопустимости подобных заявлений с думской трибуны, Керенский пошел еще дальше и уточнил: «Я говорю о том, что делал в классические времена гражданин Брут». Слова депутата Думы были восприняты как публичный призыв к цареубийству. Знакомые Керенского считали, что после подобного выступления он уже никак не сможет избежать ареста, и заранее выражали ему сочувствие. Да и сам лидер фракции трудовиков полагал, что теперь депутатская неприкосновенность его уже не спасет, и говорил друзьям: «Ведь мой арест за последнюю речь принципиально решен. Вопрос лишь в том, как его практически осуществить при моей депутатской неприкосновенности. Если сегодня распустят Думу – завтра, вероятно, меня арестуют»[195]. Такое настроение могло влиять на его действия в дни Февраля: он уже сжег свои мосты, и лишь скорая смена режима позволяла спастись от тюрьмы[196].
Кирьяков назвал выступление 15 февраля «первой исторической уже явно революционной речью»[197]. Тем самым он указывал на особую роль, которую депутат сыграл в перевороте. Керенский накануне Февраля получал письма с просьбами переслать тексты выступлений, запрещенных к публикации, а тысячи машинописных и рукописных копий расходились по стране. Речи распространялись и в виде листовок, издаваемых подпольщиками; немало экземпляров попало в действующую армию. Правые в Думе заявляли, что Керенский – «помощник Вильгельма», и в то же время воздерживались от резкой критики оратора, желая, чтобы лидер трудовиков договорился «до Геркулесовых столбов». Речь Керенского заметили и в Царском Селе. В письме императрицы царю от 24 февраля имеется характерное пожелание: «Я надеюсь, что Кедринского [Керенского. – Б. К.] из Думы повесят за его ужасную речь – это необходимо (военный закон – военного времени), и это будет примером»[198]. Но даже некоторые представители высшего общества воспринимали выступления лидера фракции трудовиков сочувственно: «Сегодня… Керенский сказал много правды, и все мы думаем о многом, как он», – сообщала в своем письме А. Н. Родзянко, жена председателя Думы; ее адресатом была княгиня З. Н. Юсупова[199].
Керенский был самым известным, самым ярким оратором левых, постоянно нарушающим рамки дозволенного. Для радикальной интеллигенции именно лидер трудовиков являлся «их» человеком в Государственной думе. Он был известен многим жителям Петрограда лично, его портреты печатались в различных изданиях, а подобная узнаваемость в периоды кризисов служит политическим ресурсом. Запреты на публикацию думских выступлений лишь умножали его славу, он воспринимался своими друзьями-интеллигентами как «самый популярный человек» в городе[200].
Многие были уверены, что во время грядущего кризиса именно Керенскому суждено будет стать «в центре событий». Такая оценка проявилась и нашла свое подтверждение в дни Февраля: Керенского посещали различные депутации, которые требовали, чтобы он «взял власть», тот же мотив звучал и во многих письмах, адресованных популярному политику[201]. Неудивительно, что к Керенскому 22 февраля явились и делегаты от забастовщиков Путиловского завода (другая группа направилась к лидеру социал-демократической фракции Н. С. Чхеидзе). Они предупредили «гражданина-депутата», что стачка и локаут на этом огромном заводе могут иметь серьезные политические последствия[202].
На следующий день, выступая в Государственной думе, обсуждавшей продовольственное положение в Петрограде, Керенский огласил заявление путиловцев, подчеркивая умеренность требований забастовщиков. По предложению лидера трудовиков в резолюцию Думы была внесена поправка о том, «что все уволенные рабочие Путиловского завода должны быть приняты обратно и деятельность завода [должна быть] немедленно восстановлена»[203]. Практического значения резолюция, казалось, уже не имела: в этот день в Петрограде началась революция, однако участники забастовок могли воспринимать требования законодательной палаты и выступления оппозиционных депутатов как поддержку своих действий. Стачки охватывали все новые предприятия, забастовщики устремлялись в центр города, толпы громили продовольственные магазины, начались политические демонстрации.
Напоминание о думских речах Керенского было важно для укрепления его революционного авторитета после Февраля. Сторонники министра писали: «… [Керенский] задолго до революции говорил в Думе о возможности только революционным путем спасти Россию от анархии, подготовляемой престолом, он же (это часто или совсем забывается, или неизвестно) подтолкнул русскую революцию на решительный шаг»[204].
Влияние Керенского во время революции было прежде всего следствием его действий в дни Февраля. Они оказались одновременно решительными и эффектными. Уже 25 февраля, на заседании Государственной думы, ставшем для нее последним, Керенский призвал Думу возглавить революцию и создать новое правительство. Вечером он произнес речь и в Городской думе Петрограда: протестуя против расстрелов демонстрантов и требуя создания «ответственного министерства», лидер трудовиков выступал против любых компромиссов с властями. В эти же дни Керенский участвовал и в нескольких совещаниях с представителями нелегальных организаций. Одна такая встреча состоялась вечером 26 февраля в квартире депутата, где по его приглашению собрались активисты различных социалистических групп. Керенский вспоминал, что в дни Февраля при его участии было создано информационное бюро для координации действий социалистических групп – трудовиков, меньшевиков, большевиков, межрайонцев, социалистов-революционеров и народных социалистов. Общих решений собравшиеся принять не смогли – разногласия были слишком велики, – но и обмен информацией и мнениями имел для координации протестного движения известное значение. Керенский призывал противников режима к совместным действиям, указывал на необходимость организованного влияния подпольных групп на уличное движение[205]. Однако и сам он даже в этот день, по-видимому, не думал, что революция уже началась[206].
Наряду с представителями других левых фракций, лидер трудовиков безуспешно убеждал Родзянко провести 27 февраля официальное заседание Думы. Керенский и его союзники желали, чтобы Дума заняла более решительную позицию. Но председателя Думы переубедить не удалось: официальное заседание было назначено на вторник, 28 февраля, хотя на неофициальном заседании совета старейшин (сеньорен-конвента), состоявшемся в кабинете Родзянко, было решено провести закрытое заседание Думы в два часа дня 27 февраля[207].
Продолжая поддерживать связь с революционным подпольем, Керенский получал необходимую информацию из нелегальных кругов, а это, в свою очередь, значительно повышало его статус в глазах коллег по Думе, стремившихся иметь свежие сведения о народном движении (свою информированность Керенский 27 февраля демонстративно подчеркивал и, возможно, преувеличивал).
Роль Керенского в первые дни Февраля находила отражение и в слухах. Так, передавали, что он и Чхеидзе, узнав о волнениях в запасном батальоне гвардейского Волынского полка, направились туда 26 февраля, начали агитировать солдат, и именно это-де привело к восстанию в полку на следующий день[208]. В действительности о мятеже волынцев Керенский узнал лишь утром 27 февраля[209]. Примерно в восемь часов ему на квартиру позвонил депутат Думы Н. В. Некрасов, левый кадет и видный масон, и сообщил, что запасной батальон Волынского полка восстал, а Государственная дума распущена царским указом. Керенский поспешил к Н. Д. Соколову, жившему тоже неподалеку от Думы. После совещания с хозяином дома и адвокатом А. Я. Гальперном – видными масонами и известными в кругах радикальной интеллигенции юристами – он поспешил в Думу[210]. Лидер трудовиков добивался, вместе с другими радикально настроенными депутатами, продолжения официальной сессии Думы вопреки указу императора и одновременно ратовал за установление контактов между Думой и восставшими, заполнявшими улицы столицы[211].
В Таврическом дворце Керенский оказался в центре событий. Он был самым известным депутатом среди левых и самым левым среди известных. Его имя было знакомо всем, интересующимся политикой, а что касается жителей столицы, то со множеством этих людей общительный и энергичный Керенский встречался ранее. Неудивительно, что многие активисты, направлявшиеся в Таврический дворец, желали видеть Керенского и именно от него ждали советов и указаний. К нему со всего города пробивались самоорганизующиеся группы инсургентов, осколки войсковых подразделений и активисты-одиночки. Уже с утра в Думу приходили многие знакомые Керенского, и он получал от них информацию – они доносили до него настроение революционной улицы. Позиция на пограничье между легальной и нелегальной политикой, занимаемая Керенским, оказалась необычайно важна в дни Февраля: подпольщики, нелегалы не были лично известны массам (а некоторые и не спешили действовать открыто, не желая рисковать). Но многое зависело и от самого Керенского, который развил лихорадочную деятельность.
Он обзванивал по телефону своих политических друзей, требуя, чтобы они шли к казармам и посылали восставшие войска к Думе. В этом направлении действовали и другие политики, но Керенский проявлял особую энергию. Каждые десять-пятнадцать минут он по телефону получал свежую информацию о положении в различных частях города. К Керенскому подходили депутаты Думы – от лидера левых они хотели узнать последние новости о массовом движении на улицах. Он же, предвосхищая развитие событий, уверял, что восставшие солдаты уже движутся к Таврическому дворцу. Многих депутатов это пугало, но лидер трудовиков убеждал их, что революция уже началась, Дума должна приветствовать повстанцев, поддержать и возглавить народное движение. Однако время шло, а «обещанных» Керенским войск все не было. Взволнованные депутаты задавали ему вопрос: «Где ваши войска?» Таким образом, он уже воспринимался не только как самый осведомленный член Думы, но и как некий представитель нелегального центра инсургентов, чуть ли не как руководитель повстанцев[212].
Керенский и радикально настроенные депутаты настаивали на скорейшем созыве совета старейшин, заседание которого было намечено ранее на двенадцать часов дня, но Родзянко ответил на это отказом. Тогда группа депутатов самостоятельно открыла частное заседание совета старейшин. Керенский, меньшевик М. И. Скобелев и некоторые другие депутаты требовали, чтобы Дума взяла власть в свои руки, однако не все собравшиеся их поддержали. Родзянко протестовал против не санкционированного им собрания, но затем провел уже официальное совещание лидеров фракций в своем кабинете. Там, выступая от имени трудовиков, социал-демократов и прогрессистов, Керенский вновь призвал не подчиняться царскому указу о роспуске Думы. Это предложение, бросавшее открытый вызов монарху, было отклонено, против него выступал не только Родзянко, но и Милюков: либералы еще не были готовы к такому уровню конфронтации с властями. И все же было решено, что Дума не станет расходиться, депутатов призвали оставаться на местах и, как и планировалось ранее, созвать в Полуциркульном зале «неофициальное», частное совещание наличных членов палаты. Сам выбор места проведения заседания должен был свидетельствовать о том, что Дума формально не нарушает указа императора о ее роспуске – обычно официальные заседания проходили в Большом зале[213].
Одесский биограф министра преувеличил значение его выступления: «После горячей речи Керенского решено было депутатам не расходиться, а оставаться на своих местах»[214]. Публицист В. Водовозов, дружественный Керенскому, даже утверждал, что именно последнему принадлежала «заслуга инициативы заседания Государственной Думы вопреки высочайшему приказу о прекращении ее сессии»[215]. Позднее Керенский и сам писал о том же. В действительности же, как отмечалось, частное совещание было запланировано ранее и не было связано с последовавшим затем царским указом о роспуске Думы[216].
К часу дня к Таврическому дворцу начали наконец подходить группы возбужденных солдат. Одна из них представилась как делегация повстанцев, желавших узнать о позиции Думы[217]. Появление мятежников у дворца влияло на колеблющихся депутатов и укрепляло авторитет Керенского, который требовал решительных действий от думцев.
В два тридцать началось частное совещание членов Думы. В. М. Зензинов вспоминал, что Керенский «чисто технически» сыграл роль в его созыве – самовольно нажав на звонок, созывающий депутатов на совещание. Возможно, это действие носило не только «технический» характер: звонок приглашал депутатов на заседание в Большой зал – Керенский пытался созвать членов Думы на официальное, а не на частное заседание. Во всяком случае, некоторые депутаты именно так расценили его действия. Родзянко приказал отключить звонок, и «частное совещание» собралось, как и было запланировано, в Полуциркульном зале. В два часа пятьдесят семь минут в зале появился Керенский: выразив желание поехать к восставшим и объявить о поддержке народного движения Думой, он просил о предоставлении ему соответствующих полномочий. Предложение лидера трудовиков не вызвало энтузиазма у большинства депутатов, часть которых с подозрением относилась к революционной улице, некоторые либералы полагали, что восстание инициировано прогерманскими силами. Однако под давлением происходящих событий Дума вынуждена была «леветь». Очевидно, разрастание восстания в любом случае вынудило бы думцев радикализироваться, но и решительные действия Керенского не следует сбрасывать со счета. Он подталкивал своих коллег по Думе, побуждал занять радикальную позицию, а иногда ставил их перед свершившимися фактами. Керенский и другие левые депутаты выходили к толпе, выступали, отдавали распоряжения, возвращались, убеждая коллег перейти к активным действиям[218].
Это поведение соответствовало и темпераменту, и взглядам Керенского, романтизировавшего и идеализировавшего революционное движение на улицах. Нельзя также не учитывать, что Керенский был восприимчив к массовым настроениям – возбужденная атмосфера восстания, которую приносили люди, постоянно прибывавшие в Думу, заражала и его.
К Таврическому дворцу подошел крупный отряд восставших войск, произошло столкновение между повстанцами и охраной Думы, начальник караула был ранен[219]. Это событие оказало огромное влияние на депутатов. Керенский устремился на улицу и обратился к восставшим с приветственной речью; тем самым устанавливался прецедент – речи думцев перед приходящими солдатами стали затем своеобразным ритуалом. К повстанцам обратились также социал-демократические депутаты Скобелев и Чхеидзе, но именно лидер фракции трудовиков оказался особенно ярок и резок: «Социал-демократы были очень сдержанны, Керенский говорил в более решительном тоне», – вспоминал журналист А. Поляков. Неудивительно, что порой современники вспоминали о выступлении только лидера трудовиков[220].
И именно об этих действиях Керенского восторженно писали в первые дни революции даже консервативные издания. «Новое время» сообщало:
…В Таврическом дворце ходили потрясенные депутаты. Заседал совет старейшин, не зная, что предпринять. Был прочитан приказ о роспуске. Решили не расходиться, но не было смелости сразу объявить себя правительством. Растерялись даже левые, и только когда кто-то крикнул:
– Толпа, солдаты! – Керенский без пальто и без шапки выбежал на Шпалерную и стал говорить речь.
– Мы с вами. Мы благодарим вас, что пришли, и обещаем идти вместе с народом.
Толпа подняла Керенского и качала[221].
Известный журналист не вполне точно описал события. Но показательно, что именно Керенского он сделал главным героем своего повествования. О речи депутата, обращенной к восставшим солдатам, писали в 1917 году чуть ли не все биографы Керенского[222]. Именно этот эпизод стал центральным для становления его репутации как вождя революции.
Керенский призвал восставших войти в Таврический дворец, сменить старую охрану и защищать Думу. Предводительствуемые им солдаты вошли в караульное помещение, которое, однако, уже оказалось пустым. Керенский отдал распоряжения об установлении караулов, телеграф Думы и входы во дворец были заняты восставшими солдатами. Вторжение вооруженной толпы в здание дворца влияло на настроение депутатов, укрепляя позиции левых и деморализуя консервативно настроенных членов Думы. Создалась новая атмосфера, и Керенский, пожалуй, лучше других мог ею воспользоваться. Это были смелые и рискованные поступки: возглавив бунтующих солдат, он открыто проявил себя как руководитель вооруженного восстания. С точки зрения верноподданных и законопослушных граждан империи, он действовал как мятежник, в глазах же повстанцев – приобретал своими решительными действиями статус руководителя революции; особенно возрос его авторитет у солдат. Неудивительно, что в марте влиятельный публицист именовал Керенского «одним из наиболее видных вождей восставшего войска»[223].
Впоследствии и сам Керенский использовал память об этом эпизоде: «…я ввел первую часть революционных войск в Таврический дворец и поставил почетный караул», – заявил он на заседании солдатской секции Петроградского Совета 26 марта, в то время, когда некоторые его действия стали объектом критики со стороны лидеров Совета[224]. И такая аргументация позволяла Керенскому сохранять свой авторитет среди рядовых депутатов. Ввод войск в здание Государственной думы был важнейшим событием в истории Февраля.
В 1917 году появились разные варианты описания этого эпизода. Они отличались друг от друга, но все авторы выделяли особую роль Керенского, нередко преувеличивая ее. Например, одна из провинциальных газет, ссылаясь на сообщение офицера-земляка, находившегося в столице, так излагала события:
…мимо Таврического дворца случайно проходила рота какого-то полка с офицером. <…> Вдруг на подъезде показывается Керенский и кричит:
– Солдаты, Государственная дума с вами!
Пламенная речь его увлекает роту и ее начальника… Через минуту – Керенский бросает в зал заседаний лозунг, который все так искали в эти мучительные часы:
– Члены Государственной думы, солдаты с нами! Вот они!..
Еще через минуту Керенский отрядил взвод солдат для ареста и доставки в Таврический дворец министра Щегловитова. И еще через минуту – Волынский полк уже знал, что ему делать – куда идти.
С этого и началось…
Факт это или легенда, но эта формула слиянности демократической идеи (Думы) с демократической «материей» (солдаты) не случайно была найдена именно Керенским. А по этой формуле, как известно, разрешена была и вся «задача» революции[225].
Согласно другим слухам, Керенский был готов завоевывать армию для революции. Его одесский биограф писал: «Двадцать пять тысяч вооруженных солдат шли к Таврическому дворцу. Для чего? Для того, чтобы не оставить, по приказу царя, камня на камне от крамольного гнезда, или для того, чтобы принести благую весть освобождения народа и раскрепощения армии?! Не от кого было ждать ответа. Он приближался оттуда, с гулом солдатских шагов и везомых пушек». И в этот напряженный момент, когда, по словам автора брошюры, в души депутатов заползало «леденящее сомнение», навстречу войскам выскочил «худенький человек, бледный как смерть, без шапки». Дело революции было выиграно. «Но не знал же этот маленький саратовский адвокат, чтó его ждет на крыльце – красное знамя или штыки царских солдат. С самопожертвования он начал революцию и этот тяжелый крест несет на себе до сих дней»[226]. В этой фактически совершенно неверной версии событий Керенский предстает как спаситель революции, предотвращающий некую карательную экспедицию.
Эпизод с введением восставших солдат в Думу использовался сторонниками Керенского и для обоснования его права занять пост военного министра в мае 1917 года: «Керенский первый взял в свои руки власть над революционной армией, когда ее полки подходили к Таврическому дворцу», – писала газета сторонников министра[227].
И для многих современников, придерживавшихся левых взглядов, именно этот поступок придавал Керенскому особый статус вождя революции. Обращение моряков балтийского крейсера «Россия», принятое уже после Апрельского кризиса (но до 5 мая 1917 года), гласило:



