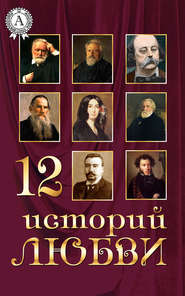скачать книгу бесплатно
Но мгновение это было непродолжительно. Тот же самый женский голос, который прервал пляску цыганки, прервал и ее пение.
– Замолчишь ли ты, чертова стрекоза? – раздался этот голос из того же темного угла площади.
Бедная «стрекоза» оборвала свою песню. Гренгуар, заткнув себе уши, воскликнул:
– О, проклятая сломанная пила! Зачем ты разбиваешь лиру?
Однако и другие слушатели начали роптать.
– К черту старую колотовку! – раздалось с разных сторон, и невидимке-каркунье, быть может, пришлось бы раскаяться в своих выходках против цыганки, если бы внимание толпы в эту самую минуту не было отвлечено в другую сторону процессией шутовского папы, которая, пройдясь по многим улицам и переулкам, с шумом, гамом и с зажженными факелами выходила на Гревскую площадь.
Эта процессия, которая, как читатели наши вероятно помнят, вышла из здания суда, значительно возросла во время своего шествия; к ней пристало все, что было в Париже карманников, мазуриков и бродяг, и она, по числу участвовавших в ней лиц, представлялась довольно импозантной во время прибытия ее на Гревскую площадь.
Впереди всех ехал верхом так называемый «цыганский царь»; по бокам его шли его оруженосцы, державшие уздцы лошади и стремена; сзади его толпа цыган и цыганок, с плачущими ребятишками на спине; и все это – царь, оруженосцы, простой народ – в лохмотьях, убранных мишурой. Далее следовала процессия мазуриков и бродяг, другими словами – представители карманников всей Франции, строго расположенных, однако, по рангу, младшие впереди. Таким образом, продефилировали, по четыре в ряд, с различными значками, обозначавшими их ранг в этой оригинальной корпорации, хромые, колченогие, безрукие, одержимые тиком, криворотые, сухорукие, юродивые и пр., и пр., и пр.; словом, – перечисление их утомило бы самого Гомера. Толпа эта была так густа, что лишь с трудом можно было различить в среде ее набольшего мазуриков, сидевшего в небольшой тележке, везомой двумя собаками. За корпорацией мазуриков следовала корпорация пьяниц. Староста ее важно выступал в красной мантии, закапанной вином, предшествуемый приплясывающими и угощающими друг друга тумаками гаерами и окруженный жезлоносцами, прислужниками и подносчиками. Наконец, шли писцы, в черных мантиях, неся убранные цветами майские деревца и большие свечи из желтого воска, с какою-то ушераздирающей музыкой впереди. Посредине всей этой толпы старшины корпорации шутов несли на плечах своих носилки, вокруг которых была утыкана масса восковых свечей; и на этих носилках восседал, в шутовской рясе и митре с жезлом в руках, новый шутовской папа, звонарь собора Парижской Богоматери, Квазимодо Горбун.
У каждого из отделов этой потешной процессии была своя особая музыка. Цыгане били в свои бубны, мазурики – народ, вообще, мало музыкальный трубили в трубы самой первобытной конструкции и ударяли в лютни XII века. Корпорация пьяных оглашала воздух раздирающими уши звуками какого-то совершенно примитивного гудка. Вокруг носилок папы какофония достигла крайних своих пределов: звуки альтов, гудков, флейт и медных инструментов сливались в какой-то невообразимый, заставлявший мороз пробегать по коже, хаос звуков. Увы! Читатели наши, быть может, вспомнят, что это был оркестр Гренгуара.
Трудно представить себе то гордое и вместе с тем печальное выражение, которое приняло лицо Квазимодо во время перехода из здания суда на Гревскую площадь; в первый раз в жизни ему приходилось наслаждаться чувством удовлетворенного самолюбия. До сих пор ему были известны только чувства унижения, презрения к своему званию, стыда по поводу своего безобразия. И он, несмотря на свою глухоту, наслаждался возгласами этой толпы, которую он ненавидел, ибо сознавал, что и она ненавидит его. Что ему за дело было до того, что минутные его подданные были сбродом калек, нищих, воров, – все же это были подданные его, а он – их властитель. И он принимал в серьез все эти иронические рукоплескания, все эти воздаваемые ему в насмешку почести, к которым, однако, в толпе присоединилась доля очень реального страха: ибо горбун был силен, косолапый был ловок, глухой был сердит – т. е. обладал тремя качествами, которые парализовали впечатление смешного.
Впрочем, мы очень далеки от мысли о том, что новый шутовской папа сам отдавал себе ясный отчет в том, что он чувствовал, и в тех чувствах, которые он внушал другим; весьма естественно, что ум, заключенный в такую несовершенную и уродливую оболочку, также должен был находиться в самом первобытном состоянии. И действительно, то, что он чувствовал в эту минуту, было крайне неопределенно, смутно и сбивчиво, хотя преобладало чувство радости и гордости: это мрачное и несчастное лицо как-то сияло.
Поэтому зрители не без удивления и не без испуга увидели, как вдруг, в то время, когда Квазимодо, в его полу-опьянении, с торжеством проносили мимо дома с колоннами, из толпы выделился какой-то человек, который, подбежав к носилкам, с выражением гнева на лице, вырвал из рук Квазимодо его деревянный, позолоченный посох, атрибут его шутовского папства.
Этот дерзкий человек был тот самый лысый господин, который, за несколько минут перед тем, стоя в группе, окружавшей цыганку, так напугал бедную молодую девушку своими злобными угрозами. Одет он был в духовное платье. В ту минуту, когда он отделился от толпы, Гренгуар, до сих пор не замечавший его, узнал его.
– А! – воскликнул он с выражением удивления: это архидиакон Клод Фролло, мой учитель! Но чего он пристает к этому кривому уроду! Ему еще достанется от толпы!
И действительно, на площади раздался крик ужаса. Страшилище Квазимодо соскочил с носилок, и женщины в ужасе отворачивались, чтобы не видеть, как он растерзает архидиакона; но тот подскочил к духовному лицу, взглянул на него и упал на колена. Патер сорвал с его головы митру, переломил его посох, разорвал его мишурную мантию. Квазимодо все время стоял на коленах, наклонив голову и скрестив руки. Затем между обоими завязался странный диалог жестами: ни тот, ни другой не произносили ни слова; патер стоял с сердитым, угрожающим, властным взглядом; Квазимодо ползал на коленях в униженной и умоляющей позе; а между тем для всех было ясно, что Квазимодо, если бы пожелал, мог бы раздавить патера, как блоху.
Наконец, архидиакон, сильно встряхнувши звонаря за плечо, жестом велел ему встать и следовать за собой. Квазимодо встал. Тогда участвующие в процессии, по миновании первого впечатления удивления, захотели было заступиться за своего папу, так неожиданно свергнутого с престола. Цыгане, мазурики и все остальные ротозеи сгруппировались вокруг патера и начали довольно громко и внушительно роптать. Но Квазимодо стал впереди него, поднял кверху свои внушительные кулаки и стал щелкать зубами, точно голодный тигр.
Лицо патера снова приняло мрачное и сердитое выражение; он сделал Квазимодо жест рукою и молча удалился. Квазимодо шел перед ним, расталкивая толпу.
Когда они пробрались через толпу и перешли через площадь, ватага любопытных и ротозеев хотела было последовать за ними. Тогда Квазимодо стал в арьергарде и задом следовал за архидиаконом, коренастый, угрюмый, безобразный, взъерошенный, съежившийся, облизывая свои клыки, рыча подобно дикому зверю и заставляя толпу отшатываться и отступать одним только жестом или взглядом.
Толпа не решилась задержать их, когда они оба повернули в узкий и темный переулок, и никто даже и не подумал последовать за ними туда, потому что всякому так и мерещилась ужас наводящая рожа Квазимодо, щелкающего зубами.
– Вот так чудеса! – воскликнул Гренгуар. – Но где же я, черт возьми, достану поужинать?
IV. О неудобствах следовать по вечерам по улице за хорошенькой женщиной
Гренгуар наудачу пошел за цыганкой. Она направилась с своей козочкой в улицу Кутеллери, и он свернул в ту же улицу.
– Все равно, куда ни идти! – сказал он сам себе.
Гренгуар, научившийся практической философии на парижских улицах, заметил, что ничто не содействует так мечтательности, как следование за хорошенькой женщиной, идущей неизвестно куда. В этом добровольном отречении от свободы рассуждения, в этой воле, подчиняющейся чужой воле, даже и не подозревающей об этом самоотречении, заключается какая-то смесь независимости и послушания, соединения рабства со свободой, которые чрезвычайно нравились Гренгуару, отличавшемуся каким-то нерешительным, составленным из противоречий характером, способному на всякие крайности, постоянно колебавшемуся между всевозможными направлениями и нейтрализовавшему их одно другим. Он сам любил сравнивать себя с гробницей Магомета, висящей на воздухе между двумя магнитами с противоположными полюсами, между верхом и низом, между сводом и полом, между поднятием наверх и опущением книзу, между зенитом и надиром. Если бы Гренгуар жил в наши дни, он непременно занял бы срединную точку между классицизмом и романтизмом. Но ему не дано было прожить триста лет, и это очень жаль. Отсутствие его в наши дни оставляет по себе весьма ощутительный пробел.
Впрочем, была еще другая, и притом весьма законная причина, заставлявшая Гренгуара следовать наугад за прохожими, и в особенности за прохожими женщинами, а именно то, что он не знал, где ему преклонить голову на ночь.
Итак, он в задумчивости следовал за молодой девушкой, ускорившей шаг и подгонявшей свою козочку при виде горожан, возвращавшихся домой, и закрывавшихся харчевен, – единственных торговых заведений, которые были открыты в этот день.
– Должна же она, – рассуждал он про себя, – где-нибудь да обитать; а цыганки отличаются добрым сердцем. Кто знает?!
И под этими вопросительным и восклицательным знаками, которые он делал в уме своем, крылись довольно заманчивые, в сущности, мысли.
По временам, проходя мимо горожан, закрывавших свои лавки, он ловил тот или иной обрывок разговора их, нарушавшего на минуту его радужные предположения.
– А знаете ли, г. Тибо Ферникль, – обращался один старик к другому: – что сегодня дьявольски холодно!
(Гренгуару это было известно уже с самого начала зимы).
– Да, да, г. Бонифас Дизом! Неужели же у нас будет опять такая зима, как три года тому назад, в 1480 году, когда дрова стоили по три су вязанка!
– Ну, это еще что, г. Тибо, в сравнении с зимой 1470 г., когда морозы не прекращались с Мартынова дня до Сретения Господня! И ведь какие морозы! Доходило до того, что чернила на перьях у парламентских писцов замерзали прежде, чем они успевали написать каких-нибудь три слова, так что едва не пришлось прекратить все письмоводство в суде.
Немного дальше, высунувшись из окон, переговаривались две соседки, пламя свечей которых трещало на сыром и влажном воздухе.
– Рассказывал ли вам ваш супруг о том несчастий, которое случилось, г-жа Ла-Будрак?
– Нет, а что же такое случилось, г-жа Тюркан?
– Конь г. Жилля Годена, судебного нотариуса, испугавшись фламандцев и их процессии, кинулся в сторону и смял под ногами целестинского монаха Филиппа Аврильо. Ей-Богу!
– Что вы говорите! Простая мещанская лошадь! Добро бы еще кавалерийская лошадь, – ну, другое дело!
И окна снова затворились; но, тем не менее, нить рассуждений Гренгуара была порвана. Впрочем, он снова довольно быстро схватил концы ее и опять связал их, благодаря шедшим впереди него цыганке и Джали, – этим двум изящным и прелестным созданиям, маленькими ножками, красивыми формами, грациозными манерами которых он любовался, при чем оба эти существа почти что сливались в одно целое в его воображении, представляясь ему оба то молодыми девушками, по своему уму и, очевидно, существовавшему между ними взаимному пониманию, то похожими на коз вследствие легкости, проворности и ловкости их движений.
Однако, на улицах с каждой минутой становилось все темнее и пустыннее. Уже давно с городских колоколен подан был сигнал к тушению огней, и уже редко можно было заметить прохожего на улицах, огонек в каком-нибудь окне. Гренгуар последовал за молодой цыганкой в тот путанный лабиринт переулков и тупиков, который окружал старинное кладбище Невинных Мучеников и который очень напоминал собою клубок ниток, перепутанный кошкой.
– Вот так расположение улиц, в котором нет ни малейшей логики! – проговорил Гренгуар, затерянный в этих извилинах переулков, приводивших как будто бы все на одно и то же место; но между тем молодая девушка шла, по-видимому, к определенной цели, ни на секунду не задумываясь, а, напротив, все более и более ускоряя шаг. Что касается его, то он совершенно не знал бы, где он находится, если бы при повороте в один переулок он не заметил восьмигранную массу стоявшего перед центральным рынком столба, ажурная вершина которого выделялась на фоне одного освещенного еще окна улицы Верделе.
Несколько минут тому назад молодая девушка обратила, наконец, внимание на следовавшего за нею человека. Она уже не раз оглядывалась на него с некоторым беспокойством; однажды она даже остановилась и, воспользовавшись снопом света, вырвавшимся из полуотворенных дверей какой-то булочной, пристально оглядела его с головы до ног; затем, снова сделав ту гримасу, которую Гренгуар уже заметил на лице ее еще на Гревской площади, она продолжала свой путь.
Гримаса эта заставила задуматься Гренгуара. В ней не трудно было прочесть презрение и насмешку. Он опустил голову и стал следовать за молодой девушкой более издалека; но вдруг, на повороте одной улицы, заставившем его на минуту потерять ее из виду, он услышал пронзительный крик и поспешил ускорить шаг.
Улица была совершенно темна. Однако, кусок пакли, пропитанный деревянным маслом и горевший в чугунной решетке у подножия стоявшей на углу улицы статуи Богоматери, позволил Гренгуару различить молодую цыганку, силившуюся вырваться из рук каких-то двух людей, старавшихся зажать ей рот. Бедная козочка, вся перепуганная, блеяла, наклонив голову к земле.
Стойте, разбойники! – закричал Гренгуар и смело приблизился к группе.
Один из тех, кто держал молодую девушку, повернулся к нему лицом, и он узнал страшное лицо Квазимодо. Гренгуар не обратился в бегство, но остановился, как вкопанный, на месте.
Квазимодо приблизился к нему, одним движением руки отшвырнул его на четыре шага, и затем быстро исчез в темноте, унося с собою молодую девушку, которую он ухватил, точно узелок, под мышку. За ним последовал его товарищ, а бедная козочка, с жалобным блеянием, поскакала за ними.
– Караул! Убийцы! – кричала бедная цыганка.
– Стойте, разбойники, и сейчас же отпустите эту женщину! – раздался вдруг громовой голос какого- то всадника, показавшегося из соседнего переулка. Оказалось, что это был капитан королевской стражи, вооруженный с головы до ног, с палашом в руке.
Он вырвал цыганку из рук изумленного Квазимодо, перекинул ее поперек своего седла, и в то время, когда страшный горбун, оправившись несколько от своего изумления, кинулся на него, чтобы выхватить у него свою добычу, появились 15 или 16 стрельцов, следовавших за своим офицером, с бердышами в руках. То был дозор королевской стражи, отправленный для охранения тишины и порядка в городе, по распоряжению Робера д’Эстутвилля, парижского профоса.
Квазимодо окружили, схватили, связали. Он ревел, пена выступала у него на губах, и если бы не было так темно, то не подлежит сомнению, что одно его лицо, еще более обезображенное злобой, заставило бы обратить в бегство весь патруль. Но ночная темнота лишила его самого сильного его оружия – его безобразия. Спутник же его успел скрыться во время суматохи.
Молодая цыганка, красиво усевшись на седле офицера, положила обе руки на плечи молодого человека и пристально смотрела ему в лицо в течение нескольких секунд, как бы восхищенная и красотой его, и только что оказанной им ей услугой. Затем, первая прервав молчание, она сказала ему, стараясь придать еще более нежное выражение своему и без того нежному голосу:
– Как ваше имя, г. жандарм?
– Феб де-Шатопер… К вашим услугам, красавица моя! – ответил офицер, выпрямившись.
– Благодарю вас! – сказала она.
И между тем, как капитан Феб закручивал кверху свои усы, она соскользнула с лошади, подобно упавшей на землю стреле, и убежала. Все это случилось с быстротой молнии.
– Ах, черт побери! – проговорил капитан, распорядившись о том, чтобы покрепче были скручены веревки, связывавшие Квазимодо: – я предпочел бы удержать плутовку.
Что делать, капитан, – философски заметил один жандармов: – малиновка упорхнула, но за то остался нетопырь!
V. Продолжение неудобств
Гренгуар, ошеломленный падением, остался лежать перед статуей Богоматери на углу улицы. Мало-помалу он пришел в себя. Несколько минут он находился в состоянии какого-то полузабытья, не лишенном приятности, и в котором воздушные образы цыганки и козочки перемешивались с увесистым кулаком Квазимодо. Но это продолжалось недолго. Довольно сильное ощущение холода в тех частях его тела, которые соприкасались с мостовой, заставило его очнуться и возвратиться к печальной действительности.
– Отчего это мне так холодно? – задал он себе вопрос, и тут только заметил, что половина тела его лежала в луже.
– Проклятый кривой горбун! – пробормотал он сквозь зубы, и попробовал было приподняться; но голова его кружилась, а в разных местах тела он ощущал тупую боль, и ему пришлось отказаться от своего намерения. Заметив, что он может свободно владеть одною из своих рук, он зажал ею себе нос и покорился своей участи.
«Однако, парижская грязь, – подумал он, в полной уверенности, что луже, в которой он лежал, суждено было послужить ему на этот раз ночлегом, (а что же и делать на ложе, как не мечтать), – парижская грязь особенно неблаговонна. В ней, должно быть, заключается много летучих азотистых солей. Таково, впрочем, и мнение Николая Фламеля и других алхимиков…»
Слово «алхимик» вдруг заставило его вспомнить об архидиаконе Клоде Фролло. Он вспомнил о только что разыгравшейся на его глазах сцене насилия, о том, что на цыганку напали два каких-то человека, что у Квазимодо был сообщник, и его воображению смутно предстало сердитое и надменное лицо архидиакона.
– «Это, однако, странно!» – подумал он, и принялся возводить, на основании этих данных и на этом фундаменте, фантастическое здание гипотез, этот карточный домик всех философов. Но затем, внезапно возвращаясь к действительности, он воскликнул:
– Однако, черт побери, этак можно будет и замерзнуть!
Действительно, избранная им для ночлега лужа с каждой минутой становилась все более и более неудобным ложем. Каждая капля ее отнимала частицу теплорода из тела Гренгуара, и равновесие между температурой его тела и температурой лужи начинало установляться весьма неприятным для него образом. К этому не замедлило присоединиться еще и другое, весьма чувствительное неудобство.
Ватага ребятишек, этих босоногих маленьких дикарей, испокон века топтавших парижскую мостовую, под вечным именем «гаменов», и которые, когда мы были детьми, бросали в нас каждый вечер, при выходе нашем из школы, каменьями, только за то, что штаны наши не были изорваны, – итак, ватага этих несносных маленьких существ прибежала в тот переулок, в котором лежал Гренгуар, со смехом и визгом, ни мало не заботясь о том, что последние нарушают ночной покой обывателей. Они волокли за собою какой-то безобразный мешок, а топот их деревянных башмаков, кажется, был бы в состоянии разбудить мертвого. Гренгуар, который, к счастью, для него, был не мертв, а только полужив, приподнялся наполовину.
– Эй, Геннекен Дандеш! Эй, Жан Пенсбурд! – кричали они во всю глотку: – старик Евстахий Мубон, торговец старым железом на углу переулка, только что умер. Вот его чучело, мы сейчас сожжем его! Ведь сегодня праздник!
И они кинули чучело как раз на Гренгуара, которого они в темноте не заметили; в то же время один из них выхватил из чучела связку соломы и побежал зажигать ее у лампадки перед статуей Богородицы.
– Час от часу не легче! – пробормотал Гренгуар, – то было холодно, а теперь сейчас, пожалуй, станет и слишком жарко!
Положение его было критическое: – ему угрожало прямо попасть из воды да в полымя. Он сделал сверхчеловеческое усилие, на которое способен только человек, которого собираются сварить живым и который старается выскочить из котла, вскочив на ноги, он отшвырнул чучело на мальчишек и пустился бежать.
– Пресвятая Дева! – воскликнули мальчишки, – старый железняк воскрес! – И они, в свою очередь, пустились бежать в противоположную сторону. Поле сражения осталось за соломенным чучелом. Летописцы Бельфорэ, патер Ле-Жюж и Коррозе уверяют, что на следующее утро оно было подобрано с большим торжеством местным духовенством и отнесено в ризницу ближайшей церкви, и что ризничий церкви, вплоть до 1789 года, сделал себе весьма прибыльную статью дохода, рассказывая богомольцам и богомолкам о чуде, совершенном стоявшей на углу улицы Моконсейль статуей Богородицы, которая, в памятную ночь с 6 на 7 января 1482 года, изгнала дьявола из тела только что скончавшегося Евстахия Мубона, перед смертью спрятавшего свою душу в тех видах, чтоб обмануть дьявола, в связке соломы.
VI. Разбитый кувшин
Пробежав несколько времени без оглядки, сам не зная куда, стукнувшись головой о несколько выступов стены, перепрыгнув через изрядное количество луж, пробежав по нескольким улицам, переулкам и тупикам, проплутав в лабиринте старого рынка, натерпевшись вдоволь страха и ужаса, – наш поэт вдруг остановился, во-первых, потому, что страшно устал, а во-вторых, потому, что его уму внезапно предстала следующая дилемма:
– Мне кажется, сударь Пьер Гренгуар, – сказал он сам себе, приставив палец ко лбу, – что вы бежите, как угорелый. Маленькие шалуны не меньше испугались вас, чем вы их. Мне кажется, говорю я вам, что вы же сами слышали стук их деревянных подошв, когда они побежали к югу, между тем, вы пустились бежать на север. Одно из двух: или они убежали, и в таком случае та связка соломы, которую они, без сомнения, бросили в своем испуге, как раз могла бы послужить для вас тем гостеприимным ложем, которого вы тщетно отыскиваете с самого утра и которое вам столь чудесным образом послала Пресвятая Дева для того, чтобы наградить вас за то, что вы сочинили в честь ее такую прекрасную мистерию; или же мальчишки не убежали, – в таком случае они, без сомнения, подожгли солому, и вы могли бы отлично погреться и посушиться около этого огня. Во всяком случае, в качестве ли костра или в качестве ложа, солома эта являлась даром, ниспосланным вам небом. Быть может, даже Пречистая Дева, статуя которой стоит на углу улицы Моконсейль, только ради этого и заставила умереть Евстахия Мубона. А вы убегаете со всех ног, точно англичанин перед французом, оставляя позади именно то, что вам нужно. Вы просто дурак!
Затем он пошел назад и старался разыскать благодатную связку соломы, – но, увы! тщетно. Он опять попал в такой лабиринт переулков и закоулков, что чуть не ежеминутно останавливался в нерешимости, и, наконец, окончательно запутался и сбился с толку. Наконец, он вышел из терпения и в сердцах воскликнул:
– Проклятые закоулки! Это сам черт их так запутал, наподобие своей виллы!
Это восклицание облегчило его сердце, а красноватый отблеск, который он заметил в это время в конце длинного и узкого переулка, окончательно придал ему бодрости.
– Слава Богу! – сказал он: – наконец-таки нашел: это горит моя связка соломы! И, сравнивая себя с кормчим, который готов потерпеть крушение в темную ночь, он воскликнул с каким-то благоговением;.
Привет тебе, путеводная звезда!
Но к кому относились эти слова – к Богоматери или к связке соломы, – автору совершенно неизвестно.
Но, пройдя лишь немного шагов по переулку, который шел под гору и был не вымощен и грязен, он заметил нечто весьма странное. Оказалось, что переулок не был пустынен: там и сям по нему ползали какие-то неопределенные, бесформенные массы, направляясь, по-видимому, к огню, горевшему в конце переулка, подобно тем неуклюжим жукам, которые по ночам таскают соломинку за соломинкой к разведенному пастухом костру.
Ничто не придает человеку столько смелости, как сознание, что с него взятки гладки. Поэтому Гренгуар продолжал храбро подвигаться вперед и вскоре нагнал заднего из тех загадочных существ, которые ползли по направлению к костру. Приблизившись к нему, он увидел, что это был не кто иной, как жалкий, безногий калека, подпрыгивавший на руках, подобно кузнечику, у которого вырваны задние ноги. В то время, когда он проходил мимо этого паука в человеческом образе, раздался жалобный голос, произнесший по-испански:
– Подайте, Христа ради, господин!
– Черт тебя побери, – проговорил Гренгуар: – и меня вместе с тобой, если я знаю, что ты там бормочешь!
Он нагнал другую из этих ползучих масс и стал разглядывать ее. Это тоже был калека, хромой и в то же время безрукий, и при том до того хромой и безрукий, что сложная система костылей и деревяшек, на которых он держался, придавала ему вид ходячих стропил. Гренгуар, охотник до возвышенных и классических сравнений, мысленно сравнил его с живым треножником Вулкана.
Этот живой треножник снял перед ним шапку, когда он проходил мимо него, и, подставив ее под самый нос Гренгуара, точно блюдце цирюльника, закричал громким голосом, тоже по-испански:
– Господин кавалер, дайте бедному на кусок хлеба!
– По-видимому, – сказал про себя Гренгуар: – и этот что-то такое лопочет; но только черт его знает, на каком языке, и он счастливее меня, если сам понимает его.
Затем мысль его внезапно сделала скачек в другую сторону, и он проговорил, ударив себя рукою по лбу:
– Кстати, чего это они сегодня утром галдели: «Эсмеральда, Эсмеральда!»
Он хотел было прибавить шагу, но в третий раз что-то загородило ему дорогу. Это что-то, или, вернее, этот кто-то, был слепой, небольшого роста, бородатый человек с еврейским типом, который, размахивая вокруг себя палкой, точно веслом, и держа на привязи большую собаку, служившую ему вожаком, прогнусавил по-латыни с мадьярским акцентом:
– Сотворите милостыню!
– Ну, слава Богу, вот хотя один, который говорит на человеческом языке, – сказал Пьер Гренгуар. – Должно быть, у меня очень сострадательное выражение лица, что все они, точно сговорившись, просят у меня милостыню, несмотря на то, что у меня у самого сухотка в кармане. Друг мой, – продолжал он, обращаясь к слепому, – я продал на прошлой неделе последнюю мою сорочку, или, так как вы, по-видимому, понимаете только язык Цицерона: – Vendidi hebdomade nuper transita meam ultimam chemisam.
Произнеся эту фразу, он повернулся спиной к слепому и продолжал свой путь. Но слепой тоже прибавил шагу; и вот и безрукий, и кривобокий, и все остальные калеки окружили его со всех сторон, стуча своими костылями и деревяшками, и точно хором затянули, поспешая за бедным Гренгуаром:
– Подайте милостыню! подайте на кусок хлеба! Особенно тщательно выводил свою ноту слепой, повторяя нараспев!
– Ку-у-со-к хле-е-ба!
– Это настоящее вавилонское столпотворение! – воскликнул Гренгуар, затыкая себе уши и пустившись бежать; но и слепой, и безногий, и безрукий – все тоже пустились бежать.
По мере того, как Гренгуар подвигался вперед, увеличивалось число кишмя-кишевших вокруг него слепых, хромых, безруких, кривых, одержимых язвами; одни из них выходили из домов, другие из соседних переулков, третьи из подвалов, и все это ревело, мычало, блеяло, толкалось, сморкалось, барахталось в грязи, точно слизняки после дождя, стремилось на огонь.