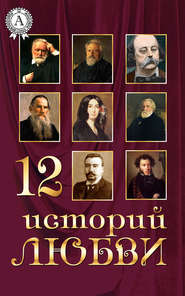скачать книгу бесплатно
– Ну что ж! – утешал сам себя Гренгуар: – здесь все же осталось еще достаточно публики, чтобы дослушать конец моей мистерии. Ее, правда, немного, но зато это образованная, избранная публика.
Но уже в следующую минуту оказалось, что некому было разыграть симфонию, сопровождавшую появление Богородицы и от которой Гренгуар. ждал величайшего эффекта, потому что все музыканты ушли вслед за процессией папы-шута.
– Валяйте дальше! – стоически крикнул он актерам. В это время он заметил какую-то группу горожан, о чем-то рассуждавших. В полной уверенности, что они толкуют о его пьесе, он приблизился к ним и услышал следующий обрывок разговора:
– Вы ведь знаете, господин Шенето, Наваррскую гостиницу, принадлежавшую г. Немуру?
– Да, как же! Это та, что против Бракской часовни?
– Она самая. Ну, так вот казна только что сдала ее в аренду позументщику Гренгуару Александру за шесть парижских ливров и восемь су в год.
– Как квартиры дорожают!
– Ну, эти заняты своими делами… – вздохнул Гренгуар. – Но другие, вероятно, слушают пьесу.
– Братцы! – воскликнул вдруг один из сидевших на окошке школяров! – Эсмеральда! Вот на площади Эсмеральда!
Слова эти произвели магическое действие. Все, что оставалось в зале, бросилось к окнам, стараясь взобраться на них, и повторяя:
– Эсмеральда! Эсмеральда!
В то же время с площади раздались громкие рукоплескания.
– Что это там еще за Эсмеральда! – произнес Гренгуар, с отчаянием всплеснув руками. – Ах ты, Боже мой! То эта эстрада, то часовня, а теперь очередь дошла и до окон!
Он обернулся к мраморному столу и увидел, что представление приостановилось: как раз в этот момент должен был появиться Юпитер с своими перунами, а между тем Юпитер стоял неподвижно внизу и не думал выходить на сцену.
– Мишель Жиборн! – закричал раздраженный поэт. – Что ты там делаешь? А твоя роль? Выходи же!
– Да как же я выйду? – ответил Юпитер, – какой-то школяр только что унес лестницу.
Гренгуар взглянул в том направлении, где прежде стояла лестница, и обомлел; Юпитер был совершенно прав: всякое сообщение со сценой было прервано.
– Экий дурак! – пробормотал он. – Да зачем же он унес лестницу?
– Да чтобы взлезть на окно и взглянуть на Эсмеральду… – жалобным голосом ответил Юпитер. – Он сказал: «Аа! вот лестница, которая ни на что не нужна», – и унес ее.
Многострадальный Гренгуар с покорностью встретил и этот последний удар.
– Ну, черт с вами! – крикнул он комедиантам. – Если мне заплатят, я рассчитаюсь с вами.
И затем он, опустив голову, начал отступление, но последний, подобно генералу, проигравшему сражение, но храбро сражавшемуся до конца.
Спускаясь по извилистым лестницам здания суда, он бормотал сквозь зубы:
Эти парижане – это просто стадо ослов и дураков! Собираются для того, чтобы слушать мистерию, и не хотят ее слушать! Все их занимало – и Клопен Трульефу, и кардинал, и Коппеноль, и Квазимодо, и чуть ли не сам черт, а на Богородицу они и смотреть не хотели. Если бы я это знал, я бы иначе отнесся к вам, ротозеи! А я-то! Пришел в полной уверенности, что увижу перед собою лица, и увидел только спины! Быть поэтом и иметь меньше успеха, чем какой-нибудь аптекарь! Правда и то, что Гомер собирал милостыню по городам Греции и что Овидий умер в изгнании среди скифов. Но черт меня побери, если я хоть капельку понимаю, что это за Эсмеральда, из-за которой они точно взбеленились. И что это за имя? Цыганское, что ли?
Книга вторая
I. Из Харибды в Сциллу
В январе месяце рано темнеет, и на улицах было уже темно, когда Гренгуар вышел из залы суда. Это, впрочем, не было ему неприятно: ему хотелось поскорее добраться до какого-нибудь пустынного переулка, чтобы пораздумать там на досуге и чтобы дать философу возможность наложить первую перевязку на рану поэта. Впрочем, и без того философия была теперь единственным для него прибежищем, ибо ему некуда было больше деться. После блестящего провала первого его театрального произведения, он не решался возвратиться в занимаемую им квартиру, в улице Гренье-сюр-Ло, насупротив Сенной биржи, так как он рассчитывал получить за свое произведение несколько денег, что дало бы ему возможность расплатиться за постой с Гильомом Дусирам, старостой парижского мясного рынка, которому он задолжал постойную плату за шесть месяцев, а именно 12 парижских су, т. е. в 12 раз более того, насколько у него было движимости, состоявшей всего из старого сюртука, сорочки и шапки. Укрывшись на минуту в будку при святой часовне и поразмыслив там немного о том, где ему найти ночлег на эту ночь, так как в его распоряжении была только парижская мостовая, он вспомнил, что приметил на улице Саветри, около двери одного советника парламента, каменную скамейку и что он тогда же сказал себе, что эта скамейка при случае могла бы послужить прекрасным ложем для нищего или для бедного поэта. Он поблагодарил всеблагое Провидение за то, что оно ниспослало ему эту мысль; но, собираясь перейти через площадь перед зданием суда, чтобы попасть в извилистый лабиринт Старого города, в котором извиваются змеями бесчисленные улицы и переулки, он увидел процессию шутовского папы, выходившую из здания суда и пересекавшую ему дорогу, с криками, музыкой и зажженными факелами. Это зрелище снова разбередило рану его оскорбленного самолюбия, и он поспешил удалиться. Его авторская неудача преисполнила душу его такой горечи, что все, напоминавшее минувший день, раздражало его и раскрывало его рану.
Он собирался было перейти через мост Сен-Мишель, но не мог пробраться через него, потому что мост весь был занят толпой ребятишек, забавлявшихся зажженными факелами и шутихами.
– Черт их побери с их иллюминацией! пробормотал Гренгуар и направился к мосту Менял. На ближайших к мосту домах были выставлены три больших хоругви с изображением на них короля, дофина и Маргариты Фландрской, и шесть хоругвей меньших размеров с изображением герцога Австрийского, кардинала Бурбонского, герцога Боже, принцессы Иоанны, дочери Людовика XI, коннетабля Бурбона и еще какого-то лица. Все это было освещено факелами. Толпа стояла и глазела.
– Экий счастливец этот живописец Жан Фурбо! – сказал Гренгуар, тяжело вздохнув и отвернувшись от знамен.
Он очутился у входа в какую-то улицу, которая показалась ему до того темной и пустынной, что он был твердо убежден в том, что там он уже не встретит никаких отзвуков и отблесков празднества. Он пошел по этой улице, но через несколько мгновений запнулся обо что-то и упал. Оказалось, что это было чучело мая, которое судейские писцы утром положили возле дверей одного из председателей суда по случаю этого торжественного дня. Гренгуар героически отнесся к этой новой неприятности: он встал на ноги и подошел к реке. Оставив позади себя помещения гражданского и уголовного отделений суда и пройдя вдоль длинного забора королевских садов по не вымощенной площади, на которой грязь доходила ему до щиколотки, он дошел до западной оконечности острова, на котором выстроен был Старый город, и некоторое время смотрел на островок Коровьего брода, исчезнувший с тех пор под быками Нового моста. Этот островок представлялся ему в потемках темной массой, довольно резко выделявшейся из окружавшей его белесоватой поверхности воды; на нем скорее можно было угадать, чем разглядеть, при свете едва мерцавшего огонька, ульеобразный шалаш, в который забирался на ночь паромщик.
– Счастливый паромщик! – подумал Гренгуар: – ты не мечтаешь о славе и не пишешь свадебных стихов! Какое тебе дело до вступающих в брак дофинов и до принцесс Бургундских! Ты не знаешь иных маргариток, кроме тех, которые цветут весною на зеленом лугу! А я, злосчастный поэт, я дрожу от холода, я ошикан, я задолжал двенадцать су, и подошва моя до того истопталась, что она могла бы послужить стенкой для твоего фонаря. Спасибо, спасибо тебе! Взор мой отдыхает на твоем шалаше и заставляет меня забыть Париж.
Его вывел из его почти лирического настроения взрыв большой шутихи, внезапно раздавшийся из скромного шалаша: оказалось, что паромщик тоже пожелал принять участие в праздновании высокоторжественного дня. Этот взрыв заставил волосы на голове Гренгуара подняться дыбом.
– Проклятый праздник! – воскликнул он, – неужели ты всюду будешь меня преследовать! Боже мой! даже и паромщик!
Затем он взглянул на катившиеся у ног его волны Сены, и им овладело страшное искушение.
– О! – воскликнул он: – как бы охотно я утопился, если бы вода не была так холодна!
Тогда в душе его вдруг явилась отчаянная решимость. Так как он не мог избавиться ни от шутовского папы, ни от флагов Жана Фурбо, ни от майских костров, ни от фейерверочных ракет и петард, – он надумал направиться в самый центр праздника и идти на Гревскую площадь.
«По крайней мере, – думал он, – я, быть может, найду там не вполне догоревший праздничный костер, около которого мне можно будет погреться, и мне удастся поужинать несколькими крохами от тех больших пирогов с королевским гербом, которые должны были быть выставлены для народа на счет городских сумм».
II. Гревская площадь
В настоящее время остаются лишь почти незаметные следы Гревской площади в том виде, в каком она существовала в те времена, – а именно: красивая башенка, занимающая северный угол площади, которая, почти уже обезображенная безобразной мазней, покрывающей ее изящные скульптурные линии, быть может, вскоре совсем исчезнет среди этого прилива новых построек, который с такою быстротой разрушает все старинные фасады Парижа.
Люди, которые, подобно нам, никогда не проходят по Гревской площади, не бросив сочувственного взгляда сожаления на эту бедную башню, сдавленную двумя домами архитектуры эпохи Людовика XV, легко могут создать мысленно общий характер тех зданий, составную часть которых составляла эта башня и общий вид этой старой, готической площади XV-го столетия.
Она имела в ту эпоху, как и теперь, вид неправильной трапеции, стороны которой составляли с одной стороны – набережная, а с трех остальных – ряд высоких, узких и мрачных домов. При дневном свете можно было любоваться разнообразием этих зданий, изобиловавших резными деревянными и каменными украшениями, и уже в ту эпоху представлявших собою полные образчики архитектуры средних веков, начиная с пятнадцатого столетия и кончая одиннадцатым, начиная с квадратных окон, заменивших прежние стрельчатые, и кончая романскими полукруглыми окнами, замененными стрельчатыми, и которые сохранились еще в нижнем этаже старого дома Ла-Тур-Ролан, на углу площади, выходившей на Сену и Сыромятную улицу. Ночью из всей этой массы зданий можно было различить только черную, кружевную линию крыш, окружавших площадь цепью своих остроконечных зубцов; ибо одно из резких отличий тогдашних домов от настоящих заключалось в том, что ныне на улицы и площади выходят передние фасады домов, а в те времена на них выходили задние фасады. Словом, в последние два века дома как будто перевернулись вокруг своей оси.
Посредине восточного фасада площади возвышалось тяжелое и массивное здание, состоявшее из трех ярусов различного характера постройки. Здание это называлось тремя именами, которые объясняют его историю, его назначение и его архитектуру: – «Дворец Дофина», потому что в нем жил, будучи дофином, Карл V; «Торговым домом», потому что он когда-то был рынком, и, наконец, «Домом на Столбах», потому что все три яруса его поддерживались тремя рядами тяжелых каменных столбов. Здесь можно было найти все, что нужно было для такого города, как Париж: часовню, чтобы молиться Богу, судебный зал, чтобы творить суд и расправу и, в случае надобности, отправлять в кутузку добрых парижан, и, наконец, в верхнем этаже, целый артиллерийский арсенал, ибо парижские граждане очень хорошо знали, что бывают такие случаи, когда молитва и суд недостаточны для ограждения прав города, и потому они всегда держали про запас на одном из чердаков Ратуши несколько, хотя и заржавленных, пищалей.
Гревская площадь уже в те времена имела тот мрачный вид, который вполне соответствовал печальной репутации, сохраненной ею до наших дней, несмотря на то, что средневековый «Дом на Столбах» заменен с тех пор зданием Ратуши, построенным Домиником Бокадором. Нужно заметить, что виселица и позорный столб, эти атрибуты тогдашнего правосудия, поставленные рядом посреди площади, немало способствовали тому, чтобы заставлять избегать этой проклятой площади, на которой мучились и испустили дух свой столько существ, полных здоровья и жизни, на которой зародилась пятьдесят лет спустя эта «лихорадка Сен-Валье», эта эпидемия страха перед эшафотом, эта самая ужасная из болезней, потому что она ниспосылается не Богом, а человеком.
Утешительно подумать, заметим мимоходом, что смертная казнь, загромождавшая еще триста лет томуназад своими колесами, своими каменными виселицами, всеми своими орудиями пыток, не убиравшимися с мостовой площади; что Гревская площадь, главный рынок, площадь Дофина, перекресток Трагуара, свиной рынок; что этот ужасный Монфоконский холм, Застава Сержантов, Кошачья площадь, ворота Сен-Дени, Шампо, Бодэ и Сен-Жак, – не считая многочисленных судилищ профосов, епископов, капитулов, аббатов, приоров, пользовавшихся правом юрисдикции, не считая «судебных потоплений» в волнах Сены, – утешительно подумать, говорим мы, что эта старинная юрисдикция феодальных времен, утратив последовательно почти все принадлежности своего вооружения, свое разнообразие пыток, свои изысканные и вычурные способы казни, свои колеса и дыбы, возобновлявшиеся через каждые пять лет в тюрьме Шатлэ, почти изгнанная из наших уголовных кодексов и из наших городов, гонимая и преследуемая, как красный зверь, – что она сохранила в настоящее время только один, всеми презираемый уголок в Париже, сохранила только жалкую гильотину, которая стыдливо и беспокойно прячется от людских взоров, которая как бы опасается, чтобы ее не застали на месте преступления, – до такой степени она постоянно спешит стушеваться по совершении своего дела.
III. За удары поцелуи
Пьер Гренгуар добрался до Гревской площади весь продрогший. Он пошел на Мельничный мост, чтобы избежать толкотни на мосту Менял и Хоругвей Жана Фурбо; но при этом с ним случилась другая беда: его забрызгали колеса приречных мельниц, принадлежавших епископу, и его балахон промок насквозь. К тому же казалось, что неудача его пьесы сделала его еще более чувствительным к холоду. Поэтому он поспешил приблизиться к разведенному посреди площади костру; но ему нельзя было пробраться к нему, так как кругом стояла густая толпа народа.
– Проклятые парижане! – проговорил про себя Гренгуар, ибо, как драматический поэт, он был склонен к монологам: – вот они загораживают мне даже огонь! А между тем мне очень не мешало бы погреться. Я промочил себе ноги еще с утра, а тут еще эти проклятые мельницы окатили меня водой! И на кой черт епископу мельницы! Если только для того, чтобы я послал ему проклятие, то я готов бы был послать ему его и без того. А эти-то ротозеи! И не думают посторониться! И чего они здесь торчат! Греются, что ли? Экое удовольствие! Или они никогда не видели, как горит связка прутьев? Есть на что смотреть!
Всмотревшись поближе, он заметил, что образовавшийся вокруг костра круг был гораздо больше, чем какой нужен был для того, чтобы погреться около казенных дров, и что вся эта толпа была привлечена не одним только желанием поглазеть на горящий костер.
Оказалось, что на свободном пространстве между костром и толпой плясала какая-то молодая девушка. В первую минуту Гренгуар, хотя он был и философ-скептик и поэт-сатирик, не мог сразу решить, была ли эта молодая девушка человеческое существо, или фея, или ангел, – до такой степени поразил его ее ослепительный образ.
Она была невысокого роста, но казалась высокой, благодаря стройности своей талии. Лицо ее было смугло, но не трудно было заметить, что при дневном свете эта смуглость должна была получать тот золотистый оттенок, который свойствен римлянкам или андалузянкам; ее маленькая ножка была обута в изящный башмачок. Она плясала, вертелась, кружилась на старом персидском ковре, небрежно разостланном под ногами ее, и каждый раз, когда во время пляски перед вами мелькало ее сияющее лицо, большие, черные глаза ее пронзали вас, точно стрелами.
Все взоры были устремлены на нее, все рты разинулись. И действительно, в то время, как она плясала при звуке тамбурина, который она держала пухлыми и красивыми руками над изящной, небольшой головкой своей, она казалась неземным созданием, в своем золотистом, плотно облегавшем ее талию, корсаже, в раздувавшейся от пляски пестрой юбке своей, с своими обнаженными плечами, с своими тонкими и красивыми ногами, видневшимися из-под юбки, с своими черными волосами и блестящими глазами.
«Черт возьми – подумал Гренгуар, – да это какая-то саламандра, нимфа, богиня, вакханка с горы Менальской».
В это мгновение одна из кос «саламандры» распустилась, и какое-то вдетое в волосы украшение из желтой меди покатилось по земле.
– Ах нет, – проговорил он, – это просто цыганка! – Всякая иллюзия исчезла.
Она снова принялась плясать. Она подняла с земли две шпаги и поставила их острием на свой лоб, заставляя их вертеться в одну сторону, между тем, как сама она вертелась в другую. И действительно, это была простая цыганка. Но как ни сильно было разочарование Гренгуара, однако, это зрелище не было лишено прелести и очарования. Оно освещалось красным, неровным светом костра, дрожавшим на лицах толпы и на смуглом лбу молодой девушки, а в некотором отдалении падавшим отблеском на старинном, потрескавшемся фасаде «Дома на Столбах» и на безобразной, стоявшей по соседству, виселице.
Среди тысячи лиц, освещаемых красноватым блеском костра, одно казалось более других поглощенным зрелищем пляшущей цыганки. Это лицо принадлежало человеку серьезному, спокойному и даже мрачному. Человеку этому, костюма которого нельзя было разглядеть из-за теснившейся вокруг него толпы, казалось, было не более 35 лет от роду; однако, он был лыс и только на висках его были заметны пряди поседевших уже волос. Его высокий и широкий лоб был уже изборожден морщинами, но впалые глаза его блестели юношеским блеском, жизнью, страстью. Он не сводил их с цыганки, и между тем, как бойкая шестнадцатилетняя девушка плясала и кружилась для удовольствия всех, его мысли, по-видимому, принимали все более и более мрачный оттенок. По временам он сдыхал, и в то же время улыбка появлялась на устах ее, но эта улыбка была еще более печальна, чем вздох.
Наконец, молодая девушка, запыхавшись, остановилась, и народ стал неистово рукоплескать ей.
– Джали! – кликнула цыганка.
И затем Гренгуар увидел хорошенькую, белую, с шелковистою шерстью, с позолоченными ногами и копытами и с красным ошейником на шее козочку, которую он до сих пор не замечал, так как она лежала, свернувшись клубочком, в углу ковра, откуда она смотрела, как плясала ее госпожа.
– Джали, – сказала плясунья, – теперь твоя очередь!
Она села и грациозно протянула к козочке свой тамбурин.
– Джали, – произнесла она, – какой у нас теперь месяц?
Козочка подняла одну из своих передних ног и стукнула ею один раз по тамбурину. И действительно, был первый месяц в году. Толпа зааплодировала.
– Джали, – продолжала молодая девушка, поворачивая свой тамбурин в другую сторону, – какое у нас сегодня число?
Джали подняла свое позолоченное копытце и стукнула им шесть раз по тамбурину.
– Джали, – сказала цыганка, снова повернув тамбурин, – который теперь час?
Козочка стукнула семь раз по тамбурину. В то же мгновение на башенных часах пробило семь часов.
Все разинули рты от удивления.
– Тут не без колдовства, – раздался какой-то голос из толпы. Это был голос лысого человека, не спускавшего глаз с цыганки. – Та вздрогнула и обернулась; но в это время раздался взрыв рукоплесканий, покрывших это угрожающее восклицание. Рукоплескания эти даже до такой степени изгладили его в ее уме, что она снова принялась задавать вопросы своей козочке.
– Джали, как ходит во время процессий Гишар Гран-Реми, капитан городской стражи?
Козочка встала на задние ноги и принялась блеять, выступая с такой забавной важностью, что все присутствующие покатились от смеха при виде этой пародии на капитана-ханжу.
– Джали, – продолжала молодая девушка, ободренная этим постоянно увеличивающимся успехом: – как говорит Жак Шармолю, королевский прокурор, в духовном суде?
Коза уселась на задние ноги и принялась блеять, таким забавным образом помахивая передними ногами, что толпа увидела перед собою живого Жака Шармолю, в его обычной позе, с его жестами и выражением голоса, и только без отвратительных французского и латинского акцентов.
Толпа зааплодировала еще сильнее.
– Кощунство! Святотатство! – снова раздался голос лысого господина.
– Ах, опять этот несносный человек! – произнесла она, еще раз обернувшись в его сторону.
Затем, выпялив немного нижнюю губу, она состроила презабавную гримасу, повернулась на каблуке и стала обходить толпу с своим тамбурином. В него посыпались крупные и мелкие серебряные и медные монеты. В это время она поравнялась с Гренгуаром.
Тот машинально опустил руку в карман, и она, заметив это его движение, остановилась.
Ах, черт возьми! – пробормотал сквозь зубы наш бедный поэт, найдя в кармане то, что он и должен был найти в нем, т. е. безусловную пустоту.
А между тем молодая девушка стояла перед ним, уставив на него свои большие, черные глаза и протянув к нему тамбурин в ожидании подачки. Крупные капли пота выступили на лбу Гренгуара. Если бы в его кармане были все сокровища Перу, то он, ни на секунду не задумываясь, отдал бы их плясунье; но их, к сожалению, там не было, да к тому же и самый Перу еще не был открыт в то время.
К счастью, неожиданное происшествие вывело его из затруднения.
– Уберешься ли ты, египетская саранча! – закричал сердитый голос из самого темного угла площади.
Молодая девушка в испуге обернулась. Это уже не был голос лысого господина, а какой-то сердитый старушечий голос.
Впрочем, крик этот, напугавший цыганку, очень развеселил толкавшихся тут же мальчишек.
– Это затворница из Роландовой башни! – закричали они, громко смеясь, – это она ворчит! Она, должно быть, еще не поужинала! Отнесите-ка ей какие-нибудь остатки из городского буфета!
И вся гурьба кинулась к старому дому.
Между тем, Гренгуар, воспользовавшись замешательством плясуньи, поспешил стушеваться. Крики детей напоминали ему, что и он ничего не ел за весь день, и он тоже направился торопливыми шагами к буфету. Но маленькие шалуны имели более проворные ноги, чем он, и когда он подошел к буфету, он не нашел в нем даже ни одного фунта колбасы по пяти грошей фунт, и мог только полюбоваться нарисованными на стенах еще в 1434 г. Матьё Бишерном лилиями и розанами. Это было, пожалуй, и красиво, но далеко не сытно.
Неприятно ложиться спать, не поужинавши; но еще неприятнее не поужинать и не знать, где провести ночь; а Гренгуар находился именно в таком положении. Ни хлеба, ни крова, кругом безысходная, тяжелая нужда. Он уже давно сделал открытие, что Юпитер создал людей в припадке меланхолии, и что во всю жизнь мудреца судьба его держит в осадном положении его философию. Что касается его, то он никогда не видел такой полной блокады; он чувствовал, как в желудке его ударили бой к сдаче, и он находил очень неуместным, что его философию хотели заставить сдаться посредством голода.
Он все более и более погружался в эти меланхолические мысли, как вдруг до его слуха долетело странное, хотя и мелодичное пение. То пела молодая цыганка.
Голос ее вполне соответствовал ее красоте и ее пляске: он был необычаен и, вместе с тем, очень красив; в нем было что-то чистое, воздушное, звучное, так сказать, окрыленное. Это были бесконечные переливы, мелодии, неожиданные каденцы, затем простые, сказанные как бы говорком, фразы, выражающиеся высокими, даже немного свистящими нотами; они сменялись такими прыжками гамм, которым мог бы позавидовать любой соловей, но всегда гармоничными, затем мягкими, переливающимися октавами, поднимавшимися и опускавшимися так же, как грудь молодой певицы. Красивое лицо ее изменялось с поразительною подвижностью, сообразно оборотам песни, выражая то почти вакхический восторг, то девическую стыдливость; то оно напоминало собою лицо королевы, то лицо безумной.
Она пела на языке, незнакомом Гренгуару, да, по-видимому, незнакомом и ей самой, так как выражение, придаваемое ею своему пению, ни мало не соответствовало смыслу слов. Так, напр., она придавала выражение безумной веселости следующему куплету:
Открыли на дне водоема
Ларь, полный богатств дорогих;
В нем новые были знамена,
Ряд диких страшилищ нагих.
А минуту спустя, выражение, которое она придала другому куплету:
Верхом, на конях, недвижимы,
Арабы видны: – держат меч
В руках, и висят самострелы.
У них перекинуты с плеч —
заставило слезы навернуться на глазах Гренгуара. Но, между тем, пение ее дышало весельем, и она, казалось, пела, как птичка, беззаботно и от полноты сердца.
Пение цыганки нарушило мечтания Гренгуара, но нарушило так, как плавание лебедя нарушает водную гладь. Он слушал его с каким-то восторгом и забывая в эту минуту все на свете. В течение нескольких часов это было единственное мгновение, которое он провел без страданий.