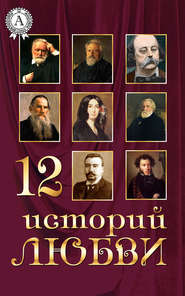скачать книгу бесплатно
Этого полуодобрения было достаточно для Гренгуара. Замешавшись в толпу, он стал кричать, изображая собою голос из публики:
– Начните сызнова мистерию, начните сызнова!
– Ах, черт возьми! – сказал Жан дю-Мулен, – что они там горланят, на том конце? (ибо Гренгуар кричал за четверых.) – Послушайте-ка, ребята, неужели мистерия еще не окончена? А они хотят начать ее сызнова: это не порядок.
– Ненужно, ненужно! – закричали школьники. – Прочь мистерию, прочь!
Но Гренгуар не хотел сдаваться и кричал пуще прежнего:
– Начните сызнова! Начните сызнова!
Эти крики обратили на себя внимание кардинала. —
– Г. судья, – сказал он высокому, черному человеку, одетому в черное и стоявшему в нескольких шагах от него, – что эти шуты гороховые подняли за возню, точно бес перед заутреней?
Судья, которому в этот день выпало исполнять полицейские обязанности, так как представление происходило в подведомственном ему здании суда, приблизился к кардиналу и, опасаясь возбудить его неудовольствие, принялся, заикаясь, объяснять ему причину неудовольствия толпы, доложив ему, что так как в 12 часов его преосвященство еще не изволил пожаловать, то актеры и вынуждены были начать представление, не дождавшись его преосвященства.
Кардинал расхохотался и сказал:
– А жаль, что г. ректор университета не поступил таким же образом! Что вы на это скажете, г. Вильгельм Рим?
– Я полагаю, монсеньор, – ответил Рим: – что мы должны радоваться тому, что избавились от целой половины представления. Ведь это чего-нибудь да стоит!
– Могут ли эти шуты гороховые продолжать свое представление? – спросил судья.
– Пусть, пусть продолжают… – ответил кардинал: – мне все равно, – я тем временем буду читать свой требник.
Судья приблизился к эстраде и закричал, водворив молчание жестом руки:
– Граждане, обыватели и иногородние! Для того, чтобы примирить тех, которые желают, чтобы представление кончилось, и тех, которые желают, чтобы оно началось сызнова, его преосвященство изволил приказать, чтобы оно продолжалось.
И той, и другой стороне пришлось подчиниться желанию кардинала; однако, и публика, и автор остались одинаково недовольны таким его распоряжением.
Действующие лица мистерии принялись читать стихи, и Гренгуар надеялся было, что, по крайней мере, остальная часть его произведения будет выслушана публикой. Но и этой надежде его так же мало суждено было сбыться, как и остальным. Среди слушателей, действительно, водворилась некоторая тишина; но Гренгуар не заметил, что в то время, когда кардинал отдал приказание продолжать, эстрада была еще далеко не вся наполнена публикой, и что после фландрских послов явилось еще много других знатных лиц, имена и звания которых громогласно возвещались привратником среди диалогов актеров и совершенно уничтожали впечатление этих диалогов. Действительно, пусть только читатель представит себе театральную залу, в которой на сцене декламируются стихи, между тем, как привратник, между двумя стихами, или даже между двумя полустишиями, кидает восклицания в роде следующих:
– Господин Жак Шармолю, королевский прокурор при духовном судилище!
– Жак де-Гарлей, начальник ночных караулов города Парижа!
– Г. Галио-де-Женольяк, барон Брюссак, кавалер и фельдцейхмейстер короля.
– Г. Дрё-Рагье, инспектор королевских лесов во Франции, Шампани и Бри!
– Г. Луи де-Гравиль, кавалер, камергер, адмирал, хранитель Венсенского леса!
– Г. Дени Лемерсье, директор убежищ слепых в Париже!
И т. д., и т. д. – Просто становилось невыносимо!
Этот странный аккомпанемент, при котором почти невозможно было следить за ходом пьесы, тем более бесил Гренгуара, что он не мог скрыть от себя, что интерес зрителей к его произведению все более и более увеличивался и что этот интерес еще усилился бы, если б они могли спокойно выслушать его. Действительно, трудно было придумать более остроумные и драматические сочетания. Четыре аллегорических лица, выступивших в прологе, продолжали ныть и жаловаться, когда перед ними предстала Венера, одетая в красивый тюник, на материи которого были вышиты гербы города Парижа. Она явилась для того, чтобы требовать дофина, обещанного самой красивой женщине на свете.
Юпитер, гремя своим громом в гардеробной, тоже явился, чтобы поддерживать ее требование, и богиня уже готова была восторжествовать, т. е., говоря попросту, выйти замуж за г. дофина, когда ребенок, одетый весь в белое и державший в руке, маргаритку (очень прозрачное олицетворение принцессы Фландрской), явился оспаривать дофина у Венеры. Это был кульминационный пункт мистерии. После некоторых пререканий Венера, Маргарита и все четыре аллегорических лица порешили отдать дело на суд Пресвятой Богородицы. Тут же каким-то образом затесался и какой-то дон-Педро, царь Месопотамский; но среди бесконечных перерывов трудно было разобрать, какую, собственно, роль он здесь играл. Словом, все было поставлено на очень высокую ногу.
Но, увы! все эти красоты прошли непонятыми и непрочувствованными. По прибытии кардинала, точно какая- то невидимая волшебная нитка внезапно протянула все взоры от мраморного стола к эстраде, от южного конца зала к западному, и ничто не в состоянии было разрушить волшебства, под влиянием которого находилась аудитория. Все взоры продолжали обращаться к эстраде, и новоприбывшие, и проклятые имена их, и лица, и костюмы их не переставали отвлекать внимание публики. Гренгуар приходил в отчаяние. За исключением Жискетты и Лиенарды, которые по временам оборачивались к сцене, да и то тогда, когда Гренгуар дергал их за рукав, за исключением толстого, терпеливого соседа Гренгуара, никто не слушал, никто не смотрел на злополучное детище его музы. Все обратились к сцене профилем.
С какою горечью смотрел он, как отваливался один камень за другим от сооруженного им с таким трудом пьедестала поэтической славы! И подумать при этом, что эта же самая публика еще так недавно чуть-чуть не взбунтовалась против распорядителей, до такой степени доходило нетерпеливое желание ее поскорее услышать его пьесу! А теперь, когда она могла наслаждаться ею, никто и не думал о ней! А как хорошо, какими единодушными знаками одобрения началось представление! Таков уж вечный закон прилива и отлива народного расположения! И подумать, что эта самая публика чуть не повесила четырех приставов за то, что недостаточно скоро начиналось представление. Как сладок был для Гренгуара этот час торжества, но как он был и краток!
Однако, несносным монологам привратника настал-таки конец, все уже были на местах, и Гренгуар вздохнул свободнее. Актеры снова бойко принялись за свои роли. Но нужно же было случиться так, что вдруг поднимается с своего места чулочник Коппеноль и, к ужасу Гренгуара, обращается к публике, среди всеобщего внимания, с следующей ужасной речью:
– Господа парижские граждане и дворяне! Я, клянусь Богом, не знаю, что мы здесь делаем. Я, правда, вижу там, в углу, на помосте, каких-то людей, которые точно собираются подраться между собою. Не знаю, это ли вы называете «мистерией», но, во всяком случае, это очень скучно. Вот уже четверть часа, что я жду, когда начнется свалка, а они все ни с места. Это какие-то трусы, умеющие только ругаться, а не драться. Следовало бы лучше выписать кулачных бойцов из Лондона или из Роттердама. Вот тогда-то вы увидали бы, как следует драться на кулачках. А эти люди поистине жалости достойны! Добро бы еще они проплясали перед нами мавританский танец или выкинули какое-нибудь другое колено. Нам обещали совсем не то; нам говорили, что будет устроен праздник шутов, с избранием шутовского папы. И у нас, в Генте, избирают шутовского папу, но у нас, ей-Богу, это бывает гораздо забавнее. Вот как это делается у нас: собирается такая же орава, как и здесь. Затем каждый просовывает свою голову в большую дыру и строит другим гримасу. Тот, кто, по общему признанию, состроит самую безобразную гримасу, провозглашается папой. Уверяю вас, что это очень забавно. Не хотите ли, чтобы мы дали вам такое представление, какое в этот день принято давать в нашей стране? Это будет много повеселее, чем слушать этих болтунов. Если они желают тоже просовывать свои физиономии в отверстие и строить гримасы, – милости просим. Как вы находите мое предложение, господа граждане? Здесь найдется достаточно забавных физиономий обоего пола, чтобы нам можно было вдосталь нахохотаться на фламандский манер, да и мы сами надеемся не ударить в грязь лицом и состроить уморительные гримасы.
Гренгуар хотел было отвечал; но удивление, гнев, негодование совершенно лишили его способности говорить. Да к тому же предложение чулочника было встречено с таким восторгом гражданами, польщенными тем, что их называли дворянами, что всякое сопротивление с его стороны было бы бесполезно. Ему ничего более не оставалось, как отдаться течению и закрыть лицо свое обеими руками, так как у него не было плаща, которым он мог бы укутать свою голову, подобно Цезарю под ударами убийц.
V. Квазимодо
Мигом все было готово для приведения в исполнение мысли Коппеноля. Граждане, школяры и писцы живо принялись за дело. Местом для изображения гримас была избрана небольшая будка, стоявшая насупротив большого мраморного стола. В круглом окошечке, проделанном как раз над дверью, оказалось разбитым стекло, и решено было, что все конкуренты будут просовывать свою голову в это круглое отверстие. Для того, чтобы достать до него, достаточно было взлезть на два бочонка, явившиеся неизвестно откуда и кое-как прилаженные один на другой. Решено было, что всякий, – чтобы не портить преждевременно впечатления своей гримасы, закроет себе чем-нибудь лицо, и в таком виде будет стоять в часовеньке, покуда до него не дойдет очередь. Часовня моментально наполнилась конкурентами, после чего за ними была заперта дверь.
Коппеноль, не покидая своего места, всем распоряжался, устраивал, приказывал. Во время этих приготовлений, кардинал, не менее скандализированный тем, что творилось, чем Гренгуар, поспешил удалиться, под предлогом неотложных дел и вечерни, причем вся эта толпа, которую так сильно волновало его прибытие, не обратила ни малейшего внимания на отбытие его; один только Вильгельм Рим заметил бегство кардинала. Внимание толпы, подобно солнцу, совершало свое круговращательное движение: начавшись в одном конце залы, остановившись на мгновение в середине ее, оно дошло теперь до другого ее конца. Очередь мраморного стола и покрытой парчой эстрады миновала: наступила очередь и для часовни Людовика XI. Теперь открылось обширное поле для всяких дурачеств: в зале оставались только фламандцы и парижская чернь.
Началось изображение гримас. Первая рожа, появившаяся в окошечке, с вывороченными веками, с разинутым, в роде пасти, ртом, и с лбом, сморщенным, точно ботфорты, вызвала такой взрыв хохота, что старик Гомер непременно принял бы всех присутствующих за богов; а тем не менее, зал менее всего был похож на Олимп, и бедному Юпитеру Гренгуара это было известно лучше, чем кому-либо другому. Первую рожу сменила вторая, третья, затем еще, и еще, и каждую из них встречали взрывы хохота и топанье ногами. В этом представлении было что-то одуряющее, опьяняющее, привлекательное, о чем трудно составить себе понятие современному, вращающемуся в наших салонах, читателю. Пусть он только вообразит себе целую серию рож, последовательно изображавших собою всевозможные геометрические фигуры, начиная от треугольника и до трапеции, от конуса до многогранника, принимавших всевозможные выражения, начиная от гнева до сластолюбия, представлявших всевозможные возрасты, начиная от морщин только что родившегося ребенка и до морщин умирающей старухи, всевозможные мифологические существа, от Фавна до Вельзевула, всевозможные звериные профили – от клюва до пасти, от свиного рыла до куньей мордочки. Пусть он представит себе уморительные фигурки с Нового моста, – этих уродов, окаменевших было под рукою Жермена Пилона, а затем вдруг ь внезапно оживших и уставляющих на вас свои пылающие глаза, все маски венецианского карнавала, проходящие перед вашей зрительной трубкой, пусть он, словом, представит себе настоящий человеческий калейдоскоп.
Оргия принимала все более и более фламандский характер. Теньер мог бы дать лишь весьма слабое понятие о ней, – пусть читатель представит себе лучше какую-нибудь батальную картину Сальватора Розы в виде вакханалии. В публике уже не было более ни послов, ни школяров, ни горожан, ни мужчин, ни женщин; ни Клопена Трульефу, ни Жиля Лекорню, ни Мари Катрливр, ни Робена Пусспена: все смешалось и слилось вместе в одном общем, необузданном веселье. Большая зала превратилась в какой-то обширный очаг всяческих дурачеств и зубоскальства, причем каждый рот был гоготанием, каждое лицо – гримасой, человек – паяцем. Все это кричало и ревело. Странные рожи, появлявшиеся поочередно в круглом окошечке, были столько же горящих головней, брошенных в склад горючего материала. И над всей этой бурлящей толпой стоял, как пар над плитой, какой- то шипящий и свистящий гул, точно в воздухе жужжали тысячи шмелей.
– Ах, чтоб им пусто было!
– Глянь-ка на эту рожу!
– Ну, эта-то рожа не важна! Гляди-ка, вон, на эту!
– Гильеметт Монрепюи, посмотри-ка на эту бычачью морду! У нее только нет рогов, а то это был бы вылитый муж твой.
– Убирайся ты к черту!
– А это что еще за гримаса?
– Эй, вы, любезные! не плутовать! Высовывать только лицо!
– Экая шустрая эта Пьеретта Кальбот! Ведь только от нее этого станется!
– Ой, батюшки, задавили!
– А вон этот не может пролезть с ушами своими! – И т. д., и т. д., и т. д.
Нужно, однако, отдать справедливость нашему приятелю Жану: среди этого шабаша он не покидал своего столба, продолжая восседать на нем, точно юнга на салинге, и возился там, как бесноватый. Рот его был разинут во всю ширь, и из него раздавался какой-то крик, которого, однако, не было слышно, не потому, что он был заглушаем общим гамом, как бы громок ни был последний, но потому, вероятно, что он достиг крайнего предела различаемой высоты звуков, двенадцати тысяч вибраций Совера или восьми тысяч Био.
Что касается Гренгуара, то овладевший им припадок слабости миновал, и он снова попробовал было бодриться и бороться против препятствий.
– Продолжайте! – сказал он в третий раз своим говорящим машинам-актерам. Затем, шагая перед мраморным столом, он вдруг почувствовал желание подойти самому к окошечку часовни и состроить гримасу этой неблагодарной толпе. – Но нет, нет, это было бы недостойно меня! Не нужно мщения! Будем бороться до конца! – говорил он сам себе. – Поэзия производит обаятельное действие на толпу. Я заставлю их образумиться. Посмотрим, что окажется сильнее – гримасы или поэзия.
Но, увы! Он остался единственным зрителем пьесы. Он не видел перед собою ничего, кроме людских спин!
Впрочем, нет, я ошибаюсь: терпеливый толстяк, мнения которого он уже спрашивал в критический момент, спокойно продолжал ждать возобновления представления; но за то легкомысленные Жискетта и Лиенарда давно уже показали тыл.
Гренгуар был тронут до глубины души верностью своего единственного зрителя. Он подошел к нему и, слегка потрясая его за руку, – ибо ценитель его произведения, прислонившись к балюстраде, слегка задремал, – обратился к нему со словами:
– Благодарю вас, милостивый государь.
– За что это, сударь? – спросил толстяк, зевнув.
– Я понимаю, что вы досадуете на весь этот шум, мешающий вам хорошенько слушать пьесу, – сказал наш поэт. – Но будьте покойны: ваше имя перейдет к потомству. Позвольте узнать ваше имя?
– Рено Шато, секретарь суда, к вашим услугам.
– Вы, милостивый государь, являетесь здесь единственным представителем муз! – сказал Гренгуар.
– Вы слишком любезны, сударь! – ответил секретарь суда.
– Вы одни, – продолжал Гренгуар: – внимательно слушали пьесу. Как вы ее находите?
– Да как вам сказать, недурна… – ответил толстяк как бы спросонья.
Гренгуару пришлось удовольствоваться этой похвалой, ибо разговор их был прерван взрывом рукоплесканий и оглушительными кликами: только что был выбран папа шутов.
– Браво! браво! браво! – ревел народ.
Действительно, в эту минуту из окошечка выглядывала поразительная рожа. После всех пятиугольных, шестиугольных и иных геометрических комбинаций физиономий, высовывавшихся в окошечко, из которых, однако, ни одна не удовлетворяла идеалу смешного, созданного воображением расходившейся толпы, только такая, действительно, необыкновенная рожа, как та, которая теперь появилась в окошечке, могла поразить толпу и получить пальму первенства. Даже менгир Коппеноль принялся аплодировать; даже Клопен Трульефу, который сам участвовал в конкурсе и которому удалось состроить достаточно безобразную рожу, должен был признать себя побежденным. И мы последуем его примеру. Мы не будем стараться описать читателю тот четырехгранный нос, тот подковообразный рот, тот крохотный левый глаз, почти совсем закрытый густою рыжею бровью, между тем, как правый глаз совершенно исчезал под громадной бородавкой, те поломанные, кривые зубы, напоминавшие собою зубцы крепостной стены, те потрескавшиеся губы, на которые выступала пара зубов, точно кабаньи клыки, тот раздвоенный подбородок, и в особенности разлитую по всей этой поражающей физиономии смесь злобы, удивления и печали. Пусть читатель, если может, попытается создать все это в своем воображении.
Все присутствующие завопили, как один человек; все ринулись к часовне и с торжеством вынесли из нее на руках счастливого папу шутов. Но тут-то удивление толпы достигло крайних пределов; оказалось, что гримаса эта была обыкновенным выражением его лица; или, вернее, вся его фигура была не что иное, как гримаса. Над двумя большими горбами, спереди и сзади, сидела огромная голова, покрытая всклокоченными рыжими волосами; ноги у него были так странно устроены, что соприкасались только коленями, а если на них смотреть спереди, то они представляли собою подобие двух выгнутых наружу серпов, сходящихся у рукояток; широкие ступни, чудовищные руки, и рядом с этим безобразием – что-то мощное, сильное и ловкое во всей фигуре, какое-то странное исключение из общего правила, по которому как сила, так и красота, немыслимы без гармонии. Точно разбитый и неудачно спаянный великан!
Когда это подобие циклопа появилось на пороге часовни, неподвижное, приземистое, почти одинаковых размеров в вышину и в ширину, тумбообразное, в каком-то наполовину красном, наполовину фиолетовом кафтане, усеянном серебряными колокольчиками, в своем неподражаемом безобразии, – толпа тотчас же узнала его и закричала в один голос:
– Это звонарь Квазимодо! Это горбун Квазимодо! Это кривой, косолапый Квазимодо! Браво! браво!
Как оказывается, у этого молодца был немалый выбор прозвищ.
– Берегитесь, беременные женщины! – кричали школяры.
– Нет, берегитесь, чтобы не забеременеть! – воскликнул Жан.
Действительно, женщины поспешили закрыть себе лица руками и платками.
– Фу, какая гадкая обезьяна! – воскликнула одна из них.
– Он так же зол, как и безобразен! – вставила свое слово другая.
– Это олицетворенный черт! – прибавила третья.
– Я живу как раз около собора, и каждую ночь слышу, как он бродит по кровле.
– Вместе с кошками!
– Он бродит и по нашим крышам и бросает нам порчу через дымовые трубы!
– Намедни вечером он подошел к моему слуховому окну и состроил гримасу. Я страшно перепугалась.
– Я уверена, что он ездит на шабаш ведьм. Раз как-то он забыл свою метлу на моей крыше.
– У-у! горбатый урод! – У-у! гадина! – Бррр…
Мужчины, напротив, были в восхищении и рукоплескали.
Квазимодо, виновник всего этого гвалта, все стоял в дверях часовни, серьезный и мрачный, позволяя толпе любоваться собою.
Кто-то из школяров, кажется Робен Пусспен, подошел к нему совсем близко и фыркнул ему в самое лицо. Квазимодо только схватил его за пояс и отшвырнул его на десять шагов в толпу, не произнеся ни единого слова.
Пораженный видом его, Коппеноль подошел к нему и сказал:
– Клянусь Богом, я в жизни моей не видел подобного уродства! Ты заслуживал бы быть папою не только в Париже, но и в Риме, – и с этими словами он положил ему руку на плечо. Квазимодо не пошевельнулся.
– Ты нравишься мне, – продолжал Коппеноль, – и меня подмывает кутнуть с тобою, хотя бы мне это и обошлось в 12 турских ливров. Что ты на это скажешь, приятель?
Квазимодо продолжал молчать.
– Да что ты, глух, что ли, черт побери! – воскликнул чулочник.
Квазимодо, действительно, был глух. Однако, приставание Коппеноля начинало надоедать ему, и он вдруг повернулся к нему с таким страшным зубовным скрежетом, что фламандский великан отскочил подобно тому, как бульдог отскакивает от рассерженной кошки. После того вокруг этой странной личности образовался круг, по крайней мере, пятнадцати шагов в радиусе, который стал смотреть на него с ужасом и почтением. Какая-то женщина объяснила Коппенолю, что Квазимодо глух.
– Глух! – загоготал фламандский чулочник. – Тем лучше! Значит, настоящий папа!
– Аа! Я узнаю его! – воскликнул Жан, слезший, наконец со своей капители, чтобы поближе рассмотреть Квазимодо. – Это звонарь моего брата, архидиакона. Здравствуй, Квазимодо.
– Экий черт! – сказал Робен Пусспен, почесывая ушибленные при падении места. – Горбатый, косолапый, кривой, глухой! Что же, уж и не немой ли он, этот Полифем?
– Нет, он говорит, когда захочет… – ответила старуха. – Он оглох только от того, что всю свою жизнь звонил в большие колокола, но он не нем.
– Этого только недоставало ему! – заметил Жан.
– И, кроме того, у него один лишний глаз… – прибавил Робен Пусспен.
– Нет, нисколько! – серьезно заметил Жан. – Кривой – больший калека, чем слепой, потому что он, по крайней мере, может сам видеть, чего ему недостает.
Тем временем нищие, лакеи, карманники, вместе с школярами, отправились процессией к шкафу писцов, чтобы вынуть оттуда картонную тиару и шутовскую мантию папы шута. Квазимодо позволил облечь себя в них, не моргнув бровью, с какою-то горделивой покорностью. Затем его усадили на расписанные носилки, двенадцать членов братства шутов подняли его на свои плечи. Нечто вроде горькой и презрительной улыбки появилось на безобразном лице циклопа, когда он увидел под своими безобразными ногами массу голов, принадлежавших людям красивым, стройным, хорошо сложенным. Затем процессия, шумя и галдя, покрытая лохмотьями, двинулась с тем, чтобы, согласно обычаю, обойти сначала по внутренним коридорам здания суда, прежде чем пройтись по улицам и переулкам Парижа.
VI. Эсмеральда
Мы с особым удовольствием можем сообщить читателям нашим, что во время всей этой сцены Гренгуар и его пьеса не переставали удерживать за собою поле сражения. Актеры, пришпориваемые автором, продолжали декламировать свои роли, а он продолжал слушать их. Он благоразумно решился примириться с гамом и идти до конца, не теряя надежды на то, что какая-нибудь счастливая случайность, нет-нет, да и заставит публику вновь обратить внимание на его пьесу. Этот луч надежды заблестел еще ярче, когда он увидел, что Квазимодо, Коппеноль и шумный кортеж шутовского папы с криком и гамом покинули зал. Толпа хлынула за ними. – «Ну, и отлично», – сказал он про себя. – «Вот уходят все те, которые производили шум и мешали смотреть пьесу». – Но, увы! оказалось, что шум производила вся публика: в несколько минут весь зал опустел.
То есть, по правде сказать, осталось еще несколько зрителей, одни бродившие в одиночку по зале, другие сгруппировавшиеся вокруг колонн, но эти были почти исключительно, старики, старухи и дети, которым надоели шум и гам; да еще несколько школяров остались сидеть на подоконниках и оттуда глядели на площадь.