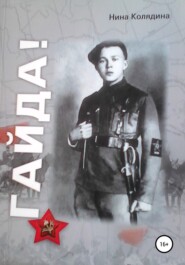 Полная версия
Полная версияГайда!
В голове Аркадия мелькнула мысль, что подобное он слышал и дома. Во время его побывки в Арзамасе и друзья Голиковых – учителя Бабайкины, и бывший преподаватель реального училища Николай Николаевич Соколов, который при новой власти возглавил уездный комиссариат просвещения, сетовали на то, что система образования в городе приходит в упадок из-за плохого финансирования.
Иван Павлович Бабайкин в сердцах даже такое выдал, что жена его, Татьяна Ивановна, побледнела и, дернув мужа за рукав, попросила того попридержать язык.
– Так откуда деньгам-то взяться? Раньше учебным заведениям благотворители помогали, главным образом, купцы арзамасские. А теперь где они, благотворители-то эти? Кого обчистили до нитки, кого посадили, а кого и вовсе расстреляли! – негодовал старый учитель.
– Да разве дело в купцах и их подачках! – возмутился в ответ Аркадий. – Неужели непонятно, что у Советской власти на данном этапе есть более важные задачи – уничтожить всех ее врагов. А для этого нужна сильная, боевая армия. Вот куда в первую очередь сейчас деньги уходят! Победим врага, тогда и образованием займемся.
Аркадий решил донести эту мысль и до Марии. Он остановился, повернулся к девушке лицом и, глядя ей прямо в глаза, уверенно произнес:
– Все будет хорошо. И школы откроются, и учителя в них вернутся, и ребята за парты сядут. Да еще учиться начнут бесплатно. Вот увидите! Дайте только время!
– И когда же придет тот счастливый день, когда все это случится? Сколько еще ждать? – спросила Мария.
В ее голосе Аркадий уловил то ли легкое сомнение, то ли какое-то недоверие, а может, даже некоторую иронию, но, проигнорировав этот факт, ответил твердо, с еще большей уверенностью:
– Ждать осталось немного. Советская власть прочно укрепилась почти везде. Конечно, местами пока орудуют разные шайки, но в ближайшее время и их уничтожат. Красная армия свое дело знает! Вон как быстро в Кронштадте с мятежниками расправилась. Скоро и здесь, у вас, и в соседних губерниях ни одного бандита не останется. Всех ликвидируют! Слово красного командира. Вы мне верите?
На этот раз Мария молча кивнула. Глаза ее при этом почему-то сделались грустными.
– А вы тоже этим занимаетесь? – спросила она.
– Чем?
Аркадий не сразу сообразил, что именно имела в виду девушка. В его голове крутились мысли о произошедших с ней переменах.
– Ну, этой… Ликвидацией.
– Да как вам сказать… – немного растерявшись, начал он. – Я только недавно приступил к этому делу – когда после командирских курсов был назначен комполка.
– Так вы недавно в армии, а до этого учились? – почему-то обрадовалась Мария.
– Да нет! Я только последние полгода учился – на курсах в Москве. А в армии уже третий год. Можно сказать, всю Гражданскую прошел, – отчитался Аркадий.
Про Киевские курсы он упоминать не стал – тогда больше воевали, чем учебой занимались.
– Третий год?! Как же такое может быть? – удивленно воскликнула Мария. – Вы ведь еще очень молодой! На вид вам и двадцати нет. Или я ошибаюсь?
– Не ошибаетесь. В январе мне семнадцать исполнилось.
– Значит, в армию вы пошли, когда вам было…
– Пятнадцать, – подсказал Аркадий. – Но ведь я не один такой. В Красную армию тогда многие мальчишки вступали – во всяком случае, у нас в Арзамасе.
– А вы из Арзамаса? – спросила Мария. – У вас там дом, семья?
– Да. И дом у меня там, и семья. Только больше года я дома не был и никого из родных не видел, хотя письма от них иногда получаю. А с отцом уже два с половиной года никакой связи нет – ни одной весточки от него не получил, хотя сам пишу ему при каждой возможности. Может, он мне и отвечает, только письма его меня не находят.
– А он что – разве не в Арзамасе?
– Нет. Он далеко – в Сибири.
– В Сибири… – каким-то упавшим голосом повторила Мария.
– Ну да. Борется со всякой сволочью, которая то и дело там заводится. Он, как и я, в Красной армии служит.
– А ваша мама? Она ждет его в Арзамасе?
– Нет, мама тоже сейчас далеко от дома – она в Туркестане.
– Господи! – воскликнула Мария. – Как ее туда занесло? И что она там делает?
– Выполняет поручение партии, – не стал вдаваться в подробности Аркадий.
Не будешь же рассказывать едва знакомому человеку, что мать, оставив двух его младших сестер на попечение родственницы и старшей дочери, которой едва исполнилось пятнадцать, вместе со своим новым мужем отправилась укреплять Советскую власть в далеком Пржевальске…
Он замолчал и почему-то отвернулся от девушки, которая, заметив, что взгляд его ясных, светло-голубых глаз вдруг потускнел, больше не стала задавать никаких вопросов.
– А вы, значит, местная? Воронежка. Или… – как правильно? – воронежчанка? – после небольшой паузы осведомился Аркадий.
– Ага! Еще скажите: воронжанка! – развеселилась Мария. – Давайте уж все варианты перебирать!
– Нет, серьезно – как правильно? Мужчин, я знаю, воронежцами называют. А женщин как? Жительниц Воронежа.
Аркадий, тоже повеселев, выжидающе смотрел на девушку.
– Так и называют: жительница Воронежа, – ответила она. – А вообще, что касается меня, то я не совсем местная. В городе поселилась, когда в гимназию поступила. А раньше жила в слободе, до которой отсюда больше ста верст. Лосево называется. Кстати, наша слобода хорошо известна. Потому что там…
– Лосей много? – пошутил Аркадий.
– Каких лосей! – засмеялась Мария. – Нет, конечно. Вообще-то лоси у нас тоже водятся, но я их даже ни разу не видела, хотя, говорят, в лесу попадаются. А слобода наша до недавнего времени совсем другим славилась – Лосевским конезаводом.
– Что за конезавод такой?
– О! Замечательный конезавод! Один из старейших в стране – еще по указу Петра Первого был основан, больше двух веков назад. Там лошадей-тяжеловозов разводили, в основном для конницы – крупных, сильных, выносливых, чтобы во время войн тяжелые пушки таскали. Их и на германскую отправляли. Лошадей этих битюгами называют. Никогда о таких не слышали?
– О битюгах слышал, но откуда это название пошло, честно говоря, не знаю, – признался Аркадий.
– Так когда-то наша слобода называлась Битюцкой – до тех пор, пока в ней этот самый конезавод не построили. Тогда ее и переименовали в Лосево – по имени Петра Лосева, который был там первым управляющим. Это мне отец рассказывал. Он раньше на конезаводе ветеринаром работал.
Аркадий хотел спросить девушку, чем занимается ее отец теперь, но вопрос задать не успел.
– А что это мы на одном месте топчемся? – опередила его Мария и предложила:
– Давайте прогуляемся по городу. Сегодня чудесная погода…
Весь вечер они бродили по Воронежу и не переставая разговаривали. Впрочем, говорила в основном Мария.
Больше всего про слободу свою рассказывала – как ей там нравилось жить. Оказывается, слобода эта до революции не только лошадьми-тяжеловозами славилась, но и ярмарками, известными во всей округе, и кустарными промыслами, и пшеницей отменной, и арбузами, дынями да тыквами, что на бахчевых полях вызревали. А народу там и сейчас проживает немало – чуть ли не десять тысяч человек. Не в каждом городе столько насчитаешь. И храмы имеются – целых три, и дома каменные, и школы – земская и церковно-приходская.
– Я с малых лет учительницей мечтала стать, – разоткровенничалась Мария. – Поэтому, когда Лосевскую земскую школу окончила, переехала в Воронеж и поступила в Мариинскую гимназию. Там была педагогическая специализация. После учебы получила бы звание домашнего педагога. А теперь вот…
Сделав довольно большой круг по центральным улицам города, они свернули в какой-то переулок и остановились возле двухэтажного каменного дома, мало чем отличающегося от соседних зданий. Впрочем, если и имелись какие-либо отличия, заметить их было трудно – на город опустились глубокие сумерки. Внимание Аркадия привлекли лишь два окна на первом этаже дома. Они выделялись обилием стоящих на подоконниках комнатных растений, из-за которых на улицу с трудом пробивался тусклый желтоватый свет.
– А вот здесь я живу, – сказала Мария. – Вон мои окна.
Кивком головы она показала на цветочные горшки за оконными рамами.
– Вас, наверное, ждут? – спросил Аркадий. – Родители, небось, думают: «Где это дочка пропадает?»
– Да я не с родителями живу – с сестрой. Вернее, с семьей сестры – у нее муж, дети. Как в Воронеж перебралась, так у них и поселилась. Квартирка, конечно, маленькая, им самим тесно, а тут я еще… Поэтому и стараюсь дома как можно меньше находиться, брожу по городу, – вздохнула девушка. – А вообще, вы правы – сестра наверняка уже беспокоиться начала. Пойду я… Очень приятно было познакомиться.
– Подожди, Мария, не уходи так, – перейдя вдруг на «ты», остановил девушку Аркадий.
Он взял ее руки в свои и, крепко сжав маленькие ладошки, торопливо, немного сбивчиво, но твердым голосом продолжил:
– Я тебе уже говорил, что полком командую. Как человек военный, не всегда могу поступать так, как мне хочется. Вот ты мечтала учительницей стать, а я так же сильно о военной академии мечтаю. Но война еще не закончена, и с нами, краскомами, не церемонятся – в любой момент могут направить на один из внутренних фронтов.
Вот и сейчас так выходит. На днях меня направляют в соседнюю губернию, на Тамбовщину. Там еще разные банды и шайки орудуют. Их надо как-то обезвредить. Я думаю, на это много времени не потребуется, тем более после съезда. А там, кто его знает… Но я что хочу сказать: Мария, Машенька, когда все кончится, я обязательно вернусь в Воронеж. За тобой вернусь! В Москву тебя увезу. Осенью собираюсь в академию поступать. Будем вместе в столице жить. Поедешь со мной?
Мария в растерянности молчала. В темноте Аркадий не видел, что глаза ее наполнились слезами. Он еще крепче сжал руки девушки и сказал:
– Понимаю – это все неожиданно для тебя. Да и для меня тоже. До вчерашнего дня – пока тебя не увидел – я и предположить не мог, что кому-нибудь такое скажу. Но ты мне очень, очень понравилась. Маша, ты согласна со мной уехать?
– Маруся… – еле слышно промолвила девушка.
– Что? – переспросил Аркадий.
– Родные зовут меня Марусей. И ты меня так зови.
– Хорошо, – согласился Аркадий. – Так ты будешь моей женой, Маруся?
– Да, – прошептала девушка и, уткнувшись лицом в новенькую, еще не пропахшую порохом шинель семнадцатилетнего краскома, тихо всхлипнула.
Выйдя на проспект Революции, Аркадий обнаружил, что от переулка, где живет Маруся, до главного городского вокзала рукой подать. Не прошло и десяти минут, как он уже пил чай в буфетной зала ожидания…
Мария в одиночестве сидела на кухне за покрытым клеенкой разделочным столом. Она знала, что стоит пошарить по столешнице ладонью, и наткнешься на оставленную для нее тарелку с едой, которую в кромешной тьме и не разглядишь. Света не было – отключили перед самым ее приходом. В последнее время перебои с электричеством стали явлением обычным. Приходилось как-то приспосабливаться, но последняя свечка догорела еще три дня назад, а единственная в доме керосиновая лампа освещала гостиную. Сестра Ольга с мужем и детьми, поужинав, занимались там своими делами.
Поставив локти на стол, девушка оперлась подбородком на сложенные замком руки. Темнота ей не мешала – поест она попозже, а подумать о том, что произошло нынешним вечером, можно и без света. Так даже лучше думается.
«Господи! Неужели все это было на самом деле? Будто сон какой-то… – никак не могла поверить в случившееся Мария. – Ну, как такое может быть – сегодня мы с ним познакомились, сегодня же он сделал мне предложение, и я почему-то сразу ответила согласием. Хотя, понятно почему…»
Безусловно, новый знакомый произвел на нее приятное впечатление: неглупый, начитанный, ответственный, уверенный в себе. Да что там говорить – кого попало в семнадцать лет командиром полка не назначат.
«И на вид он очень даже ничего – высокий такой, стройный, – размышляла Мария. – Глаза у него добрые, внимательные. Таким глазам можно верить… А руки какие – крепкие, сильные!»
Вспомнив, как Аркадий сжимал ее ладони в своих, девушка почувствовала, что искорка, вспыхнувшая в тот момент в ее душе, начала разгораться ярким пламенем. А вместе с этим пламенем затеплилась надежда и на то, что она сможет, наконец, освободиться от опеки сестры и устроить свою собственную жизнь.
Нет, конечно, Оля и все ее семейство относились к ней хорошо. Пока Маруся училась, у нее и мысли не было о том, что она кого-то стесняет. Даже когда с продуктами стало совсем плохо, ее никто никогда не попрекнул куском хлеба. Но с тех пор, как она перестала учиться, а найти подходящую работу, как ни старалась, не могла, девушка чувствовала себя обузой в Ольгиной семье. Она решила, что судьба не случайно свела ее с Аркадием.
«Господи! – снова обратилась к богу Мария. – А что сказал бы папа, если бы узнал, за кого я собралась замуж!»
Мысли об отце словно ушат холодной воды охладили ее пыл. Известному на всю округу ветеринару, уважаемому в Лосеве человеку Николаю Плаксину даже в страшном сне не могло присниться, что его младшая доченька может связать свою судьбу с красным командиром. Армию, созданную партией большевиков, он считал самым отвратительным ее детищем и ненавидел так же сильно, как и саму партию – виновницу, по его мнению, всех бед русского народа, разрушительницу страны.
Когда в Лосевской волости начались выступления недовольных большевистской властью крестьян и ремесленников, Маруся уже жила в Воронеже. Она была еще подростком, политикой не интересовалась и не особенно вникала в разговоры, которые велись в доме ее сестры. Правда, беспокоилась за отца, когда до нее долетали отдельные фразы о стычках, то и дело возникающих между лосевцами и представителями Советов, об отпорах, которые местные жители давали продотрядам, прибывшим отбирать у них хлеб. Особенно, если слышала о пролитой во время таких столкновений крови – а вдруг и ее папочку убьют?
Однажды, вернувшись из школы, Маруся застала сестру в слезах.
– Папу забрали, – не дожидаясь никаких вопросов сказала Оля.
– Как забрали? Куда? Кто? – похолодела Маруся.
– Ну, кто-кто… А то ты не знаешь, кто над народом измывается! Большая уже – понимать должна. Красные, кто же еще. Нагрянули в волость, как туча саранчи. Кого саблями рубили, кого пулеметами косили. Господи! Людей – как траву!
Ольга перекрестилась и заплакала.
– А папа? С папой что? Он жив? – одними губами пролепетала Маруся, но Оля ее услышала.
– Говорю же тебе – арестовали его. Его и еще несколько человек, которые этой чертовой власти подчиняться не хотели.
– А где он сейчас? Что с ним будет? Его не убьют? – перешла вдруг на крик Маруся.
После смерти мамы, которую девочка почти не помнила, отец был самым дорогим для нее человеком на свете. И никто и никогда не смог бы убедить ее в том, что он способен совершить что-то плохое. Если отец в борьбе с новой властью встал на сторону народа, значит, так велела ему совесть…
Больше Маруся его не видела. Николая Плаксина не расстреляли. Через знакомых Ольгиного мужа удалось получить сведения о том, что его отправили в Сибирь. Там как раз появились первые подведомственные НКВД лагеря для принудительных работ, в которые направлялись на перевоспитание враги Советской власти.
– Эх, Аркаша, Аркаша… Ничего у нас с тобой не выйдет, – с горечью подумала Мария. – Мы как будто в разных мирах существуем, которые никогда не пересекутся…
Всхлипнув, она обеими руками смахнула бежавшие по щекам слезы и потянулась за оставленным для нее ужином – накрытую белой салфеткой тарелку удалось разглядеть после того, как ее глаза привыкли к темноте. Под салфеткой оказались две лепешки из желудевой муки. Пшеничная в доме кончилась несколько дней назад.
«Да и неизвестно еще, вернется ли он за мной, – снова горестно вздохнув, подумала девушка. – Обещал, конечно. Но мало ли что он обещал…»
Она подцепила вилкой кусочек холодной лепешки и, прежде чем отправить его в рот, с затаенной надеждой вслух произнесла:
– А вдруг?
/1/. Иван Колесников – один из руководителей антикоммунистического восстания воронежского крестьянства в 1920-1921 годах.
8.
Чем меньше верст оставалось до села, тем лучше становилась дорога. Лес поредел, небольшие рощицы чередовались с открытыми полянами и лужайками, земля на которых успела подсохнуть. В одном из перелесков устроили последний перед пунктом назначения привал, после чего люди и лошади взбодрились.
Аркадий поднялся с пригорка, на котором сидел, отыскал среди пасущихся неподалеку лошадей своего Рыжего – скакуна золотисто-коричневой масти со светлой гривой – и резво вскочил на него. Обхватив ногами мускулистое тело животного, он легонько хлопнул пятками по бокам жеребца, чтобы заставить того двигаться вперед.
Неожиданно конь взбрыкнул, резко вскинув задние ноги. Он явно намеревался сбросить седока, но тот удержался в седле. Мышцы жеребца напряглись, и Аркадий догадался, что Рыжий собирается повторить попытку. Он с силой потянул поводья вправо, заставив коня повернуть голову в ту же сторону.
Краем глаза Аркадий видел, что обступившие скакуна и наездника бойцы с интересом наблюдают за действиями обоих. То, что конь ему достался молодой и норовистый, он понял еще до того, как отряд отправился в рейд, но менять скакуна не стал – больно уж тот был красивым. Ну, а что касается норова – то Аркадий и не с такими управлялся. Впрочем, первое время жеребец строптивости не проявлял…
Не переставая натягивать поводья, Аркадий вынуждал Рыжего опускать голову вниз – до тех пор, пока нос коня не коснулся его сапога. В таком положении никакая лошадь взбрыкнуть не сможет – эту науку будущим краскомам преподавали еще на Киевских курсах.
Обычно выполненного приема хватало, чтобы обуздать животное, но строптивый жеребец, видно, решил показать характер, пытаясь совершить какие-то действия вопреки воле седока. Вскидывать ноги у него уже не получалось и, перебирая конечностями, конь принялся накручивать круги вокруг своей оси, двигаясь в одном направлении с опущенной, повернутой вправо головой.
Сделав два-три круга, жеребец – вероятно, поняв бессмысленность этого кружения – остановился. Аркадий продолжал крепко держать поводья, не давая возможности коню поднять голову. Лишь почувствовав, что мышцы животного расслабились, он ненадолго ослабил хватку и тут же снова потянул поводья – теперь уже влево. Голова Рыжего послушно повернулась туда, куда направлял ее хозяин. Взбрыкивать жеребец больше не пытался – он крепко усвоил, кто из них двоих главный.
– По коням! – отдал приказ Аркадий, на лице которого за все время, потраченное на усмирение скакуна, не дрогнул ни один мускул.
Окинув взглядом столпившихся вокруг красноармейцев, он успел заметить, что кто-то смотрит на него с нескрываемым удивлением, кто-то – с неподдельным интересом, а некоторые даже с явным уважением, чего раньше со стороны большинства его подчиненных не наблюдалось.
«То-то!» – усмехнулся про себя Аркадий.
Он снова тихонько стукнул каблуками по бокам Рыжего. Конь покорно двинулся с места. И все-таки на душе у Аркадия было неспокойно: одно дело – обуздать норовистого жеребца, что не составляло для него большого труда, и совсем другое – командовать боевым отрядом в несколько десятков бойцов, среди которых он оказался самым молодым.
Конечно, в Воронеже в его подчинении числились тысячи красноармейцев, но и задачи перед ним стояли другие – маршевые роты формировать. А здесь, на Тамбовщине, действовать приходится по-иному, да еще в непривычной ему обстановке: порой и не разберешь, где тут свои, где враги, где линия фронта и где, в конце концов, сам фронт…
Прибыв в Моршанск, вместе с должностью командира сводного отряда по борьбе с бандитизмом Аркадий получил и первое ответственное задание: провести операцию по ликвидации антоновцев, укрепившихся в одном из самых больших в уезде сел – Пахотный Угол.
Едва вступив в должность, молодой командир понял, что управляться с подчиненными будет нелегко – дисциплины среди бойцов не было никакой. Мало того, Аркадий заподозрил, что многие, особенно мобилизованные из крестьян, красноармейцы в душе поддерживают повстанцев и что кое-кто из них во время намечающегося рейда может переметнуться на сторону врага.
Надо было что-то срочно предпринимать. Аркадий решил обсудить ситуацию с председателем партийной ячейки Максимом Федоровичем Кожевниковым, назначенным перед предстоящей операцией комиссаром отряда. Знал он о нем немного: только то, что на Тамбовщину Кожевников прибыл в конце восемнадцатого в составе рабочего продотряда из Москвы, а потом добровольно записался в РККА, что свидетельствовало о его надежности и преданности Советской власти.
Это был высокий, лет тридцати двух-тридцати трех мужчина с тонким прямым носом, впалыми щеками и проницательным, жестким взглядом темно-серых глубоко посаженных глаз. Когда на лице его появлялось некое подобие улыбки – сухие, узкие губы слегка растягивались, взгляд этот почему-то казался еще более жестким и строгим.
Аркадий заглянул к комиссару накануне рейда. Кожевников сидел спиной к двери за небольшим столиком у окна и, склонившись над ним, не сразу услышал, что в комнату кто-то вошел. Увидев командира, он хотел было убрать в карман гимнастерки предмет, который держал в руках, но передумал и протянул его Аркадию:
– Вот, товарищ командир, посмотрите, дочки мои – Анечка и Галочка. Сестра карточку прислала.
Перед тем как взять в руки протянутый ему плотный картонный прямоугольник, Аркадий мельком взглянул на Кожевникова и обомлел: его глаза светились такой неподдельной нежностью, что оставалось только удивляться, как этому простому человеческому чувству, таившемуся, казалось бы, в глубокой, непроницаемой бездне, удалось до неузнаваемости преобразить лицо этого сурового с виду человека!
Но преображение длилось считанные секунды. Пока Аркадий разглядывал фотокарточку, с которой на него смотрели две худенькие девочки с такими же темными, как у отца, глазами, взгляд Кожевникова снова стал привычно жестким.
– Больше двух лет их не видел, – забрав у командира отряда снимок, сказал он. – Вернусь, и не узнают своего папку. Да что там не узнают! Не вспомнят даже! Они ведь совсем крошечными были, когда я из дома уезжал. Сестра, правда, пишет, что каждый день им про меня рассказывает, да толку-то что.
– А они разве не с матерью живут? – спросил Аркадий.
– Нет у них матери. Умерла она, когда младшенькую рожала. От природы слабая была, а тут еще голод, холод. Вот организм и не выдержал.
Аркадий хотел было выразить сочувствие новому товарищу, но нужные слова не приходили в голову.
– Дааа… – протянул он, так и не придумав ничего лучшего. – Время сейчас такое.
– Да причем тут время! – вышел из себя Кожевников. – Народ у нас такой! Не весь, конечно, но большая часть. Пока одни с голоду помирают, другие продовольствие прячут. Насмотрелся я тут на жлобов этих и бандитских пособников. Ну, ничего, ничего… Со всеми расправимся!
Он поднялся с единственного в комнате стула, с громким стуком придвинул его к Аркадию, сам сел на край широкой, стоявшей у стены лавки, на которой он, по всей видимости, и спал, и уже спокойнее произнес:
– Ну что, командир, покумекаем, как действовать будем? Думаю, за этим и пришел?
Обращение к нему на «ты» Аркадий расценил как знак установившегося между ними доверия. Он молча кивнул.
После того, как командир и комиссар отряда обсудили план действий и возможные повороты событий, на душе у Аркадия – хоть и были у них с Кожевниковым некоторые разногласия – стало спокойнее. Он понял, что на Максима Федоровича и его товарищей-коммунистов – тоже бывших продотрядовцев, из которых и состояла, в основном, партийная ячейка, можно положиться. Все они имели большой опыт усмирения бандитских сел, не подведут и на этот раз…
Войти в Пахотный Угол планировали перед рассветом, но из-за раскисших после прошедших ливней дорог с последнего привала снялись, когда солнце уже встало.
«Даже по церкви можно судить: село очень богатое. Народ в нем зажиточный, за свое добро наверняка крепко держится, – на ходу разглядывая в бинокль белеющую на фоне золотисто-голубого утреннего неба громаду пятиглавого храма, размышлял Аркадий. – Настрой у мужиков, конечно, кулацкий. С ними трудно будет договориться, но попробовать все-таки надо. Хотя Кожевников утверждает, что только в деревушке какой-нибудь небогатой можно крестьянам мозги вправить. Разъяснить, что напрасно, дескать, они эсеровских речей наслушались и отдали своих сынов в белые банды. Все равно Красная армия их уничтожит. А еще он говорит, что совсем уж непослушных припугнуть как следует можно. Объявить их пособниками бандитов и пригрозить расстрелом, чтобы одумались. А то и расстрелять несколько человек – самых крикливых. Остальные, мол, потом притихнут. Может, и прав комиссар: Пахотный Угол – совсем другое дело. Может статься, народ там ни уговорами, ни угрозами не возьмешь. Ладно, на месте посмотрим…»



