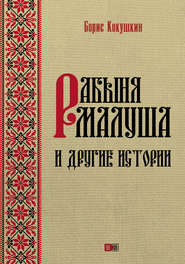скачать книгу бесплатно
– Я иной раз захожу к нему, а он сидит неподвижно в кабинете, смотрит на портрет Анны и в этот момент ничего не видит и не слышит вокруг себя, – согласился с ним Меньшиков. – И знаешь, мне порой в голову приходит дурная мысль – он и столицу-то перевел из Москвы в Санкт-Петербург только для того, чтобы быть подальше от Немецкой слободы, не видеть дома, что он подарил Анне и не встречаться с людьми, которые были возле нее.
– Да ну, ерунда, – отмахнулся Франц.
– Я понимаю, и все-таки, – вздохнул Александр. – Не вылазит эта мысль из головы…
– Может быть, он и Виллима Монса назначил в личную канцелярию Екатерины в память об Анне?
– Ага, пустил козла в огород, – усмехнулся Меньшиков. – Этот бабник как раз там кстати. И без того Екатерина принимает мужиков без счета, а тут еще один. Рожает без конца, а от кого дети, сама, небойсь, не помнит… Вон уже с десяток в подоле принесла.
– Тихо ты, – предупредил Франц друга. – Я только не понимаю, – неужели Петр не догадывается об этом?
– Может быть, догадывается. Только если рубить головы всем ее любовникам, страна останется без советников царя, – засмеялся Данилыч.
Петр в это время был в инспекторской поездке в Архангельск. Вопреки обычаю, он в этот раз не выслал вперед гонца с сообщением о своем скором прибытии. А при появлении в столице он прошел прямо в спальню жены и застал там ее с Виллимом Монсом в весьма непотребном виде.
Эта новость так поразила самодержца, что он слег на две недели, предварительно распорядившись отсечь голову соблазнителю и посадить ее на кол.
С этих пор Петра стали мучить сильные головные боли. Меньшиков заметил, что его друг все чаще хватается за сердце.
В один из дней он слег окончательно. Собравшиеся вокруг него близкие в растерянности ждали, чем кончится его болезнь. Лекарь, срочно вызванный из Пруссии, на вопрос о состоянии больного только разводил руками.
В один из дней Петр на мгновение очнулся и еле слышно пробормотал: «Отдайте все…»
Присутствующие в недоумении стояли, поглядывая друг на друга. А склонившемуся над другом Меньшикову показалось, что с последним вздохом Петр прошептал: «Анхен…»
Данилыч решил, что ему померещилось и не стал говорить об этом присутствующим. Мало ли что мог пробормотать человек, уходящий в небытие… И незаметно для всех положил в изголовье умершего друга портрет его любимой…
Вымученный рассказ
Мир тебе и покой, бедная родная сторона моя! Как люди, некогда жившие на тебе, знаю я, нуждались в покое, хотя бы даже в смертном, как они говорили, так и ты, помню я, нуждалась тогда в нем и, может быть, даже и теперь ищешь его…
Сквозь редеющий мрак… я увидел наконец, что все та же она, какою я оставил ее много лет назад…
А. И. Левитов (1836-?). «Степная дорога днем»
Я призван был воспеть твои страданья,
Терпеньем изумляющий народ!
Н. А. Некрасов
Иван Аркадьевич, которому на днях исполнилось девяносто лет, сидел в своем кабинете при свете настольной лампы и пересматривал свои старые рукописи. Увлекшись, он не заметил, как в кабинет тихо вошла его жена Агриппина Ананьевна.
– Милый, ты не спишь? – удивленно спросила она.
– Что-то не хочется, – ответил он, откладывая бумаги. – Совершенно нет сна. Старость, видно…
– Какая старость? Вон ты какой еще бодрячок, – она погладила его по руке. – Другие в твоем возрасте совсем дряхлые старики, а ты работаешь без устали. Тебя что-то беспокоит?
– С чего ты взяла? – Он удивленно вскинул брови.
– Э, дорогой, мы столько лет вместе, что живем одними думами.
– Это верно, – согласился он. – Понимаешь, у меня такое ощущение, что я исписался. Не нахожу новых и интересных сюжетов. О молодежи писать не могу, – современную молодежь я совершенно не знаю. Писать абы что, как это делают новые молодые писатели, не хочу и не могу…
– Они мне напоминают молодых петушков, которые кукарекают, но фальцет выдает их отроческий возраст и самонадеянность.
– Вот именно. Сейчас их развелось столько, что своими незрелыми произведениями они завалили полки книжных магазинов. А сюжеты примитивны, как крик того петушка, о котором ты говоришь, – убийства, секс, шпионы, монстры и прочая мерзость. А еще появилась целая плеяда пишущих женщин. То, что они предлагают читателям, сплошной привитимизм, но, накропав целые тома, полагают себя классиками, исходя из того, что, коль много написано, то уже великий мастер! Как один из наших политиков: накропал массу дешевых книжонок и на этом основании затребовал себе ученое звание доктора философских наук. И надо же случиться такому: депутату и лидеру одной из партий действительно присвоили звание доктора философских наук!
– Ну, что касается женщин-писательниц, то здесь есть исключения, – заметила Агриппина Ананьевна.
– Ты имеешь в виду Улицкую, Павлищеву, Гринберг?..
– Именно. – Уже половина первого. Ложись-ка ты спать, – утро вечера мудренее.
– Мудренее ночи, – улыбнулся Иван Аркадьевич. – А ночью только кошмары могут явиться, не так ли?
Утомленный вчерашним ночным сидением, Иван Аркадьевич встал только к обеду. Жену он застал сидящей возле книжного стеллажа и рассматривающей старый альбом иллюстраций русских художников.
– С утра пораньше заинтересовалась изобразительным искусством? – спросил он ее с долей некоторого ехидства.
– Проснулся? – спросила жена, не отвечая на его вопрос. – Пошли завтракать. Я приготовлю омлет с беконом.
– Судя по времени, это уже обед, а не завтрак.
– Не все ли равно, как это назвать, – ответила Аргиппина Ананьевна. – Режим нарушаешь – вот это плохо.
– А ты давно встала? – спросил он.
– Давно.
– Что так? Не спалось?
– Не спалось, – задал ты мне задачку.
– Надумала что-нибудь?
– Я вот о чем подумала. Современные писатели синтезируют два основных сюжета: приключения и любовную тему. Под приключениями я подразумеваю бандитизм, войну, работу полиции, шпионаж и тому подобное. По сути, переписываются сюжеты Эдгара По, Артура Конан-Дойла, Джеймса Хэдли Чейза, Стивена Кинга… На этой псевдолитературе, выбрасываемой в огромном количестве на книжный рынок, воспитывается нынешнее поколение. И крайне мало нашей, российской исторической литературы, так необходимой для воспитания подрастающего поколения.
– Ну, я бы не был столь категоричен, – возразил Иван Аркадьевич. – Появились довольно неплохие книги той же Натальи Павлищевой, Вадима Щукина, Семена Скляренко, Фаины Гринберг, Владислава Бахревского, Юрия Германа, Руслана Скрынникова, Анатолия Абрашкина, Владимира Егорова…
– Я согласна, но все они пишут о каких-то масштабных, конкретных и известных исторических событиях и правителях. Но где книги о жизни и быте, скажем, крепостных крестьян, по сути, рабов? У американцев есть «Хижина дяди Тома», «Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна» и другие. А у нас ты можешь назвать хоть одну современную книгу о жизни крепостных под властью помещиков. Такую, чтобы главным действующим лицом был простой подневольный человек? Откровенно говоря, я не припомню…
– Ну, в XIX веке такие малоизвестные писатели были, а вот в наше время… А жизнь крепостных крестьян изнутри действительно практически не затрагивается нынешними писателями.
– Мне представляется, что тебя должно это заинтересовать, – предложила жена. – При этом при раскрытии темы не стоит акцентировать внимание на древней терминологии, на описании сословий… Крестьяне тогда делились на государевых, монастырских или принадлежащих помещикам и вотчинным служилым людям. Более всего страдали именно подданные помещиков и вотчинных служилых людей. Вот этих бедолаг и следует взять в основу…
– Пожалуй, ты права, – согласился Иван Аркадьевич. – И, чтобы содержание было понятно современной молодежи, изложение следует вести на их языке.
– Кстати, в данном случае можно воспользоваться воспоминаниями наших дедушек и бабушек, – им тоже рассказывали их родственники, что происходило в то далекое время. А эта генетическая память уносит нас лет на двести назад – как раз к той поре, о которой ты собираешься писать, – заметила жена.
– Ты права, – согласился с ней Иван Аркадьевич. – Кстати, а кем были твои пращуры? Хотя они, кажется, были городскими мещанами.
– Бабушка рассказывала, что ее дед по отцовской линии служил в приказной палате – это что-то наподобие нынешнего судейского корпуса и нотариуса одновременно. Так что к крестьянам он имел опосредованное отношение. По крайней мере бабушка мне об этом ничего не рассказывала. А вот твои предки, кажется, происходили из крестьян?
– Да, мне бабушка в детстве описывала, например, интерьер крестьянской избы.
– А о взаимоотношениях с господином?
– Они были государственными крестьянами. И все спорные вопросы – о наследовании, разделе имущества – решали в волостном суде. Естественно, о взаимоотношении с помещиками речи не шло.
– Придется тебе покопаться в нашей библиотеке, благо она у нас вполне достаточна, чтобы отыскать необходимый материал, – сказала жена.
– Ну, взялся за гуж, не говори, что не дюж, – улыбнулся Иван Аркадьевич.
– Ты только с лестницы не свались, когда будешь доставать книги с верхних полок, – улыбнулась Агриппина Ананьевна. – Работай, а я пойду в магазин – надо же кормить труженика…
Ничего не ответив ей, Иван Аркадьевич начал просматривать соответствующую литературу, чтобы мысленно ввести себя в обстановку далекого прошлого.
На третий день уединения Иван Аркадьевич попросил жену прочесть часть написанного рассказа. Удобно устроившись в кресле, она взяла рукопись и приготовилась читать.
– Пожалуйста, читай не про себя, – я хочу на слух определить качество написанного, – попросил муж.
– Само собой, – коротко ответила жена и начала читать, иногда задерживаясь и разбирая далеко не каллиграфический почерк мужа.
«В крепости
Среди крестьян деревни Супонино Прокопий, сын Прохора Нестерина, считался мужиком степенным, хозяйственным, работящим, домовитым. По местным представлениям, дом у него – полная чаша, дети обихожены, а жена Наталья рожала едва ли не по ребенку ежегодно. Это и хорошо…
– Справный мужик, – говорили о нем соседи, втайне завидуя ему.
А завидовать было чему: отец Прокопия Прохор был взят в дом барина и служил у него чем-то вроде камердинера. Он отпустил пышные седые бакенбарды, носил ливрею и в этом виде даже староста Фома Нехлюбин несколько робел перед ним, оправдывая себя тем, что Прохор ежедневно общается с барином и бог знает, что мог наговорить. Отсюда шло послабление и Прокопию, за что того селяне недолюбливали, но вслух свою неприязнь не выражали – неровен час пожалуется отцу, а тот – барину.
Надо сказать, что крестьянам деревень, которыми владел помещик Илья Степанович Бухмин, повезло с барином. Среди соседей-помещиков он слыл человеком серьезным и прогрессивным, с соседями ладил, а жена его Феодора Власьевна нередко крестила у них детей, не брезговала дамскими вечеринками, во время которых помещицы поигрывали в преферанс или штос на копеечку – скорее, для интереса, чем для прибытка, обсуждала наряды, привозимые с ярмарок. Правда, поговаривали, что Илья Степанович был весьма неравнодушен к женскому полу, да только что это за беда, – кто из нас не грешен в своем захолустье. А брань да навет, как известно, на вороту не виснут. Мало ли кто что скажет…
Страдная пора – самое напряженное время для крестьян. Только закончили с сенокосом – глядишь, поспевают рожь, овес, подходит гречиха, просо…
В этот день, когда солнце еще не выглянуло из-за леса, но небо уже стало светлеть, староста Фома обходил избы, призывая селян выходить на работу в поле. Как велось из года в год, жать, косить и убирать рожь выходило все трудоспособное население, включая подросших парней и девчат. Слава богу, поле ржи примыкало вплотную к деревне, так что идти было недалеко.
Прокопий, собирая домашних на работу, распорядился оставаться дома дочке Варе и приглядывать за младшими братьями и сестрами и за занемогшей матерью, находящейся на сносях.
День выдался на редкость удачный, солнечный, а легкий ветерок приятно охлаждал разгоряченные лица косцов и баб, вяжущих вслед за мужчинами снопы.
Оставшаяся дома Варюшка подоила корову и выгнала ее к пастуху на выпас, наполнила колоду едой для поросенка, бросила крупы курам, после чего погнала проснувшихся ребятишек умываться, помогая самым младшим помыть их мордашки. Поставив перед ними горшок с кашей, пошла к матери спросить, не надо ли чего ей.
Поручив братишкам и сестренкам постарше приглядывать за младшенькими, схватила бадейки и побежала к колодцу за водой.
Доставая бадью из колодца, она краем глаза заметила, что старик Савва, живущий на краю деревни и вышедший, видимо, погреть на солнышке ноющие с утра косточки, вдруг встал, склонился в поклоне и замер.
«Чегой-то он? – подумала про себя девушка. – Ай, крепко видно схватило деда».
Но в этот момент из-за поворота дороги, делающей крюк перед деревней, показалась двуколка с сидевшим в ней барином.
Варюшка испугалась было, что тот заругает ее за то, что она не в поле, но потом подумала: чай, она не из-за лености осталась дома, а по нужде, так чего же ругаться-то?
Благосклонно кивнув Савве, барин проехал мимо и остановил двуколку возле Варюшки.
– Кто такая? – спросил он ее. – Почему не узнаю?
– Варя я, дочка Прокопия Нестерина, – с поклоном ответила девушка.
– Внучка Прохора? Хороша! – барин откровенно любовался ей. – Ты же совсем недавно была крохой. Ишь ты, как выросла да похорошела…
Варя зарделась от похвалы и не знала, что говорить. А барин оглядел ее с ног до головы и тронул лошадь, направляясь в поле.
Закончив проход до конца поля, косцы сели отдохнуть, когда к ним подкатил барин. Оглядев скошенную часть поля, он удовлетворенно кивнул головой.
К нему тотчас подбежал староста и с низким поклоном поприветствовал его.
– Все ли ладно? – спросил Илья Степанович.
– Слава богу, все идет ходом, – ответил Фома. Урожай ныне отменный…
– Добро, – кивнул барин. – Зерно не осыпается?
– Нет. Хотим закончить, пока ведра.
– Ну-ну, поспешайте. Да не давай особо разлеживаться народишку.
– Никоим образом, – уверил барина Фома».
Агриппина Ананьевна закончила чтение и отложила рукопись.
– Ну, как? – с нетерпением спросил Иван Аркадьевич. – Что скажешь?
– Я так понимаю, что это вступление к главной теме, – ответила жена. – И в этой части ты описываешь фон, на котором будет развертываться основное действие.
– Так и есть. И знаешь, я стараюсь уходить от штампов, которыми увлекаются иные писатели, в немалой степени для того, чтобы увеличить объем произведения, – ответил муж. – Конечно, можно было описать, в какое платье одета Варя, распинаться о том, какие цветы были на ее платке, как была стройна ее фигура и прекрасно лицо, но… Не напрасно же говорят: краткость – сестра таланта.
Агриппина Ананьевна улыбнулась.
– Чему ты улыбаешься? – недоуменно посмотрел на нее муж.
– Я вспомнила Дюма-отца. В то время издатели платили построчно. Так вот, для того, чтобы раздуть объем произведения, этот хитрец писал диалоги из одного-двух слов.
– И тогда ушлые издатели стали платить ему не построчно, а за каждое слово, – рассмеялся Иван Аркадьевич. – Действительно, было такое. Было время, и у нас платили за печатные листы, независимо от количества слов.
– Поэтому Маяковский и начал писать лесенкой? – поддержала его жена. – Я предлагаю тебе, прежде чем продолжить, отдохнуть и продумать дальнейший ход сюжета.