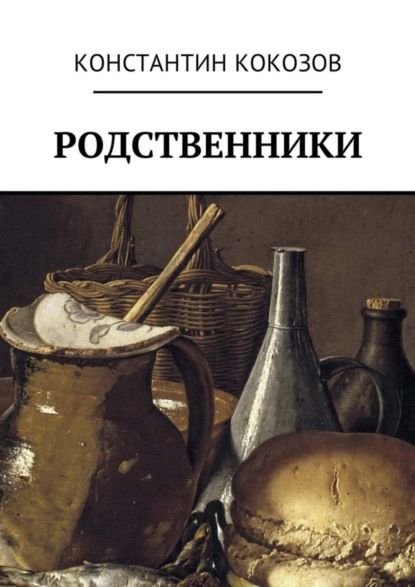
Полная версия:
Родственники
Однажды Алладин – десятилетний, самый старший внук Ильи Пантелеевича, проследил за тетей Фросей, которая, накормив и уложив спать своего полгода назад родившегося второго ребенка, вышла на минуту по делам. Алладинчик был тут как тут, залез в комнату через окно, расфасовал по карманам реквизируемое и неторопливо, тем же способом, как вошел, стал выходить, но в этот момент был пойман дедушкой, который следил за ним. Отобрав ворованное, дедушка наказал мелкого воришку ремнем показательным образом – при остальных детях, большинство из которых смеялись, когда попка Алладина краснела от ударов дедушкиного ремня.
Алладин и его младший брат Стефан верховодили в доме Габо, они были самыми старшими внуками. Они и помогали дедушке справиться с воспитанием всех детей, они же начинали вдруг, ни с того ни с чего, детский шум, плач, драки, разборки и так далее, и они же больше всех получали подзатыльников от Ильи Пантелеевича. Что интересно, когда дети были еще маленькими, по годику, по два, собственных родителей не интересовали ни их плач, ни их драки, иногда доходившие нечаянно до крови. Со всеми проблемами в отношениях внуков разбирались дед да бабушка Мария Варнавовна. Но с течением времени, когда дети подрастали, старшие начали уже в школу ходить и, соответственно, драк и шума стало больше, начали вмешиваться родители, если, конечно, заставали свое ненаглядное чадо плачущим. Однажды Алладин и Стефан подрались с детьми Володи и Фроси и те заплакали. Родители, вернувшиеся с работы, застали их плачущими, а младший сын Павел, увидев издали отца с матерью, стал так плакать, будто его кто-то резал. Тут Фрося наказала племянника Стефана, дав ему два подзатыльника, а Алладин успел убежать. Фросю, наказывающую Стефана, увидела его мама, Варвара, и пошло-поехало… Если бы на шум и гам, раздававшиеся со двора Габо, не вышли Илья Пантелеевич с Марией Варнавовной, в хлеву чинившие амбар для ячменя скоту, то далеко могли бы зайти в обвинениях друг другу родители двоюродных братьев. Такие ситуации возникали все чаще и чаще, а детей становилось все больше и больше. В каждой семье в пятьдесят восьмом году было уже по несколько детей: у Филиппа – шестеро, у Володи и Варнавы – по четверо, а у дочерей Ильи Пантелеевича – по пять ребятишек. Старшие дети у всех братьев и сестер ходили в школу, младшие – все девочки (кроме Варнавиных детей, у него были только мальчики), воспитывались дома, в основном дедом и бабой. Но именно в этом пятьдесят восьмом году Илье Пантелеевичу вдруг стало так плохо с сердцем, что он слег, а через две недели отдал Богу душу. Похоронили Илью Пантелеевича по всем правилам православной религии. Читал молитвы святой отец Ананий, который числился в открытой, разрешенной властями церкви настоятелем, а в основном жил в городе Марнеули. Приезжал он только в самые главные религиозные дни, такие как Пасха, Рождество, день Святой Богородицы, день Святого Георгия и так далее, а в воскресные дни и другие, менее значимые церковные праздники, святого отца в церкви не бывало. А жил там он потому, что болел, и ему врачи прописали дожить свой век в теплых краях. Если кто-то умирал и нужно было его хоронить со священником, привозили из Марнеули отца Анания или же приглашали священника из церквей соседних сел Авранло, Олянк. Кстати, не забыть бы сказать, что в остальное время, в воскресные и другие праздничные дни, религиозные обряды отправлял дьякон Антон Константинович Карагезов, человек начитанный и знающий несколько языков, много лет, работающий в селе заведующим сельмагом. После смерти священника Анания, дьякон Антон отлично справлялся со своими обязанностями, старался, чтобы в Божьем доме во все церковные праздники царила торжественная обстановка. Односельчане, видя это старание и беспрекословную веру Антона Константиновича канонам Православия, сначала попросили его, а затем написали всем селом большое письмо Патриарху всея Грузии Илие Первому с просьбой рукоположить дьякона Антона в священники и назначить его в Джинисский приход, в церковь Святого Георгия. Однако в грузинском городе Тбилиси, погрязшем в протекционизме и коррупционизме, за выполнение народной воли в патриархате попросили сорок тысяч рублей старыми, до деноминации шестьдесят первого года, деньгами, которых всем селом не смогли собрать. Да и сам Антон Константинович, человек беспредельно честный, верующий, не захотел второй раз поехать туда, где люди, облаченные в церковные рясы, без стеснения затребовали от него столько денег. Тем не менее, Антон Константинович до конца своих дней в должности дьякона служил в этой церкви, и люди могли прийти сюда и свечку поставить, и помолиться вместе с ним Господу Богу за грехи наши каждодневные. Нелишне напомнить, что и дом его, и сельмаг, который в то время находился в его доме, имели в селе культурно-просветительное и общественное значение. Даже у колхозной конторы столько людей не собиралось и не обсуждалось столько местных, районных, республиканских, всесоюзных и мировых проблем. Между прочим, здесь часто встречались односельчане, долго не видевшие друг друга. И тогда, поговорив немного о делах своих и общественных, встретившиеся обращались к Антону Константиновичу: «Дядя Антон, можно у вас посидеть, с другом поговорить». – «Конечно, можно» – следовал ответ. И они брали бутылку водки или вина, садились за стол и давай разговаривать и пировать. Здесь часто собирались пропустить по стаканчику, по два, учителя сельской школы и руководство колхоза. Жена Антона Константиновича Софья Кириаковна, сердобольная, хлебосольная женщина, тут же ставила на стол что есть в доме, чтобы ребята, выпивая, закусывали и не пьянели. Кстати, за это денег в доме Антона Константиновича не брали. Хозяйка дома, Софья Кириаковна не забывала на следующий день, увидев пировавших, пригласить их опохмелиться, наливала из собственных запасов. А в последнее время, когда уже в селе и закусочная была, и новый государственный сельмаг, Софья Кириаковна часто выходила на балкон и смотрела на дорогу, которая шла к конторе колхоза мимо ее дома. Увидев знакомых (а знакомыми было все село), любила обращаться: «Роман, Роман, Павлик, Гавриил, хорошая водка есть у меня, иди, попробуй стаканчик».
Далее продолжая тему религиозную, следует вспомнить, что считался самым авторитетным священником в Цалкском районе, конечно, святой отец Ананий, настоятель Джинисской церкви Святого Георгия. Говорили, что он был учителем словесности в начале века и искренне верил в Бога. Став священником, пострадал за веру с приходом советской власти, сидел пять лет, но не отрекся от Бога, а потому его молитвы имели особый тон, смысл и пользу. Вот поэтому, узнав о смерти друга, марнеульский знакомый Ильи Пантелеевича сам приехал и привез батюшку. Проводили в последний путь Илью Пантелеевича, отметили ему сорок дней и… начала давать трещину дружба между членами большой семьи Ильи Пантелеевича. Во-первых, уже не стали приводить маленьких детей к Марии Варнавовне невестки, а мужья молчали и поддерживали жен. «И правильно, женщина стара, сама еле ходит, трудно ей стеречь их» – говорили они. Во-вторых, сыновья по отдельности стали подходить к матери и предлагать поделить свободные комнаты, предназначенные Терентию, Емельяну и Василию, на тех, кто живет в селе фактически, в настоящее время. На вопрос матери, а как быть, если вдруг явятся братья ваши и не одни, а с семьями, отвечали: «Приедут – отдадим, без жилья не оставим». И, в-третьих, братья сами разговаривали между собой через силу, в основном и не общались, старались друг другу на глаза не попадаться. После смерти отца и Филипп, и Владимир, и Варнава построили по забору от своей половины дома до дороги, огородив свою территорию так, чтобы не ходить с братьями и их семьями по одной тропинке. Начались мелкие ссоры, когда через заборы перелетали куры, падал на чужую территорию с наспех уложенного без раствора забора камень, а в дождливую погоду, когда дождь лил ведром, вода, имея особенность идти там, где ей легко, собиралась, естественно, в тех местах, где ей дорогу перекрыли. Просто нужно было минут десять—двадцать, чтобы по территории каждого двора провести небольшую канавку, и тогда вода шла бы стороной и не заливала двор, по которому невозможно стало ходить. Раньше эти работы делались постоянно, когда гром начинал греметь перед началом дождя. А теперь, когда поставили заборы, не продумав, как в сильный ливень беспрепятственно будет стекать вода со двора, входить в дома Владимира и Филиппа невозможно было: собиралась вода почти у двери на половинке каждого брата, особенно во дворе, а иной раз вода даже попадала внутрь помещений. И тут начинались взаимные упреки, претензии и недовольства. Эти недовольства, сначала появлявшиеся по мелким поводам, скоро перерастали в более серьезные обвинения. Со стороны, услышав претензии, высказанные друг другу братьями и их женами, можно было сделать вывод, что они, один перед другим, виноваты в неудавшейся, тесной, несытной жизни. Раньше, даже год назад, когда в селе при разделе имущества близкие родственники устраивали скандал из-за того, что кому—то больше мисок или ложек досталось, сыновья Ильи Пантелеевича удивлялись, даже говорили: «Чего делить, все равно ничего нет в доме, какая разница, ложкой больше, ложкой меньше». Теперь очередь пришла за ними, за детьми Ильи Пантелеевича: никак не могли поделить между собой взрослые мужики, близкие родственники, три комнаты с коридорами. Дело в том, что тогда, наконец, сыновья уговорили мать, Марию Варнавовну, поделить комнаты, принадлежавшие с войны не вернувшимся братьям, ибо, как убеждали они, стало тесно. Мол, у каждого по несколько детей разнополых, растут не по дням, а по часам, надо бы мальчикам иметь отдельную комнату, девочкам отдельную, сейчас не первобытные времена, когда все члены семьи под одним одеялом спали. Более того, приводили доводы братья, эти комнаты есть, пустуют, всего-то надо поделить их между собой и все. Когда Мария Варнавовна, под давлением убедительных доводов сыновей, наконец, дала согласие на раздел этих комнат, оказалось, что разделить три комнаты с коридорами между тремя человеками не так-то просто. Это в арифметике три разделишь на три – получится единица, значит каждому по комнате с коридором, а в жизни получился совсем другой компот. Причина была в том, что солдатские доли, как называли эти комнаты в семье Габо, имели разную площадь и находились в разных местах Г-образного дома покойного Ильи Пантелеевича. Всем хотелось иметь дополнительную комнату рядом со своей, так ведь удобно. И потом, была еще одна загвоздка в этом дележе – половинка, где жила Мария Варнавовна. Филипп предлагал, так как у него больше всех детей – их было у него шесть, материнскую половинку отдать ему: «Пусть, если хочет, и мама с нами живет». Варнава был с этим не согласен, предлагал свой вариант, так как в настоящее время мама живет с его семьей и пожелала жить с ним она сама, то долю матери следует отдать ему. Тогда все братья восклицали. «Ага, зрт прокурор, в этом случае тебе три комнаты достаются!» Особенно Филипп был не согласен с мнением меньшего брата:
– У меня шестеро детей, а у тебя четверо, и ты хочешь сразу три комнаты?
– У меня все дети мальчики, завтра подрастут, поженятся, всем где-то жить надо. А у вас девочки большинство, отдадите замуж да еще несколько пар постельного белья в приданое предложите, и все заботы об устройстве их жизни закончились, – отвечал на это Варнава.
– Родителям все равно – мальчик или девочка, всех надо обеспечивать по возможности жильем. Если попадутся девочкам женихи с жильем, это прекрасно, может, тогда легче станет нам, родителям, у кого девочки. А если попадется представитель чистого пролетариата, не будет иметь за душой ничего, кроме самой души, надо все равно строить или дать какое-нибудь жилье. А потому предлагаю самый простой и естественный вариант: бросить жребий, кому что попадется, – заметил меньшому брату Владимир.
– А если мне попадется маленькая комната и в самом дальнем углу? – сказал Филипп.
– Нет, никогда я не соглашусь на жребий, – отрезал самый старший из присутствующих братьев, Филипп. Более того, Филипп настаивал, чтобы долю матери отдали именно ему…
Мать, видя, что сыновья ее, еще недавно послушные, тихие при родителях, заботливые друг о друге, неузнаваемо переменились, даже страшно становится слышать, как они не хотят уступать друг другу, высказала мысль пожить одной до самой смерти в своей комнате.
– И не надо вам раньше времени голову ломать, кому мою долю отдавать, – заметила она. На это сыновья деликатно дали понять, что эта комната, рано или поздно, станет свободной, потому и ее надо поделить, а жить может мама и в поделенной комнате.
Теперь давайте более подробно сообщим читателю, что собой представлял дом покойного Ильи Пантелеевича, и почему братья никак не могли разрешить сами, вместе с женами, этот архивопрос. Как было сказано выше, первоначально покойный Илья Пантелеевич построил дом прямоугольного типа размером пять на девять метров и разделил это помещение на две комнаты с коридором посередине. Еще имелась открытая веранда. На расстоянии двух метров от основного фасада по длине были установлены деревянные колонны, в количестве десяти штук, и на эти колонны спереди опиралась крыша дома. Снаружи получилось очень красивое единое здание, тем более что дом был и отштукатурен со всех сторон. Владимир был и плотником, и столяром, и штукатуром, словом, на все руки мастером, поэтому дом снаружи выглядел как игрушка. И крышу он покрыл красной черепицей, чтобы изящным дом стал.
В колхозе села Джиниси имелся небольшой глиняный карьер. Здесь добывали глину, готовили глиняный раствор, заливали по черепичным формам из доски. Через некоторое время вытаскивали и сушили в специальных сараях. А потом обжигали в специальных ямах, куда сначала укладывали аккуратно дрова, затем на дрова сверху выкладывали высушенную сырую черепицу так, чтобы между рядами был зазор, а после уже разжигали. Двое суток так обжигали изделия, а потом снимали – товар к употреблению был готов. Таким дедовским способом делалось, конечно, очень мало, но черепицы хватало почти всем – и для нужд колхоза, и для нужд села. Долго, длительное время этим способом получали черепицу в округе, почти в каждом колхозе. Во всех селах Цалкского района крыши крыли черепицей. Шифер появился в этих краях в начале шестидесятых годов.
Когда пришло время поженить сыновей – Терентия и Емельяна, Илья Пантелеевич построил для них такой же дом, как у себя, чуть больше даже. На одиннадцать метров удлинил свой дом к югу, куда позволял огород, в результате каждому женатому сыну были обеспечены комната размером пять метров на четыре и коридор шириной в полтора метра. И эта часть дома была покрыта черепицей. Только Филиппу и Володе Илья Пантелеевич, как известно, пристроил к восточной стороне дома комнаты так, что получилась буква «г», покрыл крышу шифером, только-только входившим в моду строительным материалом. Эта пристройка и комнаты в ней площадью получились меньше. Не позволяли размер и рельеф участка, как в пословице, «всем сестрам по серьгам» выделить. Чтобы пристройку эту сделать длиной в одиннадцать метров, а земли было только на десять, поговорил Илья Пантелеевич с соседом Семеном Манеловым, предложил поменяться этим метром или же выкупить, на худой конец. Тот наотрез отказал и добавил: «Умру с голоду, но лично вам не продам». Странным был Семен Алексеевич человеком: ни с кем из соседей не разговаривал, не здоровался. Если на его огород случайно перелетала соседская курица, он на все село внятно, со смаком проклинал и курицу, и хозяев, главное, применял в своем ругательстве во всеуслышание самые непечатные или малопечатные слова, хоть уши затыкай. Однажды учитель физики Семен Иванович Ильичев, проходя мимо его дома и услышав манеловскую базарную ругань, сделал замечание, мол, как не стыдно, взрослый человек, дедушка двух прекрасных внуков, дети – и ваши, и чужие – ходят по селу, слушают твой поганый язык, нам же, учителям, потом приходится исправлять прививаемые твоим, вроде бы безобидным, нецензурным ораньем пробелы в воспитании подрастающего поколения. Тот, не дав учителю закончить мысль, взялся за него. До драки не дошло, потому что Семена Алексеевича и Семена Ивановича разделял каменный забор, настоящий, на глиняном растворе. Более того, Семен Алексеевич ругал сельского учителя, не глядя на него, а занимаясь своим делом – приводил огород в порядок перед весенней посадкой картошки. Учитель послушал секунду-другую и говорит:
– Семен Алексеевич, имей совесть и уважай человеческое достоинство. Подойди поближе к забору и поговорим. Что ты, как ребенок, ходишь по огороду и выражаешься.
– Чего, чего? – не дослушав до конца, начал Семен Алексеевич. – Не о чем мне с тобой говорить, иди своей дорогой, учитель. Какой ты учитель! Знаем, как ты в Тбилиси учился: отец твой каждую неделю ездил в город. Знаешь, зачем? Чтобы магарыч – сыра головку и картошки мешок отвезти преподавателям, они ведь тоже с голоду помирали и до сих пор мрут. Ты думаешь, у тебя знания есть? Ничего у тебя нет: и знаний нет, и говорить по-русски ты не умеешь, как самый последний грузин говоришь по-русски, а ведь русский человек. Учитель! Два слова связать еле-еле можешь, себя учителем называешь, поставлю вот там, рядом с тобой чучело, на голову надену шляпу, и будет таким же учителем, как ты. И говорить научу его, как ты умеешь…
Семен Иванович послушал немножко Семена Алексеевича, видит, что зря начал разговор с этим человеком. Он и раньше его знал, но таким, каким сейчас стал, никогда тот не был. Раньше, если кто-нибудь что-то говорил, или кто проходил дорогой мимо дома, Семен Алексеевич ругался, не останавливался, но звук уменьшал, не все слова можно было разобрать, а значит и смысл сказанного. Теперь человек немного постарел и стал невыносимым со всех сторон. Не зря его отношения с единственным сыном натянутые, почти не разговаривают и не здороваются, хотя и живут в одном доме. Словом, вот такому человеку Илья Пантелеевич заикнулся поменяться несколькими квадратными метрами земли или выкупить, чтобы сыновьям построить однотипные, одного размера жилища. Только с ним, с соседом Семеном Алексеевичем, мог решить свой вопрос Илья Пантелеевич. Потому что граница огородов обоих односельчан проходила буквой «г» с юга к востоку, и, чтобы пристройку поставить такого же размера, как на южной стороне, не хватало буквально одного метра земли по ширине, а по длине можно было больше пяти метров и не давать. А землю взять в обмен на переданную площадь Семен Манелов мог с южного конца огорода Ильи Пантелеевича, где было еще несколько метров свободной земли. Между прочим, сын Семена Алексеевича Николай заикнулся в пользу соседа, мол, можно провести этот простой обмен. Семен Алексеевич сразу остановил свое чадо.
– Когда дом построишь на своем участке близ Сефиловского оврага, дашь всем жителям села сколько душе угодно метров. Я свой огород, пока живой, делить на части не буду, – сказал Семен Алексеевич. – Габо не лучше Ивана Блудова, завтра он построить дом тоже попросит. Послезавтра Христианов Георгий Ильич попросит – тоже давать? Так весь огород за два года можно соседям раздать, а самому в небо смотреть и мух ловить, ибо, кроме огорода, у нас пока других кормильцев нет.
Николай грозно посмотрел в глаза отцу, покачал головой, развернулся и ушел. Теперь, по прошествии лет, не поддавшаяся решению незначительная проблема обернулась большим семейным скандалом. Может быть, она стала только поводом, а причина – истинная, настоящая – была в другом? Как бы то ни было, братья и их жены, оказавшись без веского, твердого мнения главы семейства Ильи Пантелеевича, стали неуправляемы бедной Марией Варнавовной. Улетучилась простая человеческая толерантность в отношениях, все выказывали друг другу озлобленность и целый ушат гадостей. Не придя к единому мнению в дележе так называемых солдатских комнат, мать предложила пригласить депутатов сельского Совета.
На четыре села был тогда один сельсовет, канцелярия которого располагалась в селе Кущи. Мария Варнавовна, зная, что депутатом сельсовета недавно был избран из Джиниси ее племянник Роман Онуфриевич Христианов, только что устроившийся в колхоз главным агрономом, хотела пригласить его, чтобы при нем вопрос о дележе был решен и не стал завтра главной и интересной новостью села. Поразмыслив над предложением матери, братья решили исполнить ее просьбу, но пригласить не одного Христианова, но еще и учителя математики, депутата райсовета Пантелея Никифоровича Баязова. На замечание матери – зачем сор выносить из избы, Володя ответил:
– Сор из избы у нас давно вышел, мама. Не сегодня-завтра все село будет знать. Потому что у каждой вашей невестки есть родители, братья, сестры, которым доверяется информация любой секретности, а у них – свои близкие родственники, которым тоже можно все сказать, и так далее, по цепочке, завтра всему селу и будет известно…
– Вот именно, – перебил брата Филипп, – пусть все знают. Не мы одни делимся и не мы одни ругаемся. Пусть лучше при постороннем присутствии все происходит, чем придет Роман, а дела не будет.
Решили пригласить обоих – Романа Онуфриевича и Пантелея Никифоровича. Пригласили. Депутаты через некоторое время были тут как тут, в одном селе живут. Выслушав мнения сторон, они в первую очередь спросили Марию Варнавовну, согласна ли она на раздел имущества не вернувшихся с войны солдат-сыновей. Она кивнула головой в знак согласия. Потом спросили государственные люди, с кем и где хочет жить она сама. Ответила, что будет жить одна, кроме того, сказала, что отказывается от коридора, пусть это будет Варнаве, а ей хватит и одной комнаты, только пусть сынки прорубят второе окно и дверь, и все. Тогда приступили депутаты к дележу, который оказался таким простым, что даже братья, ссора которых при депутатах перешла все границы, удивились. Было предложено депутатами всем братьям выделить по равнозначной комнате с коридором, а остальные маленькие комнаты закрепить за каждым по жребию. Недостающий кому-то квадратный метр или излишне полученный оплатить по цене, которая превалировала в Цалкском районе. С этим предложением все братья согласились. Во время, когда депутаты, оставив свои и государственные дела, пришли помочь разобраться братьям и их женам, жены не просто наблюдали происходящее, а находились в настоящей словесной перепалке. Не стесняясь ни депутатов, ни своих мужей и своих детей, тоже пришедших поглазеть на происходящее, невестки покойного Ильи Пантелеевича выстреливали друг в друга словесными пулями и старались ударить побольнее. Притом громкость словесных баталий доходила до того, что их могли слышать ближайшие соседи. Депутатам, особенно Роману – на правах родственника, приходилось одергивать женщин, то и дело делать замечания, чтобы те следили за своими словами. Но было бесполезно: слова этих женщин равнялись в данный момент настоящим пулям. А кто на войне жалеет пули? Ведь задача там – побольше человечков свалить, и тут почти та же задача, и значит пути достижения те же. Вот почему, даже разделившись, согласившись на тот раздел, который произошел, семьи словесную войну не закончили, наоборот, она набирала свои обороты. Все обвиняли друг друга, высказывали такие претензии, что бедный покойный Илья Пантелеевич, наверное, перевернулся в гробу, а бедная Мария Варнавовна, накинув на себя шаль, ушла к сестре Екатерине, которая жила через улицу, и звуки брани и ругани туда не могли дойти. Вспоминали женщины даже самые мельчайшие подробности совместной жизни – кто у кого в долг взял рубль и не вернул; кто покупал сигареты, а кто курил; кто кому и где помогал, а кто не помогал; вспоминали совместные заработки в чужих краях, то бишь в Абхазии, в городах Гали, Очамчири, Гагра и так далее. Дело в том, что в Цалкском, да и в соседних районах было принято в зимнее время, когда в колхозе мало работы, а на Черноморском побережье Грузии хорошая летняя погода и начинается обработка цитрусовых садов, ехать туда на заработки. Особенно было выгодно работать там на частников, потому что они платили в два раза больше, чем государственные совхозы, давали наличные деньги и кормили три раза в день. Почти все заработанные за месяц-полтора деньги оставались целехонькими, никуда не тратились, если не считать расходов на приобретение курева и на жилье, по три-пять рублей в сутки тогдашними деньгами, до деноминации шестьдесят первого года. Володя и Варнава ездили в эти края на заработки одни, без жен, а Филипп с семьей, кроме сыновей, два года работал во вновь организованном совхозе Кохора, близ города Гали. Совхоз располагал жилым фондом и нуждающимся выделял кому комнату, кому две. У Филиппа с семьей было две комнаты. Приезжавшие на заработки односельчане любили ночевать не там, где нужно деньги платить, а у таких односельчан, как Филипп. Ночуешь бесплатно, а перед сном еще и чаем угостят. Когда приехали на заработки Володя с Варнавой, то у Филиппа уже гостили – не родственники. Раскладушки и кровати были заняты, и Варвара постелила братьям на полу. Сами Володя и Варнава никому не рассказали об этом случае, случай-то пустяковый, понимая, что невестка Варвара не захотела обидеть гостей-односельчан и потому не предложила им перейти спать на пол, а своим деверьям постелила на полу. Однако тот, кто спал на кровати, а звали его Георгий, рассказал об этом случае своей жене, а та – женам Володи и Варнавы. И рассказал не с лучшей стороны. Женщина сделала ему доброе дело: родственники на полу спали, а он на кровати. Перевернув смысл поступка с ног на голову, Георгий сказал, что прием братьям Филиппа был оказан отвратительный, дескать, спали на полу, еды не предлагала невестка деверьям, простым чаем и то не угощала. А что касается стирки грязной одежды, то Варвара брезгала даже в руки брать одежду родственников, не то, что стирать. И теперь жены Володи и Варнавы высказывали Варваре, мол, ты такая-сякая, с тех давних пор, когда наши мужья оставались у вас в Кохоре, недолюбливала их, не давала еды, заставляла на полу спать, а чужих мужиков на кровать пускала. Если кто в оправдание что-нибудь говорил, его не слушали; было такое впечатление, что братья с женами собрались поскандалить, обозвать друг друга нехорошими словами и наорать.



