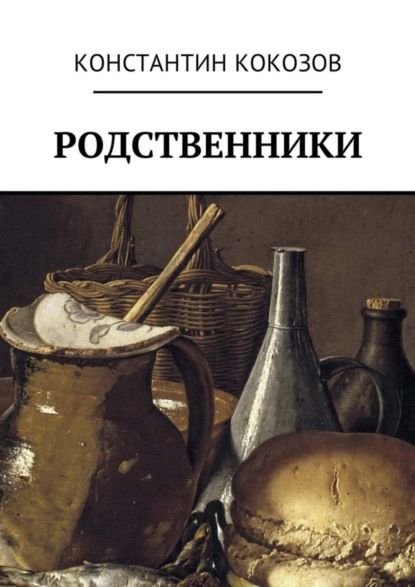
Полная версия:
Родственники
– Да вон туда, к столбу веранды и привяжи, – показал рукой Андрей Антонович, а сам, прислонив вилы к забору, направился в дом, клича на ходу:
– Софья, Софья! Принимай гостя.
В это время входная дверь дома отворилась, и на пороге появилась женщина лет пятидесяти, с длинными рыжими косами ниже пояса, в разноцветном фланелевом халате и в калошах.
– Принимайте, Софьюшка, гостя. Парень он хороший и дело имеет к нам серьезное. Думаю, можно и сто грамм пропустить, яичницу сделать.
– Да, да, конечно, Андрюша, сейчас все сделаем. Проходите, молодой человек, – только сейчас хозяйка дома за спиной мужа заметила гостя.
– Ой, какой красавец, – отметила про себя она. И тут же подумала: «Вот бы такого парня Фросе Бог послал».
Хозяин и гость зашли в дом, закрыв за собой дверь. Войдя в комнату слева из коридора, Володя поздоровался с Фросей – с раскрытой книгой, она сидела у окна за столом. Ответив на приветствие, немножко удивившись, с легкой улыбкой на лице, Фрося, с книжкой в руке, вышла из комнаты. На место, где до этого сидела девушка, хозяева усадили гостя. Окинув взором комнату, Володя заметил, что в чисто прибранной комнате по стенам стояли три, цвета морской волны, металлические кровати, аккуратно заправленные. У стены, между двух окон, стоял стол, покрытый клеенкой в клеточку коричневого и белого цвета, за этим столом он и сидел. На подоконнике стоял радиоприемник, на столе – керосиновая лампа, видимо, на случай отключения света. В Цалкском районе электричество появилось совсем недавно, подача электроэнергии не была отработана, а потому керосиновая лампа оставалась в каждом доме главным атрибутом интерьера. Володя заметил, что к спинкам кроватей были приставлены синего цвета табуретки, покрытые белыми салфетками, вышитыми по краю.
В углу, напротив стены, где он сидел, стоял огромный старинный буфет с резными дверцами и разрисованными стеклами. Спинка кровати у этой стены почти касалась боковой стенки буфета. Из коридора доносился негромкий звон посуды. Андрей Антонович, здоровый мужчина лет пятидесяти пяти, коренастый, среднего роста, с черными кудрями, подошел к буфету, достал бутылку самогона – бутылка не была запечатана заводской пробкой, в горлышко ее была всунута скрученная бумага.
– Как спирт, с собственной фабрики, – гордо, с радостью на лице сообщил хозяин дома, ставя бутылку на стол. Потом снова подошел к буфету, открыл дверцу и достал оттуда два стограммовых граненых стаканчика и поставил на стол рядом с бутылкой. Сев напротив за стол, сказал:
– Выпьем по стаканчику за знакомство, потом поговоришь с Фросей, а то после разговора с ней тебе не до нее будет, – и кивнул в сторону бутылки.
– Спасибо, я не пью, – ответил Володя, – и есть не хочу. Может, разрешите мне с Фросей поговорить, чем здесь…
– Нет-нет, – перебил гостя Андрей Антонович, – сначала нужно познакомиться, а потом, с кем хочешь, говори, – и стал наливать в стаканы самогон. – Ты знаешь, как я этого змия делаю: три раза перегоняю, конечно, не всегда, а только для себя и когда надо очень хорошего человека угостить первосортной продукцией.
Володя понял, что хозяин дома хочет похвалиться перед ним изготовленной продукцией, а потому, когда через секунду Софья Александровна положила на стол домашний овечий сыр, хлеб и по два добрых куска омлета, он пропустил стаканчик по настойчивому предложению хозяина. Действительно, продукт был изумительный, тянул градусов до семидесяти. Похвалил Владимир доброе зелье, за что хозяин еще плеснул сначала себе, потом гостю. Владимир ладонью закрыл горловину стакана:
– Нет, спасибо, Андрей Антонович, я больше не буду. Продукт сильный, а конь мой не терпит запаха спирта.
– Ты что, – глядя по сторонам, воровато произнес Андрей Антонович, – у нас в селе не принято гостя отпускать, угостив его одним стаканом, тем более в зятья набиваешься, изволь слушать старших.
Володе пришлось включить задний ход:
– Только не до краев, оставьте для губ место, – произнес он, улыбаясь уже от действия самой водки.
Когда выпили по второй стопке и не успели еще поставить на стол пустые стаканчики, хозяин дома тут же плеснул еще:
– Бог любит троицу, мы с тобой православные христиане, должны уважать православные каноны, – сказал Андрей Антонович, и, кивнув головой, чтобы гость не пропустил, а выпил свою стопку, сам проворно отправил зелье куда надо, стал закусывать.
Володя, выпив и третью стопку, сказал:
– Спасибо вам, Андрей Антонович, за теплый прием. Я поеду домой, приеду завтра, если вы разрешите, сегодня я разговаривать ни с кем не буду. С запахом самогона перед красавицей девушкой оказаться не хочу, – он встал и направился к выходу.
– Приходи, приходи, молодой человек, лично я буду рад, – ответил хозяин дома и тоже встал, чтобы проводить Володю. Проводив его за забор, Андрей Антонович вернулся домой. Софья Александровна в этот момент убирала со стола бутылку, на дне которой еще осталось немного водки.
– Оставь, Софьюшка, не уноси бутылку, допью. Что-то аппетит у меня разыгрался, кусочек сыра тоже оставь.
– Не много ли будет, Андрюша, в последнее время ты часто стал увлекаться этим, ищешь повод, чтобы лишний стакан употребить, – наводя на столе порядок, произнесла жена, потом сразу спросила:
– А что за молодой человек был? Симпатяга. Откуда он, чего хотел? Вот бы такого парня нашей Фросе найти.
– А что, парень как парень, чем он лучше других, – сердито смотрел на жену Андрей Антонович и вдруг, не докончив мысль, поменял тему. – Ты в последнее время много говорить стала, зубки прорезались, уж в своем доме и сто грамм с гостем выпить нельзя. Лучше будет для тебя, если поменьше заметишь, как в бутылках содержимое уменьшается…
– Ну ладно, ладно, ты лучше о госте расскажи, чего хотел-то он, – перебила Софья Александровна мужа.
– Не скажу, раз ты из мухи делаешь слона. Выпили сто грамм, можно подумать, целый чан вина опрокинули. Парень из Джиниси был, приехал жениться на нашей дочери…
– Как на нашей дочери жениться? – перебила удивленно хозяйка дома. – Фрося! Фрося! Иди-ка сюда!
Через секунду вошла Фрося с книжкой в руке.
– Чего, мам, ты меня звала?
– Да. Ты этого парня знаешь? – сердито, прокурорским тоном спросила Софья Александровна свою дочь.
– Какого парня? – сделала непонимающий вид Фрося.
– Да этого, который на коне уехал только что.
– Да, мам, вчера познакомились. Он тут проезжал, попросил воды попить, я ему и принесла. А что, не надо было воды давать?
Мать продолжала:
– И вы не познакомились, он тебе не назвался?
– Назвался. Как Ленина, сказал, меня зовут – Владимир Ильич.
Все члены семьи засмеялись.
– И все? Зачем сегодня он приезжал, не знаешь? – допытывалась мама Фроси.
– Знаю, мам, сказал: приеду, с твоими родителями познакомлюсь. Я думала, вы его проводите, не станете разговаривать, а вы с ним водку пили.
– Цыц! Не твое дело, с кем мы самогон пьем, – вмешался отец, обидевшись на замечание дочери. – Ты что, вчера его домой пустила? В наше отсутствие? – грозно смотрел на дочь Андрей Антонович.
– Нет, зачем же, он за забором на коне был.
– Ладно, ладно, – вдруг примирительно произнесла Софья Александровна, – чего мы расшумелись зря. Скажи, Фрось, вчера этот парень больше ничего не сказал?
– Нет, – ответила Фрося, – сказал, приеду, познакомлюсь с твоими родителями…
– Да это ты говорила, – перебила мать девушку. – Больше ни о чем разговор не вели? – настойчиво допытывалась она.
– Да нет же, воды выпил и уехал…
– Куда? – перебила снова мама дочку.
– В сторону Хандо.
– А откуда ты это знаешь? Это он сам сказал тебе?
– Ничего не говорил он мне, увидела через забор, как поехал в гору в сторону Хандо…
– А-а-а, ну ладно, ладно, ты это говорила уже, – вновь перебила хозяйка свою дочь. – А ты, Андрюш, с чего взял, что он жениться хочет на нашей Фроське? – грозно взглянула на мужа Софья Александровна. – Сам придумал?
– Нет, он сказал. Чего глупости болтаешь, – обиженно произнес муж.
– А как он сказал, какими словами, можешь повторить?
– Да что ты так ведешь себя. Что наша дочка – косая, хромая, дура, что ли? Такую красавицу, как она, мигом заберут, не успеешь оглянуться, – недовольно, не глядя на жену, буркнул хозяин дома.
– Не говори, Андрей, прекрасно знаешь, красивые девушки в основном, особенно в наших краях, попадаются шалопаям, полубандитам и дуракам. Сейчас время такое, девушек пруд пруди, сам знаешь, война не пожалела, скосила многих наших парней. Выдать дочь за нормального парня – мечта многих родителей. Ты, Андрей, не мешай нам, девочкам, мы с Фросей сами здесь разберемся. Ты лучше иди во двор, корова должна сейчас прийти, да и кур надо в хлев запустить, ты открытой оставь дверь хлева, птицы сами зайдут…
– Хорошо, хорошо, учительница, любишь нотации читать, как малым детям, – вставая с места, недовольно высказался Андрей Антонович и вышел на улицу.
В тот вечер мать и дочь долго разговаривали. Софья Александровна убеждала дочку, которой и без того Владимир Габо понравился так, что она могла бы любую мечту отставить в сторону, лишь бы быть вместе с ним. В глубине души Фрося даже подумала, что пошла бы за ним даже на неделю куда угодно. Подумала так и сама испугалась своей, настойчиво кружившей в голове, мысли. «Что же это такое, никогда я о парнях так не думала, неужели я тоже влюбилась? А почему нет, если он может с первого взгляда влюбиться, почему я не могу» – рассуждала молодая девушка под монотонное нравоучение матери, слова которой до нее не доходили.
– Ты поняла, Фрося? Парень он, сама видела, красивый, выдержанный, серьезный, основательный. Отец говорит – и не глупый, так что не отфутболь его, – учила уму разуму свое чадо Софья Александровна. У Фроси самой с каждой минутой все больше мысли становились заняты этим, неожиданно ворвавшимся в ее жизнь симпатичным парнем, а мама своей агитацией подливала еще больше бензина в пожар, охвативший девичье сердце. Семнадцатилетнюю барышню начало охватывать такое волнение, что книга перед глазами казалась чистым листом, на котором должна она написать письмо любимому. Не читалось, не думалось о науках, уже и учебу в институте, куда хотела поступать днями назад, девушка стала подвергать сомнению. А надо ли учиться? Для чего вообще учатся люди? Лучше с любимым человеком быть вместе, чем кто знает, где учиться. В голову Фросе полезли мысли о любви, и ее планы по поводу продолжения учебы в институтах и университетах поменяли свою окраску. Дело в том, что Фрося Андреевна Сатирова окончила Цалкскую среднюю школу месяц тому назад и готовилась поступить в Курский медицинский институт. В селе Авранло в то время средней школы не было, а в Цалке у Фроси жила тетя, потому ее и определили родители для окончания школы туда, хотя средняя школа была тогда и в Джиниси. Определяя дочь в Цалку, родители полагали, что раз девочка в Авранло окончила восемь классов на одни пятерки, пусть и школу окончит в самом районном центре. Все-таки там и педагоги более сильные, да и жить где есть, а не отмерять шагами каждый день расстояние от Авранло до Джиниси. Хотя и не так далеко туда – коротким путем в хорошую погоду километра четыре, но все равно, тяжело пешком идти, особенно зимой. Тетя даже не стала слушать брата своего, то бишь отца девочки, который выразил мысль не обременять своими проблемами сестру, а сказала тоном старшей родственницы: «Ты помолчи, не тебе ходить туда-сюда каждый день. Не беспокойся, не проест она меня, что моим детям буду готовить, то и ей». Так и порешили, и вскоре Фрося оказалась в Цалке. Родители, конечно, помогали: в две недели раз отвозили харчи, то яйца, то мясца и так далее. Ученицей Фрося была изумительно смышленой, получала по всем предметам одни пятерки. Проучившись две четверти, далее она в конце каждой четверти от всех учителей получала отличные отметки автоматически: те уже хорошо знали, что Фрося не может не выучить уроки. Когда через год, окончив девятый класс, Фрося приехала домой в Авранло, то познакомилась со студенткой Курского мединститута Надеждой Эминовой. Та была уже на четвертом курсе, а Софье Александровне приходилась племянницей. От Надежды юная школьница узнала о Курском мединституте и загорелась желанием стать его студенткой, готовилась серьезно и основательно, биологию из рук не выпускала. Вот-вот ждали получения аттестата зрелости, а затем девушка собиралась поездом поехать в город Курск, где ее должна была встретить двоюродная сестра Надя Эминова. А там – сдача документов, консультации, экзамены и студенческая милая пора. Однако парень из Джиниси – Володя Габо – спутал все мысли юной барышни, и она стала думать не о том, как на отлично экзамены сдать, а о том, когда же приедет на своем неспокойном коне милый сердцу молодой человек из соседнего села. И он приезжал. Три дня еще приезжал Владимир Габо к своей возлюбленной, на четвертый день прислал сватов, а через неделю сыграли два села пышную, шикарную, громкую, веселую свадьбу. На столах в те далекие, тяжелые для страны годы, было всего вдоволь, особенно квашеной капусты, вареной картошки и баранины. Илья Пантелеевич на свадьбу сына двух баранов на мясо пустил и достал много самогона первосортного, из ячменя изготовленного им самим, между прочим, самым знаменитым в здешних местах умельцем гнать удивительно хорошее зелье. Многие приходили к Илье Пантелеевичу и консультировались, как получить качественный продукт. Он знал какой-то особый рецепт, добавлял туда еще кусочек коры дуба, и его водка, мягкая, коньячного цвета, шла как лимонад, за милую душу, и никогда по утрам голова не болела. Говорили, что Илья Габо знает особый секрет, добавляет еще что-то, и оно нейтрализует все сивушные масла.
Конечно, в те далекие строгие советские времена водку гнать не так-то просто было, но в здешних местах не было принято гнать водку для продажи. Редко кто водку-самогон продавал. Самогон гнали только для себя, для нужд семьи: отметить праздники, угостить друзей, самому перед обедом или ужином пропустить стаканчик-другой и так далее. Словом, свадьбу сыграли Володе и Фросе отменную, оба села – и Джиниси и Авранло – долго говорили об этом торжестве и в разговорах отмечали, что если и делать свадьбу, то именно такую: веселую, пышную, многолюдную и с обильными яствами.
Глава 2
Отбарабанили свадебные барабаны, отзвучала свадебная гармонь, закончились праздники души. Наступили будни. Молодая невеста оказалась не только слишком юной и чересчур не по-деревенски красивой, но и, на удивление всему селу Джиниси, не по годам умной и мудрой. На следующий после свадьбы день Фрося вместе с мужем вышла на работу в колхоз. Удивилось все село, увидев ее идущей на работу в поле со всеми колхозниками и колхозницами. «Как же так, только что девушка замуж вышла. В ушах звенят еще песни и пляски на ее свадьбе, а она на работу, хоть бы неделю отдохнула» – говорили одни, удивляясь искренне ее поступку. – «А что дома делать, пусть свекровь домашнюю работу делает, не так стара, может Мария Варнавовна и без невестки справиться с любым делом» – говорили другие. Третьи еще что-нибудь добавляли, пока шли до рабочего места на картофельной плантации. А как только приступали к работе, заканчивались все разговоры, потому что работа была тяжелая, и заработок, хотя и мизерный, шел от количества выполненной работы.
По колхозу шло окучивание картофельных грядок, а в те времена в колхозе села Джиниси эти работы делались вручную, штыковой лопатой и тяпкой – по желанию работника. Кто делал лопатой, тот обрабатывал большую площадь, но было труднее и тяжелее, чем тяпкой, потому что лопатой, как и в случае первичной обработки, работник выкапывал землю посередине двух грядок, поднимал ее и бережно укладывал ровным слоем у корня ботвы картофеля, а тяпкой, как известно, землю тонким слоем с грядки тянешь к кусту. Как только приступали к окучиванию – забывали обо всем, а садились на перекур – вновь начинали.
Главной новостью в этот момент был выход на работу невестки Ильи Пантелеевича, Фроси. Не жены бригадира, а именно невестки Габо, ибо эту новость обсуждали не только в бригаде №3, где бригадирствовал муж Фроси, а во всех бригадах, их было тогда шесть. Интерес к невестке был огромен еще и потому, что она была видная, сногсшибательно красивая: одни голубые глаза и длинные ресницы, кончики которых слегка приподнимались вверх, стоили многого. Кроме того, она имела и осанку такую, словно ее пропустили через самый точный строгальный станок, прилепив к ушам аппетитные ноги. Плюс к тому, училась она отлично. «Володя Габо – самый счастливый человек» – считали сельские парни. А старшее поколение отмечало, что Бог дает каждому то, чего он достоин. Симпатичному умному парню досталась симпатичная умница-жена. Что касается учебы, то в планах Володи было через год отправить свою молодую жену в Цалку, в педагогический техникум, не зря же девушка столько знаний получила, не пропадать же им.
Однако вскоре интерес односельчан к Володиным делам ослаб, появился новый объект их внимания: женился Варнава, младший брат Володи. Все бы ничего, если бы Варнава женился, как положено, нормально, как женится большинство людей на земле. Дело в том, что Варнава был женат на Шуниной Евдокии. Прошло всего два дня, как засватали дочку сельского плотника Агафона. Все было хорошо, несколько бутылок первосортного самогона выпили в доме невесты во время сватовства, молодые сияли, как новые алтынные пятаки, очень скоро вышли вместе на улицу. Что там делали – никто не знает, но в тот вечер молодые обнимались и целовались достаточно. На следующий день Варнава сказал родителям, что пойдет после работы навещать невесту, придет, мол, поздно, чтоб не ждали. Сразу после работы молодой жених направился в сельмаг, а оттуда, известное дело, купив сладости, взял курс в сторону дома плотника Агафона. Ушел из дому вечером, часов в шесть, а вернулся через полчаса и не с Евдокией, а с Маняшей Ильичевой, сельской певицей и танцовщицей.
Все село бурно обсуждало этот случай. Почему Варнава, серьезный парень, женившись по любви, вроде все было вначале хорошо, выкинул, видите ли, какой фортель. Было много мнений, самых разных и противоречивых. Человеческая фантазия в этих вопросах очень богата. Высказывались такие мнения, такие причины, что если бы услышала Евдокия Шунина, наверное, повесилась бы. Высказывалось даже мнение, что бедная Евдокия была гермафродитом, и, ложась спать вместе, Варнава заметил шишку там, где не должна была быть она. Зачем ему шишка – у него самого есть такой товар, потому и убежал с постели, даже не одевшись, в одних трусах. Долго думали и гадали джинисцы, почему Варнава бросил, не поженившись до конца, свою невесту. И так, и этак гадали, однако ничего не придумали. Только отцу Варнава сообщил истинную причину произошедшего, и то под настойчивым давлением. Илья Пантелеевич применил всю дипломатию и права отца, хозяина семейства, хотел, чтобы не было в его доме бабников, и мужчины, однажды выбрав жену, состарились бы с ней, как учат законы Христа. Но когда сын сказал: «Отец, я с ней не смогу жить, потому что, зайдя к ним домой, увидел, как она на керосинке готовит суп, сама вся в поту, а пот ручьем льется в кастрюлю. Меня чуть не вырвало, я даже не успел конфеты положить на стол, развернулся и ушел. А Маняшу привел, чтобы ты, отец, не заставлял меня идти снова в дом плотника Агафона и привести эту грязнулю Евдокию».
Что случилось, то случилось. Чтобы не быть уж со всем селом во вражде, Илья Пантелеевич решил сыграть младшему сыну не громкую и пышную, как Владимиру, свадьбу, а отметить женитьбу сына меньшим количеством односельчан и родственников. Поздравлять молодых пришли близкие родственники и близкие соседи, да друзья жениха и невесты. Вот на таком тихом торжестве и отметили бракосочетание Варнавы. До утра, особенно Филипп и Владимир со своими женами, да сестры со своими мужьями, танцевали до упаду под патефон, взятый на время у соседей, сын которых жил в Тбилиси.
Поженив младшего сына, Илья Пантелеевич решил отделить всех сыновей, тем более что были свободны комнаты Терентия и Емельяна. В свое время отделил он старших сыновей, но жизнь у них пошла наперекосяк, все перепутала проклятая война.
– Даст Бог, сейчас этим, младшим, будет лучше. Войны уж точно в ближайшее время не может быть, утерли нос этим немцам-фрицам и прочим врагам, – рассуждал о жизни своих детей Илья Пантелеевич. – Надо, надо их отделить, пусть учатся мудрости жизни и получению от нее удовольствий самостоятельно.
Еще был один весомый плюс этого отделения с разделом имущества. Колхоз выделял огород молодым хозяйствам, а огород здесь играл исключительную роль, практически был кормильцем. Люди деньги держали в руках потому, что продавали картошку из огорода, сыр, масло, мясо домашнего скота. Заработки в колхозе не имели большого значения, погоду и достаток в крестьянских домах не делали. Как они могли, эти заработки, делать погоду, если крестьянин, два месяца отработав на стороне в артели, приносил домой головку сыра и два килограмма масла? Отделиться надо было во что бы то ни стало, чтобы получить огород. И потому, собрав сыновей, сказал Илья Пантелеевич:
– Ребятушки, вы все стали уже семейными. В большой семье жить, конечно, интересно, но чтобы скорее полноправной ячейкой общества стать и быстрее на ноги встать отдельным хозяйством, лучше вам отделиться. Каждый из вас сможет жить, как хочет, как мечтает, как сумеет. Филипп, ты со своей Варварой занимай пока хоромы Терентия. Ты, Владимир, поселись у Емельяна. Варнава переедет в другую комнату, через коридор, будет нашим с матерью соседом, а всем нам уже сейчас надо завезти камней, чтобы пристроить к нашему дому еще столько же комнат. А как же, чтобы всем хватало. Потому, ежели завтра вернутся ваши братья Терентий, Емельян и Василий, им негде будет жить.
Дети послушали, кивнули головой и стали выполнять приказ отца. В тот же день, вечерком после работы, сыновья Ильи Пантелеевича с женами таскали нехитрый скарб, что сложила в узелки Мария Варнавовна, в свои новые жилища.
Осенняя пора в Джиниси хоть и короткая, но достаточно теплая и благоприятная. При желании, за оставшееся до первых снегов время можно было заготовить камней в достаточном количестве. Надо бы сказать, в Цалкском районе в те времена, да и поныне, строили дома не из кирпича или бетонных блоков разных размеров, а ставили стены из базальтового камня. Этого камня в близлежащих горах и ущельях местами было как леса в тайге – бери, не хочу. Задача строителя заключалась в том, чтобы привезти камни на стройплощадку и придать им прямоугольную форму. Этого достигали следующим образом. Если камень был огромного размера – одному не поднять, его раскалывали на несколько частей кувалдой. Но перед ударом специальным молотком, один конец которого был острым, выдалбливали в камне углубление, чтобы три пальца человеческих входили свободно. Потом вставляли туда клин, наподобие зубила, но в два раза толще и в два раза короче, по двум сторонам этого клина пристраивали клинья потоньше, из листового железа, чтобы удержать главный клин. И как замахнешься кувалдой от души, ударишь сердито по клину, тут каменная глыба и расколется, как арбуз, на две части. Другой, тупой конец молотка имел посередине еле заметное глазу углубление, чтобы грани выступали отчетливо и прямой линией, ибо именно они, эти грани, как лезвие ножа, при ударе по бесформенному камню откалывали кусок за куском, придавая камню нужную форму, чтобы можно было его поставить на стену, на раствор. Что касается раствора, то цемента еще тогда не было, из Тбилиси привозить – дорого, а потом, зачем деньги отдавать, которых и так почти нет, если раствором служила испокон веков простая глина, размешанная с соломой. Колхоз выписывал своим членам почти даром глину и солому давал бесплатно, если дело касалось строительства домов.
Изрядно потрудилась семья Габо осенью и зимой этого года. А к лету следующего года задание главы большого семейства Ильи Пантелеевича было выполнено. Буквой «г» к основному дому были пристроены две большие комнаты с коридорами, коридоры были такие большие, что практически служили и кухней, и столовой, и прихожей. В комнату шли в основном спать, пока не было детей у сыновей и невесток. Словом, стены и крыша новых жилищ для сыновей Габо были готовы, оставались работы по отделке. Но так как жить было где, начинать отделку сыновья Ильи Пантелеевича медлили, тем более что пошли дети, которым нужны были малые, но денежные расходы. У Филиппа появился мальчик, назвали его по имени героя сказки « Алладин и волшебная лампа» – Алладином; была уже беременна Фрося – вот-вот должна была «поймать в капусте» кого-нибудь. Никаких признаков беременности не было у Маняши, хотя шел второй год ее замужества, но ждали, что все будет хорошо, ведь есть женщины, которые могут зачать и позже, даже через пять, десять лет. Однако не пять и не десять лет пришлось Илье Пантелеевичу ждать, чтобы его невестки стали матерями. Буквально за несколько лет дом Ильи Пантелеевича наполнился малышами, у каждой пары – что дочери, что сыновья – появилось по два ребенка, и все – мальчики. И дом Ильи Пантелеевича превратился в настоящий детский сад. Я имею в виду ту часть дома, где жил Илья Пантелеевич со своей Марией Варнавовной. Молодые отцы и матери с утра приводили к свекрови детей, оставляли их на попечение стариков, а сами шли в колхоз зарабатывать деньги. Должен был зарабатывать деньги и Илья Пантелеевич. Дети хотят есть. Не скажешь: «Филипп, Варнава, денег у меня нет, дайте денег на еду для ваших же детей». Зарабатывай, если ты мужчина. Тем более что сам Илья Пантелеевич учил своих детей, когда они были еще подростками: «Настоящий мужчина должен брать с собой с утра один рубль, а вечером принести три, пять». Сам он лично так и поступал, когда надо было восемь ртов накормить. Слава Богу, кроме своего хозяйства, Илья Пантелеевич немного, но зарабатывал своим природным Божьим даром: был во всем Цалкском районе костоправом, причем хорошим. А потому в эти голодные годы люди, приходящие к нему лечиться, не только были благодарны словесно, но и приносили кто что мог. Яиц десяток, полкило масла, своего, свежесбитого, головку сыра и так далее. В доме Ильи Пантелеевича никогда не было, чтобы на столе стояла одна картошка. Были до войны такие годы, что хлеба джинисцы досыта не едали. Теперь, конечно, другие времена, куда сравнить. Даже колхоз с каждым годом увеличивает дележ урожая, а Москва уменьшает налоги и снижает цены на товары. Илья Пантелеевич имел знакомого в городе Марнеули, что рядом с Тбилиси расположился. В колхозах и совхозах этого района получали по два урожая в год, особенно здесь хорошо росли овощи и фрукты. Помидоры и огурцы тут выращивали у каждого крестьянского двора и в таком количестве, что многие их на корм скоту давали, а в Цалкских холодных условиях помидоры не успевали созревать. Поэтому знакомый Ильи Пантелеевича посылал в Джиниси овощи и фрукты, Илья Пантелеевич продавал все это, в основном, менял на картошку и отправлял в Марнеули. Прибыль, естественно, делили пополам. Что это было, как называлась эта работа двух мужиков? Одни скажут – чистой воды спекуляция. Я скажу – нет. Советская власть тогда разрешала излишки домашнего хозяйства реализовать на колхозных рынках, и колхозники этим разрешением государства пользовались. С другой стороны, конечно, Илья Пантелеевич и его марнеульский знакомый занимались реализацией не только излишков урожая, полученного на своем огороде, но и соседи приносили и просили продать, особенно те, у кого не было в семье мужика-кормильца. Тут как бы пахло спекуляцией, но, с другой стороны, государство само было неорганизованным, не принимало у крестьян излишки продукции домашнего хозяйства и не организовывало их продажу, а потому в цалкских селах овощи-фрукты были редкостью на столах. Детвора на них смотрела как на неисполненную мечту, а в дни религиозных праздников, когда народ собирался у церкви, и рядом продавалось все на свете, иные дети подолгу стояли у ящика с помидорами, приятный запах которых приводил в транс подростка, в карманах которого было много пшика и ни одной копейки. Выбрав самый хороший помидорчик, что лежал ближе к нему в ящике, ребенок хватал его и мгновенно пускался в бега. Из-за одного помидора за мальчиком кто будет бегать? Зато какой праздник был, когда он, укрывшись от всех где-нибудь за забором, начинал неспешно, маленькими порциями откусывать вкусно пахнущий плод. Другой так же поступал с ящиком сладких груш или слив – черных, крупных, спелых, во рту тают. А когда смотришь на только что распечатанный ящик слив, сверху прикрытый газетой «Заря Востока», то слюнки текут рекой. Захочешь полакомиться, захватишь побольше, целую горсть слив и включаешь десятую скорость. Никто за тобой бегать не будет, чтобы поймать. В худшем случае, гнилой помидорчик, огурчик или слива вслед тебе полетит и неизвестно, догонит и попадет на тебя или нет. Что и говорить, пятидесятые и шестидесятые годы были тяжелыми и трудными, в смысле нормальной человеческой жизни, еще конкретнее – в смысле досыта поесть. Илья Пантелеевич, имея в собственном доме мешки и ящики овощей и фруктов, никогда не разрешал своим внукам полакомиться ими. Непослушному малышу, подходившему случайно к открытому ящику или мешку, ремнем по пальцам слегка проходил, приговаривая: «Не подходи туда, куда не зовут». Пожилой человек без пенсии (тогда колхозникам еще не давали пенсии), без постоянного заработка, но имеющий на своем попечении много внуков, которых надо кормить, он трепетно относился к овощам и фруктам, продажа которых приносила пользу его семье. Даже в собственном хозяйстве он уже не мог иметь достаточно живности, чтобы получать доход, позволяющий прокормить семью и хотя бы раз в день угостить внуков. А потому строг был Илья Пантелеевич в порядках и правилах в отношении овощей и фруктов, дающих ему какой-никакой заработок. А что давали за так называемые лечебные дела – можно было считать ничтожным. В основном, никто ничего не давал, не было у них ничего. Самих дед угощал обязательно чаем, а если кто и приносил десяток яиц, то это так редко бывало, что и не помнилось, когда было. Малышню мог дед угостить фруктами только после переборки, вычистив испортившуюся часть плода. Внуков год от года становилось количеством больше и возрастом старше, а дом дедушки был самым шумным и желанным местом. Парни начали шалить, искать, где спрятан сахар или еще что-нибудь вкусное, и потихонечку таскать, не рассказывая об этом родным или двоюродным братьям. Заметив эти фокусы, дед стал прятать от старшей детворы все вкусное и сладкое. Например, сахар он прятал на чердаке крыши, мешочек из белого сатина висел в самом недоступном месте. А мешки и ящики с овощами и фруктами уже не дома, в коридоре или в углу комнаты стояли, а в специально оборудованном месте, рядом с хлевом, где было и тепло, и замок можно было повесить на дверь. Подрастая, дети, естественно, становились умнее, хитрее и смышленее. Кому было шесть-восемь лет, те понимали, что самая настоящая вкуснятина не у бабушки и дедушки, там только сахар, а у самых маленьких, кому еще и года нет. Вот они и следили, под видом игры на улице, куда кладет молодая мамаша печенье, конфету, и как только отлучалась на секунду ничего не ведающая мамочка, взрослые дети тут как тут – реквизировали весь детский паек. Конечно, бывали случаи, когда не успевали парнишки-воришки убежать с места преступления и попадались с поличным. Тогда беседу серьезную проводил дед, делал и физическое внушение, барабаня по головке костяшками пальцев. Но эти воспитательные меры действенного результата не оказывали. Через день-другой наказание забывалось и все начиналось вновь. Уже всем взрослым мальчикам было известно, где хранятся обычно печенье и конфеты. И при желании можно было пойти украсть, если, конечно, не попадешься.



