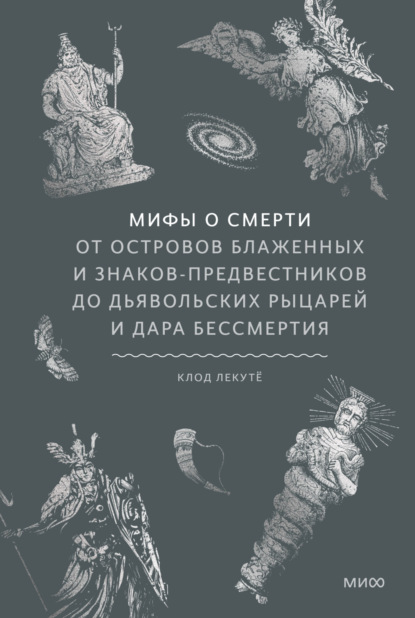
Полная версия:
Мифы о смерти. От островов блаженных и знаков-предвестников до дьявольских рыцарей и дара бессмертия
По прошествии некоторого времени кто-то невидимый обратился к нему со словами: «О Тимарх, о чем ты хочешь спросить?»
Он ответил: «Обо всем, разве не все удивительно?»
«Но от земных дел, – возразил тот же голос, – мы далеки, это область других богов; а удел Персефоны, к которому мы причастны, один из тех четырех, которые обтекает Стикс, тебе, если хочешь, позволено рассмотреть».
Когда же он спросил, что это – Стикс, то получил ответ: «Это путь в область Аида, он в своем обходе касается и света и отграничивает последнюю часть целого от остального. Есть четыре начала всего: первое – жизни, второе – движения, третье – рождения, последнее – гибели. Связывает же первое со вторым Монада соответственно невидимому, второе с третьим – Разум соответственно солнцу, третье с четвертым – Природа соответственно с луной. На каждом соединении восседает как его хранительница дочь Ананки Мойра: на первом – Атропа, на втором – Клото и на обращенном к луне – Лахеса, от которой зависит жизненный путь всякого рождения. Все прочие острова несут богов, луна же, несущая земных демонов, избегает Стикса, несколько возвышаясь над ним, но настигается при каждой сто семьдесят седьмой мере. И когда приближается Стикс, души в страхе подъемлют стенание, ибо многие из них похищает Аид, стоит им только поскользнуться. Прочие же подплывают снизу к луне, которая уносит их вверх, если им выпал срок окончания рождений; но тем, которые не очистились от скверны, она не дает приблизиться, устрашая их сверкающими молниями и грозным рычанием, так что они, горько жалуясь на свою участь, несутся снова вниз для другого рождения, как ты и видишь».

Три Парки / Судьбы, сокрытые в звездах. Картина Э. Веддера. 1887 г.
The Art Institute of Chicago
«Но я вижу только множество звезд, – сказал Тимарх, – которые колеблются вокруг зияющей пропасти, и одни в ней тонут, другие оттуда выскакивают».
«Не понимаешь ты, – вещал голос, – что видишь самих демонов. Вот как это обстоит. Всякая душа причастна к разуму, и нет ни одной неразумной и бессмысленной, но та часть ее, которая смешается с плотью и страстями, изменяясь под воздействием наслаждений и страданий, утрачивает разумное. Но смешение с плотью не у всех душ одинаково: одни полностью погружаются в тело и, придя в смятение до самой глубины, всю жизнь терзаемы страстями; иные же, частично смешавшись, самую чистую часть оставляют вне смешения; она не дает себя увлечь, а как бы плавает сверху, только касаясь головы человека, и руководит жизнью души, поскольку та ей повинуется, не подчиняясь страстям. И вот часть, погруженная в тело и содержащаяся в нем, носит название души, а часть, сохраненную от порчи, люди называют умом и считают, что он находится у них внутри, как будто бы то, что отражено в зеркале, действительно там существовало; но те, что понимают правильнее, говорят о демоне, находящемся вне человека». «Узнай, Тимарх, – слышалось ему далее, – что звезды, которые кажутся угасающими, – это души, полностью погружающиеся в тело, а те, которые вновь загораются, показываясь снизу и как бы сбрасывая какое-то загрязнение мрака и тумана, – это души, выплывающие из тел после смерти; а те, которые витают выше, – это демоны умудренных людей. Попытайся же рассмотреть связь, соединяющую каждого с его душой».
Услыхав это, он внимательно вгляделся в колеблющиеся, одни слабее, другие сильнее, звезды, напоминавшие в своем движении те пробки, которые, плавая на поверхности моря, показывают расположение рыболовных сетей; иные же уподоблялись веретенам с неправильно намотанной пряжей, которые не могут сохранить прямолинейное направление, а отклоняются от оси вращения туда и сюда. Голос же объяснил: «Звезды, имеющие прямое и упорядоченное движение, принадлежат душам, хорошо воспринявшим воспитание и образование, у которых и неразумная часть свободна от чрезмерной грубости и дикости; а те, которые смятенно отклоняются то вверх, то вниз, словно стараясь освободиться от связывающих их пут, борются со строптивым и не поддающимся воспитанию нравом и то одолевают его и направляют в здоровую сторону, то склоняются под бременем страстей и впадают в порочность, но снова восстают и продолжают борьбу. Ибо связь с разумом подобно узде, направляющей неразумную часть, вызывает в ней раскаяние в совершенных проступках и стыд за противонравственные и неумеренные наслаждения: обузданная присутствующим в ней самой властвующим началом, душа испытывает боль, пока она не станет послушной и не будет без боли и ударов воспринимать каждый знак подобно прирученному зверю. Такие души лишь медленно и с трудом обращаются к должному состоянию. А от тех душ, которые от самого рождения охотно покорствуют своему демону, происходит род боговдохновенных и прорицателей. Ты, конечно, слыхал о Гермодоре из Клазомен, душа которого совсем покидала тело и посещала как ночью, так и днем много различных мест, а затем возвращалась, многое повидав и многого наслушавшись, пока жена не выдала его тайну и враги, захватив бездушное тело Гермодора, не сожгли его вместе с домом. Но это неверно: душа его не выступала из тела, а, ослабляя свою связь с демоном, предоставляла ему свободный выход и странствование, так что он мог ей поведать обо всем виденном и слышанном. Уничтожившие же тело покоившегося Гермодора несут наказание в Тартаре еще и поныне. Все это, – продолжал голос, – ты узнаешь точнее, о юноша, через три месяца. Теперь же удались».
Когда голос умолк, Тимарх захотел обернуться, чтобы увидеть, кто был говоривший, но тут он снова почувствовал сильную боль, как будто его голову крепко сдавили, и он на краткое время потерял сознание того, что с ним происходит, а затем, очнувшись, увидел себя лежащим в пещере Трофония недалеко от входа – там же, где он ранее лег[36].
Второе описанное Плутархом видение – это видение Феспесия, который «по указу богов» получил возможность покинуть свое тело «с весомой частью души», в то время как другая ее часть «оставалась на месте, как якорь». Три дня он исследовал астральную обитель, куда приходили и откуда уходили души умерших. Он оказался в точке между Землей и Луной, «преодолев в мгновение ока пространство, выглядевшее невероятно обширным; но столь плавно и без малейшего отклонения, что казалось, будто его, как на крыльях, несут лучи света», а затем внезапно был оставлен силой, удерживавшей его на высоте. Падая, остановился он на краю огромной глубокой пропасти (χάσμα μέγα καὶ κάτω διῆκον), Леты, которая здесь представляла собой нечто вроде расселины, идущей вверх к твердому своду неба, вниз же низвергающейся до самой Земли.
Феспесий из Сол… вел в своей юности очень распутную жизнь. Быстро промотав все свое достояние, он поневоле сделался на время мошенником и старался, жалея о прошлых днях, вернуть себе богатство. ‹…› Не чуждаясь никакого срама, лишь бы от этого было наслаждение или выгода, он быстро приобрел и немалое состояние, и еще большую славу негодяя. Ничто так не способствовало этой дурной славе, как оракул, полученный им от Амфилоха. Говорят, он послал спросить бога, будет ли ему дальше еще лучше жить, и на это последовал ответ, что лучше ему будет только после смерти.
Это, можно сказать, вскоре с ним и произошло. Он упал с высоты, стукнулся затылком и хоть не получил ранения, но впал от ушиба в глубокий обморок и очнулся только на третий день, когда его уже хотели было хоронить. Придя в себя, он вскорости набрался сил, и в его поведении произошла перемена, казавшаяся невероятной. Киликийцы говорят, что не знали человека порядочнее в делах, благочестивее к богам, грознее для врагов и надежнее для друзей. Знавшие его желали узнать из его собственных уст причину этих перемен, не веря, что такое душевное преображение можно было приписать случаю. И это было верно, судя по тому, что он рассказывал Протогену и другим столь же близким друзьям.
Как только его дух отделился от тела, он сперва почувствовал то, что чувствует пловец, сорвавшись с корабля в пучину. Потом он словно вынырнул немного, и ему показалось, что дыхание его восстановилось; он огляделся, и душа его будто раскрылась, как сплошной глаз. Прежде всего увидел он множество звезд необыкновенной величины, которые были безмерно удалены одна от другой, и от них исходил замечательный блеск удивительного цвета и силы, так что его душа в этом сиянии, как корабль в спокойном море, могла плыть легко, плавно и быстро в любую сторону.
Что он там увидел, он рассказывал мало, а сказал только, что поднимающиеся снизу души умиравших образовывали в воздухе, который перед ними расступался, огненные шары; и когда они лопались, то из них выходили фигурки человеческого вида, но совсем маленькие. Двигались они по-разному: одни устремлялись с чудесной легкостью и взлетали прямо вверх, а другие вращались как веретена, порываясь то вверх, то вниз, беспорядочно и путано, пока не замирали медленно и с трудом.
Большинство их было ему незнакомо, но двух или трех он признал и приблизился к ним, чтобы заговорить, но те его не слышали и были как бы не в себе: бесчувственные и бездумные, они избегали его взгляда и прикосновения. Сначала они носились вокруг поодиночке, потом встречались с другими такими же душами, хватались за них, бесцельно неслись неведомо куда, подымая бессмысленный крик, смешанный с жалобами и возгласами ужаса. А другие, плававшие высоко в чистом воздухе со спокойным видом, то и дело благожелательно приближались друг к другу, а от метущихся душ ускользали, сжимаясь, чтобы выразить недовольство, и расширялись, расплываясь от удовольствия. Он заметил между ними, как сообщил он нам, душу одного своего родственника, хотя и не распознал ее отчетливо, потому что был еще ребенком, когда тот умер. Но та душа приблизилась к нему и сказала: «Здравствуй, Феспесий!» Удивленный, он ей ответил, что он не Феспесий, а Арридей. Она же сказала: «Прежде ты был Арридей, но потом будешь Феспесий, потому что ты не умер: по воле богов разумная часть твоего духа прибыла сюда, а другая осталась в теле, как якорь. И вот тебе знак этого теперь и впредь: души умерших не имеют тени и не закрывают глаз». Выслушав это, Феспесий смог лучше собраться с мыслями и заметил, оглядевшись, что за ним следовало ввысь смутное очертание тени, тогда как другие души были прозрачны кругом и светились насквозь. Светились они, однако, не все одинаково. Одни – как полная луна в ее самом ярком сиянии, испускали ровный блеск, нежный, непрерывный и постепенный, другие казались пересечены сверкающей чешуей и светлыми полосами, третьи были пестрые и странные, как гадюки с черными пятнами, а в некоторых зияли заметные щели.
Этот родственник Феспесия (мы будем называть души их человеческими именами) подробно объяснил ему некоторые вещи. Адрастея, сказал он ему, дочь Ананки и Зевса, поставлена здесь в высоте над всеми мстительницей за все преступления. Никто из преступников, ни один, ни большой, ни малый, ни сопротивляясь, ни прячась, не избежит наказания. При ней есть три помощницы: для разных казней, для стражи и расправы. Первой, проворной, по имени Пойна, попадают в руки все те, кто еще не расстался с телом и наказывается телесно. Карает она мягко и оставляет безнаказанным многое, что требует искупления. Пороки, искоренение которых требует большего труда, божество посмертно передает Дике. Наконец, вовсе неизлечимые и отвергнутые Дикою оказываются во власти третьей и самой страшной Адрастеиной прислужницы – Эринии, и она преследует их, как бы и куда бы они от нее не старались ускользнуть и скрыться, а после жестоких мучений она их сбрасывает в пропасть неописуемую и неоглядную.
«Среди наказаний, налагаемых Пойной при жизни, – продолжала душа, – имеются и такие, как у варваров. Например, как в Персии, у наказуемых срывают и бичуют плащи и тиары, а сами они рыдают и молят о пощаде. Есть и другие наказания, имущественные и телесные, не причиняющие боли и не затрагивающие глубины порока, а совершаемые обычно лишь для видимости и впечатления. Но если здесь оказывается кто-либо не очищенным наказанием при жизни, то Дике хватает его душу и выставляет нагую напоказ, чтобы ей некуда было укрыться, спрятаться и утаить свои пороки. Здесь на нее смотрят все и отовсюду. Прежде всего Дике показывает его родителям и предкам – если они добродетельны, то чтобы они отреклись от недостойного, если же они тоже были порочны, то чтобы они смотрели на страдания и мучения друг друга. Это наказание длится долго, покуда, наконец, все их страсти не будут искуплены страданием и болью, которые настолько сильнее и больше телесных, насколько действительность превосходит сновидения».
«Рубцы и синяки от этих пыток у одних сохраняются дольше, у других – меньше. Присмотрись, – продолжала душа, – как пестро и по-разному окрашены души. Черная и грязная окраска присуща скупости и подлости, кровавая и огненная – свирепости и кровожадности; где видна синева, там с трудом преодолена похоть, а злобная зависть порождает лиловатую ржавчину, похожую на сепию каракатиц. В жизни порок коверкает душу страстями, а душа коверкает тело, и оно меняет свой цвет; здесь же этот цвет держится лишь до конца наказания и очищения, а потом исчезает, и душа становится снова бесцветна и блестяща. Но покуда эти краски не сошли, страсти порою возвращаются со спазмами и дрожью, у одних слабо и ненадолго, у других же с большим напряжением. Некоторых тогда удается повторными наказаниями вернуть к должному состоянию и расположению, некоторых же силы неведения и сластолюбия загоняют отсюда в звериные тела: ибо иные из них по слабости разума и неумению размышлять рвутся к детородным действиям, а другие, не имея органов сладострастия, все же ждут утоления желаний через тело, при том, что это оказывается лишь слабая тень и призрак наслаждения, которое неосуществимо».

Семь смертных грехов и дьявол. Гравюра неизв. худ, кон. XV в.
Albertina, Vienna
После этих объяснений душа стремительно перенесла Феспесия через пространство, казавшееся неизмеримым, и полет их, как бы на крыльях световых лучей, был легок и незатруднен. Так он достиг наконец большой, воронкою уходящей вниз пропасти, и здесь почувствовал, что сила, его державшая, покинула его. Он видел, что с другими душами было то же самое: они, как птицы, сбившись в стаю, летали вокруг пропасти, не решаясь перелетать через нее. Было видно, что пропасть внутри, подобно вакхическим пещерам, изукрашена ветвями, травами и пестрыми цветами, и воздух оттуда веял тонкий и легкий, дышавший дивно сладкими ароматами и опьянявший, как вино опьяняет пьющих; и души, упоенные этим благоуханием, преисполнялись радости и ласкались друг к другу. Всюду вокруг царили вакхические ликования, смех, пение и забавы. Душа рассказала, что через эту пропасть Дионис вознесся к богам, а потом вознес туда и Семелу. Место это именовалось Лета. Поэтому душа не позволила Феспесию оставаться здесь, а силою увлекла его прочь, объяснив ему, что наслаждение как бы размягчает и расплавляет разум, а лишенная разума телесность, сырая и мясистая, возбуждает в душе воспоминание о теле, а оно порождает страстное желание произрождения (genesis), само наименование которого происходит от «тяготения (neusis) к земле (epi gēn)» увлажнением отяжеленной души.
Пролетев еще столько же, он увидел издали словно большой кратер и вливающиеся в него струи: одну – белее морской пены и снега; другую – пурпурную, как радуга; остальные – каждая своего цвета, лучащиеся вдаль. Когда же он подошел ближе, то кратер потускнел, краски растаяли, изо всех цветов продолжал сиять только белый. Ему предстали три демона, рядом сидевшие с трех сторон и мерно помешивавшие в кратере. «До этого места, – сказал душеводитель Феспесия, – доходил Орфей, когда он искал душу своей жены[37], но он не мог запомнить виденное и разнес среди людей ложный слух, будто Аполлон делит свое дельфийское прорицалище с Ночью, хотя у них нет ничего общего. На самом же деле Ночь имеет общее прорицалище с Селеною, но и оно находится здесь. Но седалища на земле она не имеет, и предвещания не оглашаются в едином месте, а носятся повсюду меж людей как сны и грезы. И в них здесь смешивается, как ты видишь, простая правда с обманом и хитростью и разносится повсюду».
«Аполлонова же оракула, – сказал он, – тебе не дано увидеть, ибо земная часть души не может взлететь так высоко: груз тела тянет ее к земле». И он повел Феспесия, чтобы показать ему хотя бы свет, льющийся от треножника, по словам его, сквозь лоно Фемиды на Парнас. Но Феспесий при всем великом желании не мог ничего рассмотреть из-за слишком яркого блеска. Он слышал только на ходу высокий женский голос, говоривший стихами, в которых, между прочими предсказаниями, как ему послышалось, было названо время его смерти. Демон сказал, что это голос Сивиллы, которая кружится по небу на лунном лике и поет о грядущем. Феспесий хотел услышать побольше, но был отброшен как вихрем несущейся луной и успел лишь услышать [немногое]…
После того они обратили свой взгляд на наказания. Зрелище это сразу оказалось мучительно до слез. Феспесий неожиданно увидел друзей своих, родственников и свойственников в жестоких страданиях, позорно и мучительно казнимых, со стонами жалующихся ему на свои бедствия. Потом он увидел собственного отца, в рубцах и ранах, протягивающего к нему руки из пропасти. Его палачи не давали ему молчать, понуждая признаваться в том, что он когда-то коварно извел отравою друзей своих, у которых было много золота. Преступление это при жизни оставалось скрыто, а здесь было изобличено; наказание свое он частично уже отбыл, но теперь его влекли на новое. Феспесий от страха и смятения даже не посмел просить о пощаде для отца; он повернулся и хотел убежать, но тут вместо своего ласкового и доброго провожатого сразу же увидел несколько других, страшного вида, и они погнали его вперед, словно иного выхода отсюда не было. Теперь он заметил, что заведомые злодеи, наказанные еще при жизни, не были здесь терзаемы столь рьяно – разве лишь за то, что оставалось в них неразумного и страстного; и напротив, те, кто прожил жизнь, скрыв порок под славой добродетели, здесь должны были в руках окружающих их других душ с болезненным напряжением выворачивать наружу внутренности, изгибаясь и выкручиваясь самым неестественным образом, подобно морским сколопендрам, которые, проглотив крючок, выворачиваются наизнанку. А другим сдирали кожу и растягивали их, чтобы видно было, как проела и запятнала их порча оттого, что порок угнездился в самой разумной и главной части их существа. Он видел и такие души, которые, как ехидны, сплетались по двое, по трое и помногу сразу: озлобленные и угнетенные всем, что они творили и терпели в жизни, они пожирали друг дружку. Там имелись озера, одно возле другого: было озеро, полное кипящего золота, было другое – из ледяного свинца и третье – из твердого железа. Над ними стояли демоны и словно кузнечными клещами то погружали, то поднимали души тех, кого ненасытная алчность привела к преступлениям. Когда в расплавленном золоте они от жара раскалялись добела, их швыряли в свинцовое озеро; тут они застывали и твердели, как градины, и тогда попадали в железное озеро: здесь их, отверделых и почернелых, дробили и мололи, пока они не теряли своего вида, а затем снова топили в золоте, и мучения их при этих перепадах, по словам Феспесия, были ужасны.
«Но горше всего, – рассказывал он, – страдали те, которые совсем было избыли свою казнь, а теперь казнились вновь. Это были души, преступления которых должны были искупить их дети и потомки. Каждый из тех потомков, являясь сюда и видя их, набрасывался на них злобно и с криком, показывая им следы своих мук, коря их и преследуя по пятам. Виновные старались ускользнуть и скрыться, но не могли: палачи опять налетали на них и гнали их, воющих в предчувствии новой казни, а души потомков вцеплялись в иных, как рой пчел или летучих мышей, пища от бешенства и злобы за все, что они из-за тех перенесли».
Наконец, он увидел и души, предназначенные ко второму рождению – их вминали и вламывали в звериные тела, и приставленные к этому демоны молотами и крючьями выделывали им новые члены, поправляли другие, отгибали третьи, обтесывали и вовсе удаляли иные, с тем, чтобы приладить их к новому образу жизни. Среди них видна была душа Нерона, теперь, после тысячи других мучений, прокалываемая раскаленными иглами. Для нее был уже изготовлен облик Пиндаровой ехидны, чтобы она в нем жила, прогрызшись на свет из утробы матери, когда вдруг вспыхнул ослепительный свет и из него прозвучал голос, повелевающий обратить эту душу в существо более мирное – из тех, что поют на болотах и озерах. Ибо он уже достаточно наказан за свои преступления и заслужил от богов благоволения хотя бы за то, что освободил лучший и благочестивейший из подданных ему народов – эллинский.
Всему этому Феспесий был только зрителем; но когда он уже поворачивал вспять, ему пришлось испугаться и за себя. Некая женщина, необычайного роста и красоты, схватила его и сказала: «Ступай сюда! Вот тебе, чтобы ничего этого ты не забыл!» И она хотела прикоснуться к нему раскаленным прутом, какой употребляют живописцы, но другая ее удержала от этого. Сам же он, словно увлекаемый внезапным и резким порывом, как ветер в трубку вошел в свое тело и открыл глаза, почти что у самой могилы[38].
Здесь мы видим большинство описательных элементов, которые являются определяющими чертами средневековых видений. Они же стали почвой и для видений, изложенных в произведениях Вергилия и Овидия.
Греческий философ V века Прокл Диадох записал видение Клеонима, рассказавшего, как душа его отделилась от тела и поднялась на высоту, позволившую ему увидеть мир внизу:
Клеоним, афинянин… сильно опечалившись по поводу смерти одного из своих соратников и предавшись отчаянию, казалось, умер и был возложен согласно обычаю; но его мать, обнимая его, снимая с него одежды, целуя его, почувствовала слабое дыхание и, чрезвычайно обрадованная, отложила погребение. Вскоре Клеоним вернулся к жизни и рассказал обо всем, что видел и слышал, пока душа его была отделена от тела. Он сказал, что душа его, словно освободившись от оков, воспарила из тела, и, вознесшись над землей, он увидел места очень разные как по форме, так и по цвету, а также потоки неизвестных людям рек. Наконец он достиг некой области, посвященной Весте, которая находилась под управлением сил даймонов, воплощенных в неподдающихся описанию женских образах[39].
В шестой книге «Энеиды» (стр. 233 и далее) Вергилий рассказывает о посещении Энеем, ведомым Кумской сивиллой, царства теней. Энею приходится также пересечь реку Ахерон, но не по мосту, а в лодке Харона. Затем он видит Поля скорби и приходит к развилке. Правая дорога ведет в Элизий, а левой дорогой «злые идут на казнь, в нечестивый спускаются Тартар»[40]. Он видит огненный поток Флегетон и железную башню, из которой доносятся стоны, скрежет железа и лязг цепей.

Карта ада. Иллюстрация к книге VI поэмы Вергилия «Энеида».
Le Magasin Pittoresque, Paris, 1850 / BnF
Эта история пользовалась большой популярностью и была переведена на французский примерно в 1160 году, а на средневерхненемецкий – примерно в 1170 году Генрихом фон Фельдеке. Две эти работы способствовали распространению античных представлений об аде. В этих описаниях загробного мира очень точно отражены ключевые элементы, характерные для литературы откровений. Текст Вергилия повлиял также на образ ада (Inferno), созданный Данте Алигьери (1265–1321), который в свою очередь вдохновил Боттичелли на создание этой иллюстрации.

Карта ада. Иллюстрация С. Боттичелли к «Аду» Данте, ок. 1480–1490 гг.
The Vatican Apostolic Library
Также, вероятно, всем знакомы иллюстрации Гюстава Доре, изображающие ад Вергилия и врата в него.

Врата ада. Иллюстрация Г. Доре к песне VIII «Ада» Данте, ок. 1861 г.
Dante Alighieri; Cary, Henry Francis; Doré, Gustave (illustrations). Dante’s Inferno. New York: Cassell, Petter, Galpin & Co, 1866

Река Стикс. Иллюстрация Г. Доре к песне VIII «Ада» Данте, ок. 1861 г.
Dante Alighieri; Cary, Henry Francis; Doré, Gustave (illustrations). Dante’s Inferno. New York: Cassell, Petter, Galpin & Co, 1866
Латинская поэма «Архитрений» («Великий плакальщик»)[41], которую Иоанн Ховильский посвятил в 1184 году Уолтеру Кутанскому, была написана как подражание античным авторам. В ней рассказывается о путешествии молодого человека в ад, где он встречает фигуры, хорошо известные авторам Античности: фурий Мегеру и Тисифону, причем для имени Тисифона он использует этимологию Фульгенция: «мстительница за убийство». Согласно Иоанну Ховильскому, падение Люцифера разделило мир, однако Тартар «изливается» и на землю. Как справедливо отмечает Катрин Клаус, ад «стал гиперболой нравственных страданий в мире и знаком мирового беспорядка»[42]. Однако герой посещает и райский остров Тило, напоминающий Эдемский сад[43].



