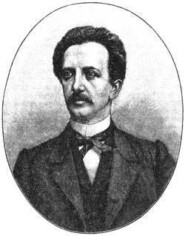 Полная версия
Полная версияФердинанд Лассаль. Его жизнь, научные труды и общественная деятельность
Мы сочли нужным остановиться здесь на указанных недостатках в рассуждениях Лассаля главным образом потому, что они проходят красной нитью через все остальные его речи. Покончив с ними раз и навсегда, у нас не будет больше надобности возвращаться к ним.
Несмотря на свой серьезный и почти академический характер, лекция Лассаля вызвала немалый переполох среди буржуазии. Но так как Лассаль к тому времени не порвал еще окончательно с прогрессистами, то их печать ограничивалась лишь нападками на частности, упрекая Лассаля в натяжках и преувеличениях. Щекотливый же вопрос о господстве «четвертого сословия» она дипломатически обходила молчанием. Иначе отнесся к делу берлинский прокурор. Он возбудил против Лассаля обвинение в том, что своей лекцией он подверг опасности общественное спокойствие. С этого момента для Лассаля открывается новая трибуна для проповеди своих убеждений – скамья подсудимых. Судебные преследования посыпались на него, как из рога изобилия. Но и эти преследования, и новая удесятеренная борьба с противниками оказались по отношению к Лассалю тем молотом, который, по выражению поэта, дробя стекло, кует булат.
16 января 1863 года в берлинском уголовном суде разбиралось дело Лассаля по упомянутому выше обвинению. Появляясь в суде, Лассаль никогда не помещался за решеткой, на обычной скамье подсудимых. Он вел себя не как подсудимый, а точно профессор в университетской аудитории. Он приносил с собою груду книг и газет, из которых черпал аргументы для своей защиты. После маленького препирательства с судом Лассаль обыкновенно усаживался возле своего защитника, на столе которого он располагал свою бумажную армию. Речи защитников ограничивались обыкновенно заявлениями, что всякое добавление с их стороны лишь ослабило бы то впечатление, которое произвела речь «господина обвиняемого», как величали Лассаля не только защитники, но и суд вместе с прокурором. Обыкновенно же защитники Лассаля играли роль миротворцев между ним и судом в минуты тех частых, исполненных крайнего драматизма, инцидентов, какие вызывало поведение Лассаля на суде, его манера говорить резко, прямолинейно, без оглядки на настроение судей и прокурора. Нередко случалось, что суд по требованию уязвленного обвинителя лишал Лассаля слова. Нисколько этим не смущаясь, Лассаль продолжает говорить. Прокурор и президент суда кипятятся и кричат Лассалю, чтобы он замолчал. Но тот и в ус себе не дует. Он засыпает суд целым ворохом параграфов, в силу которых суд обязан-де дать ему «экстраординарное» слово, чтобы возразить против законности только что принятого судом решения. Оказывается, что Лассаль прав. Он действительно имеет законное право возражать «au fond», то есть специально против этого решения. Лассаль убедительно доказывает суду, что тот в данном случае решительно не имел никакого права лишать его слова, что вопреки закону тот усмотрел оскорбление прокурора там, где его вовсе не было. Кончается тем, что президент суда после совещания с судьями констатирует, что Лассаль в самом деле прав, и предоставляет ему слово для дальнейшей защиты… Как раз такого рода инцидент случился на первом, самом бурном судебном разбирательстве, в котором Лассаль произнес свою знаменитую речь «Наука и работники».
В своей защите против обвинения в том, что его лекция «Об особенной связи…» – не научное произведение, а «демагогическая махинация», Лассаль в блестящих выражениях и с помощью убедительных аргументов доказывает суду несправедливость такого обвинения. Ссылаясь на двадцатую статью прусской конституции, которая гласит: «Наука и ее учение свободны», он доказывает, что его лекция – безусловно научное произведение. На основании необыкновенно богатого и яркого исторического материала он показывает, что наука всегда пользовалась свободой. Свою жизнь, говорит Лассаль, он посвятил науке. Его ученость – лучшая гарантия против разнузданной демагогии. Если благородные и просвещенные члены нации покидают народ, то вожаками последнего становятся самые грубые люди. «В том-то и состоит величие нашего века, – восклицает Лассаль, – что ему суждено привести науку к народу. Только два элемента европейской жизни сохранили свое величие, а также свежесть и способность к развитию среди губительной чахотки царящего своекорыстия, – это наука и народ, наука и работники». Люди науки, которые хотят убрать преграду, отделяющую буржуазию от народа, заслуживают места в Пританее, а не на скамье подсудимых. Ядовитыми стрелами забрасывает Лассаль прокурора, сына знаменитого философа Шеллинга, опровергая пункты его обвинения цитатами из сочинений его же отца. Свою защиту, посвященную отстаиванию положений его лекции, Лассаль заканчивает следующими словами: «На человека, посвятившего, как я вам сказал, свою жизнь лозунгу „Наука и работники!“, приговор, попавшийся ему на пути, не произведет иного впечатления, чем лопнувшая реторта на погруженного в научные опыты химика. Он слегка поморщится, встретив сопротивление материи, и, как скоро препятствие устранится, будет спокойно продолжать свои исследования и труды. Но ради нации и ее чести, ради науки и ее достоинства, ради страны и ее законной свободы, ради памяти в истории ваших собственных имен, господа президент и советники, я говорю вам: оправдайте меня!..» Однако суд не оправдал Лассаля, а приговорил к четырем месяцам тюремного заключения. Прокурор требовал девять месяцев. Но вторая инстанция, к которой апеллировали и прокурор и Лассаль, заменила этот приговор денежным штрафом в сто рублей.
Судебные речи Лассаля – это прежде всего агитационные речи. В его глазах судьи – не более чем официальные оппоненты публичного собрания, выходящего далеко за стены зала заседания. Своей защите он сразу дает такую направленность, что личность его как бы совершенно отходит на второй план. Наперсники Фемиды и те по его мановению превращаются в какой-то ученый ареопаг, призванный не карать и миловать, а судить о двух мировоззрениях. Когда речь идет о прусском подданном Фердинанде Лассале, обвиняющемся в нарушении таких-то параграфов уложения о наказаниях, внезапно оказывается, что на скамье подсудимых сидит вовсе не Лассаль, а союз «Науки и работников». В другой раз мы слышим в суде академический трактат о косвенных налогах. Лишь изредка Лассаль напоминает нам о том, что мы находимся не на заседании ученого общества, а в зале прусского суда. Но как напоминает! Не в качестве обвиняемого, а в качестве обвинителя, – точно он поменялся ролями с прокурором. Когда Лассаль защищается, – он нападает. Его стратегия – это атака. Он высылает фалангу за фалангой свою рать силлогизмов, из которых каждый окружен, по его словам, «тройной броней науки и истины». Победить для Лассаля – значит убедить. Он избегает всего, что может омрачить рассудочную силу его судей. Он никогда не потчует их медоточивым краснобайством, не апеллирует к их чувствительности. Напротив. Лассаль как бы нарочно делает все от него зависящее, чтобы раздражать их. Но, вынужденные следить за ходом его мыслей, судьи чувствуют себя, точно туристы в связке со своим смелым провожатым, твердой поступью взбирающимся вместе с ними от одного аргумента к другому, словно с одной скалы на другую, пока глазам их не откроется целый Монблан силлогизмов, озаренных светилом его огненного красноречия. Неотразимое чувство умиления овладевает судьями. Они почти тронуты. Они убеждены. Они побеждены. Конечно, это не мешает им в некоторых случаях выносить наказание Лассалю. Но делают они это лишь ad majorem justitiae gloriam[8]…
Хотя речи Лассаля в общих чертах подвергались им всегда предварительной отделке, они тем не менее производили на слушателей впечатление импровизированного творчества. Лассаль обладал замечательным даром вставлять в свои речи возражения по поводу неожиданных препирательств на суде или в публичных собраниях так искусно, что никому не приходило в голову, что оратор приготовил свою речь дома. Несмотря, однако, на свое необыкновенное красноречие, Лассаль не всегда отличается тонким художественным вкусом. Его метафоры нередко поражают риторической напыщенностью и ходульностью. Он любит «крепко нарумяненные» выражения. Из степеней сравнения – превосходная пользуется у него наибольшим почетом. Свои агитационные поездки Лассаль называл «военным смотром» своих «батальонов». Своим противникам он наносит не просто удары, a Keulenschläge – удары «палицей». О прокуроре, сомневавшемся в научном характере инкриминируемой лекции, он говорит: «Что же за чудовище учености этот прокурор, если всего этого недостаточно, чтобы придать в его глазах сочинению достоинство научности!..» Закон заработной платы он называет, как мы увидим ниже, «железным законом». Лассаль то и дело говорит о «железной руке», о «железных приемах». Победив однажды прогрессистов на их собственном собрании, он пишет: «Я разбил прогрессистов в течение двухдневного сражения при помощи той армии, которую они повели против меня». Таков Лассаль – оратор и стилист. Недюжинный человек, он нуждался в сильном языке для того, чтобы передать все «вибрации», весь внутренний трепет вдохновлявшей его страсти.
Читателю уже известно, что период так называемого «военного конфликта» был временем лихорадочной агитации прогрессистов в рабочей среде. Но в силу инерции рабочие пошли дальше, чем того хотелось, по-видимому, прогрессистам. Обстоятельство это неизбежно вело рабочих к постепенному разочарованию в панацеях, рекомендованных Шульце-Деличем. Да и вообще обращение прогрессистов с рабочими наводило последних на серьезные размышления о «гармонии между трудом и капиталом». Когда рабочие захотели стать активными членами так называемого прогрессистского «Национал-Ферейна», задавшегося целью объединить Германию под главенством Пруссии, прогрессисты отказали им в этом. Они говорили, что «рабочие – прирожденные почетные члены» Ферейна, но пользоваться правом голоса в качестве активных членов они не могут. «Король в социальной области» отечески советовал рабочим «сберечь» членские взносы, дабы они со временем смогли стать «капиталистами». Понятно, что такие ответы и такая опека со стороны «естественных руководителей» не удовлетворяли более развитых рабочих. Они стали подумывать о созыве рабочего конгресса для обсуждения своих дел. Как раз в 1862 году в Лондоне происходила Всемирная промышленная выставка, которую посетили, между прочим, по инициативе прогрессистов же, и делегации от германских рабочих. По возвращении на родину эти делегаты особенно настоятельно дебатировали вопрос о конгрессе.
Не нужно упускать из виду еще и то обстоятельство, что среди массы рабочих, шедших на политических помочах прогрессистов, были и такие, которые хранили старые традиции рабочих обществ, сметенных реакцией в 1854 году. Идеи, одушевлявшие эти общества, не были новостью в Германии уже со времен портного Вейтлинга, действовавшего в сороковые годы XIX века. Кроме того, еще до «Программы рабочих» Лассаля в печати давно уже появился целый ряд весьма важных сочинений Маркса и Энгельса, которые были, как известно, не только учеными, но и политиками пролетариата. У них были, конечно, друзья и соратники в Германии, особенно на Рейне. К тому же между делегатами, приехавшими посмотреть Лондонскую выставку, многие встречались с кружком Маркса. Такого рода члены прогрессистских «Союзов самообразования» не замедлили оказаться настоящим «даром данайцев», и при первом появлении Лассаля на политической арене они стали чутко к нему прислушиваться. Когда зашла речь о созыве конгресса, то Центральный комитет, выбранный для этой цели лейпцигскими рабочими, обратился в феврале 1863 года к Лассалю с письмом следующего содержания:
«Милостивый государь! Ваша брошюра „Об особенной связи современного исторического периода с идеей рабочего сословия“ встречена была здешними рабочими с величайшим сочувствием, и Центральный комитет высказался в Вашем духе в „Рабочей газете“, издававшейся либеральным „Национал-Ферейном“. В то же время с различных сторон высказываются очень серьезные сомнения в том, что рекомендуемые Шульце-Деличем товарищества могут оказать действительную помощь ничего не имеющей рабочей массе и надлежащим образом изменить ее положение в государстве. В 6-м номере „Рабочей газеты“ Центральный комитет высказал свой взгляд на этот предмет. Он убежден, что при современных условиях названные товарищества не могут служить для этого действительным средством. Но так как идеи Шульце-Делича повсюду проповедуются как руководящие идеи рабочего сословия и так как помимо указанных Шульце-Деличем могут быть еще другие пути для достижения нашей цели: улучшение положения рабочих в политическом, материальном и умственном отношениях, то Центральный комитет на своем заседании 10 февраля текущего года единогласно постановил: просить Вас высказать, в той или другой форме, Ваш взгляд на рабочее движение, на средства, которыми оно должно пользоваться, а в особенности на значение товариществ для беднейшего класса народа. Мы высоко оцениваем взгляды, высказанные Вами в вышеназванной брошюре, и сумеем оценить Ваши дальнейшие сообщения…»
Само собою разумеется, что, получив такое письмо, Лассаль не заставил себя просить дважды. К тому времени он уже окончательно порвал с прогрессистами и мог поэтому отвечать на поставленные ему вопросы без всякой оглядки на то, понравится ли им это или нет. уже 1 марта 1863 года появился в печати «Гласный ответ» Лассаля. Этот «Ответ» послужил сигналом к повсеместной агитации в его духе.
В своем «Гласном ответе» Лассаль прежде всего советует рабочим порвать с прогрессистами и сделаться самостоятельной политической партией. Прогрессисты показали свою политическую бесхарактерность и отсталость, видя идеал Германии в объединении ее под прусской каской. В экономическом отношении он признает шульцевские товарищества совершенно недостаточными. Они могут поправить положение отдельных единиц, но не целого класса. Частная самопомощь и сбережение никаких осязательных результатов дать не могут. Что рабочий сбережет как потребитель, то он потеряет как производитель, так как его заработная плата непременно понизится. От 89 до 96 процентов прусского населения страдает, по словам Лассаля, под гнетом железного и жестокого экономического закона, в силу которого, под влиянием предложения и спроса на труд, средняя заработная плата всегда ограничивается «пределами, по существующим у данного народа привычкам, безусловно необходимыми для существования и размножения». Повышение платы ведет к умножению браков. С ростом же народонаселения усиливается предложение труда: плата понижается до прежнего уровня. Если же она упала ниже этого уровня, то проистекающая отсюда нищета ведет к уменьшению числа рабочих рук: плата опять поднимается на прежнюю высоту. Из общей суммы производства, говорит Лассаль, выделяется лишь часть, потребная для скудного пропитания рабочих, остальное остается барышом предпринимателей. Положение рабочих может радикально измениться лишь тогда, когда весь доход от производства будет идти в их собственную пользу. А это возможно лишь при производительных товариществах с государственным кредитом, обнимающих собой весь рабочий класс. Государство, которое помогает капиталистам строить железные дороги и притом так, что несет от этого убыток, а барыш идет капиталистам, должно, по его мнению, помогать кредитом и рабочим, которые, по его расчету, составляют 96 процентов всего прусского населения. Верным же средством к достижению этой цели мирным и законным путем Лассаль считает и рекомендует общее и прямое избирательное право. Только предложенные им меры, говорит он, могут повести к политическому, материальному и умственному подъему «четвертого сословия». Для успешной же пропаганды проповедуемых им идей он советует основать «Общегерманский рабочий союз». Такой союз, состоящий из ста тысяч немецких работников, из которых каждый вносит по три с половиной копейки в неделю, будет располагать ежегодно суммой в сто шестьдесят тысяч рублей на распространение своих идей. Если от 89 до 96 процентов населения, заканчивает Лассаль свой «Гласный ответ», поймут, что общеизбирательное право есть «вопрос желудка, и потому примутся за него со страстностью утоляемого голода, то нет той силы, которая долго устояла бы против них».
Такова практическая программа Лассаля. Вся его дальнейшая агитация была посвящена разъяснению тех положений и требований, которые он провозгласил в своем «Гласном ответе». Несмотря, однако, на огромный эффект, вызванный ответом Лассаля в рабочей среде, положения его далеко не отличаются той непогрешимостью, какую он им приписывал. Прогрессисты не без основания ополчились против брошюры. Но беда их состояла в том, что вместо дельных и убедительных возражений они сумели выставить лишь свое забавное невежество, чем, конечно, еще более повышали веру в мнимую основательность положений Лассаля. Так, например, прогрессисты утверждали, что «железный закон» заработной платы есть измышление лассалевского «полузнания и дерзости» и что наука политической экономии об этом законе ничего не знает. Между тем этот «закон» столь же стар, как и сама экономическая наука. Его признавали еще Тюрго, Смит и Рикардо, и Лассаль был совершенно прав, говоря, что «он может в подтверждение своих слов сослаться на столько великих и славных имен, сколько их вообще было в экономической науке». Из этого, однако, в действительности нисколько не следует, что данный «закон» верен. В новейший период капиталистического производства с его необычайным ростом производительности труда, с его частыми кризисами, с его огромной резервной армией рабочих и колоссальным развитием путей сообщения, наконец при существовании фабричного законодательства и других факторов, регулирующих до известной степени условия труда, – «железный закон» потерял всякое значение.
Такой же «непогрешимостью» отличается предложенная Лассалем мера относительно производительных товариществ с государственным кредитом. Государственный кредит, предоставленный в непосредственное распоряжение производителей, нисколько не упраздняет неумолимых законов товарного производства. Стало быть, остаются в силе и все сопряженные с ним явления: конкуренция, перепроизводство, застой, банкротство. Другими словами, раз признав законы товарного производства, – как признал их Лассаль, – невозможно ожидать от производительных товариществ уже в эпоху этого товарного производства гарантии на получение участником товарищества полной ценности своего продукта. Это так же невозможно, как, признавая вращение Земли вокруг Солнца, невозможно представить себе какой бы то ни было предмет на Земле, который не был бы подвержен этому закону. Если же Лассаль, как это можно видеть из его позднейшего сочинения «Капитал и труд», мечтал о вовлечении всех производителей данной нации в соответствующие ассоциации, то это означает не что иное, как полную реорганизацию условий современного производства и постановку труда на совершенно новых общественных началах. А раз так, то на первый план выступает именно этот вопрос, а не вопрос о производительных товариществах. Таким образом, даже допустив возможность их осуществления, производительные товарищества были бы, пожалуй, в лучшем случае паллиативом, по существу мало чем отличающимся от паллиативов Шульце-Делича. Да и саму попытку их осуществления Лассаль соединял со странным предположением, что 89—96 процентов прусского населения выскажутся за них, используя общеизбирательное право. От парламента, в котором решающее большинство будет принадлежать капиталистам, Лассаль не мог, конечно, ожидать, что он даст средства на упразднение господ предпринимателей. Но дело в том, что те 89—96 процентов, на которые рассчитывал Лассаль, конечно же, не представляли собой однообразной массы. Кроме городских пролетариев, число это обнимало еще мелких ремесленников, крестьян и сельскохозяйственных рабочих. На последних, пребывающих еще и поныне под «благодатной» опекой прусских юнкеров, вряд ли можно было рассчитывать в ближайшем будущем, а что касается крестьян и ремесленников, то первые очень прочно стояли за неизбежность «работничка» в их хозяйстве, а вторые – за подмастерьев и «учеников». Интересы этих 89 процентов были далеко не одинаковы и их отношение к производительным товариществам в духе Лассаля тоже должно было оказаться весьма разнообразным.
Впрочем, нужно заметить, что сам Лассаль смотрел на производительные товарищества лишь как на «переходную» экономическую меру. Это обнаружила его переписка с Родбертусом[9]. И Родбертус совершенно прав, говоря, что «было два Лассаля: один – эзотерический, а другой – экзотерический». Другими словами, Лассаль считал преждевременным формулировать свои цели в полном соответствии с личным научным убеждением. Для него важно было дать массе конкретную цель, доступную ее пониманию. А это понимание находилось под слишком большим обаянием шульцевских и английских производительных товариществ на чисто акционерных началах. Приходилось, что называется, клин клином вышибать. И Лассаль имел основание считать свой «клин» не только меньшим злом, но даже полезным «заблуждением». Мы встречаемся в истории мысли с заблуждениями, приводившими к благотворным результатам. Химия есть родная дочь алхимии. Колумб был убежден, что доберется ближайшим путем до восточных берегов Азии и до Индии, и – открыл Америку. Приверженцы Лассаля увлеклись общеизбирательным правом во имя заблуждения, то есть во имя производительных товариществ, и пришли к целому ряду плодотворнейших результатов, нисколько не разочарованные тем, что в числе последних было и познание ими своего первоначального заблуждения. Общеизбирательное право вполне оказалось тем «копьем, которое само исцеляет наносимые им раны».
С этой мыслью не могли, однако, согласиться прогрессисты. В их глазах общеизбирательное право было лишь желанным для реакции оружием, чтобы одолеть тогдашнюю оппозицию либералов. И надо признать, что, с точки зрения интересов дня, прогрессисты смотрели на непосредственные результаты общеизбирательного права трезвее Лассаля. Огромная масса населения Германии была лишена всякого политического воспитания и самосознания, и пока что «смеющимся третьим» оказались бы несомненно Бисмарк и его «наперсники». Действительно, тот же Бисмарк, опираясь именно на общеизбирательное право, вел свою внешнюю и внутреннюю политику беспрепятственно в течение двадцати трех лет. Но все-таки оппортунистские возражения прогрессистов бессильны были подорвать принципиальное значение лассалевского требования. Читатель и сам понимает, какой злобой должен был наполнить еретический «Ответ» Лассаля сердца прогрессистов. Они организовали против него настоящий крестовый поход в печати и собраниях, и нет ничего удивительного в том, что огромная масса немецких рабочих смотрела тогда еще на Лассаля глазами прогрессистов. Его считали подручником реакции и агентом Бисмарка. Живо припоминая старые порядки, широкая масса представляла себе производительные товарищества не столько с государственным кредитом, сколько с вмешательством Бисмарка, а такая перспектива отнюдь не была заманчивой. Между тем надежды Лассаля далеко превосходили тот успех, на который он пока еще мог рассчитывать в действительности. В письме к приятелю 9 марта 1863 года Лассалъ писал:
«Брошюра читается с необычайной легкостью. Рабочему должно показаться, что ему говорят вещи, давно известные, которых теперь никто никакими софизмами отнять у него не может. Так как „Ответ“ совпадает с практическим движением, то успех его должен сравниться с успехом „Тезисов“ Лютера в замковой церкви в Виттенберге». Впавши, однако, в раздумье, он тут же прибавляет: «Но, быть может, рабочее сословие еще не созрело. Если так, то я – мертвый человек».
И в самом деле, «Гласный ответ» Лассаля нашел благоприятный отклик лишь в Саксонии, на Рейне и в Гамбурге.
Познакомившись с посланием Лассаля, Лейпцигский комитет первый заявил о своем полном согласии с провозглашенными в нем принципами. Созванное им собрание рабочих высказалось после горячих прений с прогрессистами в том же духе. Тогда комитет обратился к Лассалю с настоятельной просьбой приехать в Лейпциг, чтобы произнести речь в публичном собрании. Лассаль приехал и 16 апреля говорил в присутствии четырех тысяч человек, главным образом рабочих. Речь его отличалась обычным красноречием, но нового он ничего не сказал. Он защищал свой «железный закон» рабочей платы, свои производительные товарищества, отстаивал общеизбирательное право и «отделывал» прогрессистов за их бесхарактерность в политике и невежество в экономической науке. Ссылаясь на сочувствие к нему «великого экономиста» Родбертуса и лейпцигского профессора Вутке, Лассаль заметил, что осуществляются его слова о союзе науки с работниками. Речь его часто прерывалась свистками противников и рукоплесканиями сторонников. Из присутствовавших прогрессистов Лассалю возражал только один оратор, некий Соломон, специально приехавший для этой цели из Берлина. «Классическое» имя не спасло, однако, его обладателя. Лассалю ничего не стоило справиться с ним. Когда в конце заседания комитетом была предложена резолюция в духе Лассаля, то собрание приняло ее большинством голосов против семи. Группа присутствовавших прогрессистов от голосования воздержалась. Это была первая осязательная победа Лассаля. Но до успеха «Тезисов» Лютера в замковой церкви в Виттенберге было еще очень далеко.



