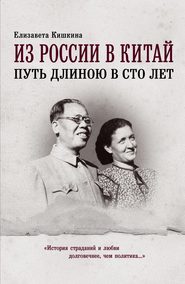
Полная версия:
Из России в Китай. Путь длиною в сто лет
Кульминации страшного бедствия – голода в Поволжье – мы уже не застали, так как мама вовремя приняла решение покинуть Студенку.
Вернувшись туда в 1927 году, на излете нэпа, я увидела Студенку уже иной. В то лето я с мамой приехала погостить у Сергея Павловича в Турках. Двое его сыновей, Алик и Лева, были моими ровесниками, вместе с ними я и совершила поход из села Турки в эту родную мне деревню. Пустились мы в путь на рассвете. Шли босиком по пыльной проселочной дороге, перекинув по-крестьянски обувку через плечо, – так и ботинки меньше снашиваются, и идти удобнее, да и привычнее, ведь все лето мы бегали босоногими. Шли без отдыха, останавливаясь лишь перекусить, присев на обочине. Шаг был молодой и быстрый, так что до заката солнца, отмахав двадцать пять верст, мы оказались у цели, хотя уже с ног валились от усталости. Мать моей подружки Шуры, все та же сердобольная тетя Параня, нас напоила, накормила и спать уложила в амбаре на расстеленных на полу овчинных тулупах. То ли от переутомления, то ли от кислого запаха овчины, а может, от переполнения желудка, мне стало плохо, и я всю ночь выбегала на улицу – все нутро у меня выворачивало наружу. Утром же все будто рукой сняло. Вот что значит быть юным! Никакие хвори не страшны.
В том, 1927, году результаты нэпа были налицо. Деревня Студенка выглядела процветающей. Избы были новые, с садами на задворках, огородами и бахчами – земли-то ведь вдосталь. Скотины в домашнем хозяйстве полно, домашней птицы тоже. Речка Студенка словно пухом белым была покрыта – столько плавало на воде гусей и уток. Удивительные перемены поразили мое тогда еще совсем юное воображение: ведь я покинула деревню, когда на нее надвигался голод.
Сад снимали приехавшие из уездного города Балашова арендаторы. Надо сказать, что и при жизни отца сад тоже сдавали в аренду, оставляя при этом право без ограничения пользоваться фруктами. Сад ведь был настолько большим, что это не причиняло особого ущерба съемщикам. Когда в Балашов на базар (и после революции) привозили фрукты из кишкинского сада, то они шли нарасхват.
Позднее этим садом много лет занимался один студенковский доброхот-колхозник. От природы он был садовод, любил это дело, и сад при нем жил, плодоносил и давал хороший доход. Но как только этого человека не стало, сад лишился своего радетельного хозяина, сделался никому не нужным: заброшенный, одичавший, он зарос травой и кустарником. Сквозь дебри этого словно заколдованного царства не продерешься. Тем не менее сад плодоносит, значит, еще не совсем погиб. Осенью сюда совершают набеги из близлежащих сел и деревень (и даже из Балашова) и машинами увозят бесхозные фрукты.
Когда весной 1993 года я побывала на своей малой родине, мне было мучительно грустно видеть картину запустения и одичания столь мною любимого сада. И совсем не потому, что во мне заговорило чувство собственника. Отнюдь нет! Этого чувства у меня никогда не было, ибо в жизни я ничем существенным не владела. Просто обидно было, что добро пропадает зря.
До революции с плодами из этого сада (да поначалу и после революции) поступали так: продавали их или сдавали на перерабатывающий завод, где изготовляли консервы. Теперь же этим заниматься некому: деревня вымерла. Осталось всего человек сто (в былые времена насчитывалось более тысячи), да и то лишь старики и старушки, доживающие свой век. На широкой, поросшей травой улице не увидишь играющих ребятишек, не услышишь их звонких голосов. А в пору моего детства летними вечерами здесь, взявшись за руки, шеренгами ходили принаряженные парни и девушки. Под залихватскую мелодию гармоники пели знаменитые «саратовские страдания» – частушки. Потом на пятачке отплясывали до утренней зари, а с первыми лучами солнца опять шли в поле.
Если теперь Студенка почти что вымерла, то соседние деревни Ивановка и Журавка вообще исчезли с лица земли (Студенка ныне именуется Студен-Ивановка[17]).
Невольными свидетелями окончательного угасания Журавки стала я с моими спутниками 3 мая 1993 года. Тем вечером мы пошли прогуляться в сторону опустевшей Журавки, которая прежде совсем близко подходила к студенковской околице. Мы присели на крылечко одинокого заколоченного домика, уютно расположившегося в саду, любовались закатом, вдыхали аромат степных трав и слушали звонкие трели соловья. А на следующий день по Студенке мимо нас проехали на грузовике из города дюжие мужики и по бревнышку разобрали дом. Оказалось, купили его на бревна за два цветных телевизора. На этом и завершилась история существования деревни Журавка, ибо тот дом был последним уцелевшим среди вакханалии разрушения. Зарастет теперь деревня травой, и следов от изб не сыщешь.
Запомнилось, как в тот приезд – увы, последний – сижу я на лавочке у избы, стоящей на отлете, на бугре, и смотрю, как вдали на горизонте угасает майская вечерняя заря, как над дорогим моему сердцу садом тучей вьются птицы – вороны и галки, устраиваясь на ночлег в ветвях старых деревьев. Гомона мне их не слышно, но он, знакомый с детства, звучит в ушах. Какое-то непередаваемое словами чувство – приятное и вместе с тем невыразимо грустное – поднимается из глубин души. Как все преходяще в этом мире! Никого уже нет в живых из близких, дорогих моему сердцу людей, да и сама я уже подхожу к последней, завершающей черте жизни.
Заря погасла, птицы закончили свое кружение, угомонились, сгустившиеся сумерки поглотили очертания сада, и я поднимаюсь со скамьи и иду в избу – возвращаюсь в настоящий день.
Глава 3
Переезд в Москву
Перед лицом надвигающегося голода мама быстро оценила ситуацию, написала в Москву двоюродной сестре по материнской линии Софье Николаевне Дьяковой и очень скоро получила ответ. Началась подготовка к отъезду. Вещи, в том числе кое-что из мебели, упаковывались для отправки малой скоростью по железной дороге. Потом их на подводе увезли в Балашов.
По-детски я радовалась возможности увидеть Москву. Еще бы! Большой город, где есть электрическое освещение, о котором я знала только по рассказам. В жизни я видела только керосиновые лампы и свечи, а последнее время мы и вовсе сидели при тусклом свете плошки: в блюдечке с подсолнечным маслом плавал нитяной фитилек, пропущенный через просверленную в картофелине дырку. А там, в этом чудесном городе Москве, стоит лишь нажать кнопку, и сразу вспыхнет яркий свет. Об этом еще при жизни рассказывал мне отец. Будучи начитанным человеком, он удивлял всех описаниями подобных чудес. Много наслышалась я и о высоких многоэтажных домах. «А как же туда лазить?» – размышляла я и мысленно рисовала такую картину: к каждому этажу снаружи ведет лестница, как у нас в сушилке для зерна, по ней люди и взбираются. Страшновато, конечно, потому что высоко, но зато как интересно!
Словом, я была поглощена мыслями о волшебном городе, но к маме не приставала с вопросами: она вся была в хлопотах.
Наступил день отъезда. Было это, по-моему, осенью 1920 года. Меня усадили на телегу посреди узлов и корзин. Мама попрощалась с провожавшими, всплакнула, перекрестилась и сказала: «Ну, с Богом!» И мы тронулись в дальний путь.
Перед отъездом из Студенки мне срезали буйные льняные кудри, остригли наголо. Такой вот – в панаме на бритой голове, в пальто со складками, сшитом мамой из сурового полотна, – я себя и запомнила.
Я еду на телеге, зажатая со всех сторон поклажей. Меня, маленькую девочку, это не раздражает, так же, как и тряска нашего «экипажа» и мелкая трусца лошаденки. Я спокойно сижу и смотрю вокруг: по обеим сторонам проселочной дороги поднимается необозримое воинство подсолнечников, склонивших свои отягощенные поспевающими семечками головки в ореоле желтых лепестков. Возница наш спрыгивает с телеги, откручивает подсолнечную шляпку и дает мне. Я шелушу семечки и с интересом созерцаю заново открывающийся для меня мир.
А не так уж и давно, по рассказам взрослых, меня, годовалого ребенка, вывозили на прогулку совсем по-иному. Летом к крыльцу подавали коляску на рессорах, запряженную серым в яблоках рысаком. Кучер взбирался на козлы, а позади на мягкое сиденье усаживалась няня со мной на руках. Зимой же меня катали в легких санках с теплой меховой полостью. Так немолодые уже родители бездумно баловали свою дочку. И что бы вышло из меня, если бы подобного рода баловство продолжалось? Капризная барышня. Но судьба распорядилась по-иному – крутой перелом в жизни родителей определил и мою дальнейшую жизнь.
Садиться в поезд мы должны были на станции Аркадак – это верстах в сорока от нашей деревни. По дороге заехали на хутор, где была создана сельскохозяйственная артель «Задруга» – нечто вроде сельской коммуны. Главным агрономом там был муж Ани (Анны Павловны), одной из моих сестер, – Томас Арнольдович Зилес. (Его немецкое происхождение сильно подвело его во время репрессий 30-х годов, он тогда оказался в тюрьме, правда, ненадолго.) В семье у Ани с Томасом было много ртов: кроме своих двух детей – Марины и Димы – они приютили еще осиротевших детей Кати – Лену, Мишу и Нину, у них жила и наша тетка Надежда Семеновна. Этой старой женщине, привыкшей чувствовать себя полновластной хозяйкой в имении, выпала незавидная доля превратиться в безгласную нахлебницу. Гордая ее натура не могла примириться со всем происходящим, с положением бесправной приживалки, и она решилась на трагический шаг. Вскоре после нашей последней встречи, как-то вечером, она тщательно помылась, обрядилась во все чистое, испросила у всех прощения за нанесенные им обиды и отправилась в коридор, где за неимением другого места стояла ее кровать. Наутро ее нашли мертвой в постели: она отравилась, приняв, как и мой отец, цианистый калий.
Жила семья Ани в небольшом деревянном доме, где прежде обитал владелец хутора. Позади дома находился фруктовый сад, не такой, конечно, большой, как в Студенке. В саду размещался пчельник – с десяток ульев, принадлежавших артели. На хуторе я встретила старого знакомца Бобика. Это был умный лохматый пес-дворняга, любимец мамы. В Студенке он преданно ходил за ней по пятам, а со мной ласково играл. Маме пришлось отдать его сюда, на хутор, поскольку мы собирались уезжать. Позже мы услышали, что Бобик пропал – его увели, и мы с мамой очень этим огорчились.
Мы недолго оставались на хуторе. На лошадях нас отвезли на железнодорожную станцию Аркадак, до нее было всего верст пять.
Ехали мы до Москвы с пересадкой на станции Ртищево, которая была узловой в то время. Остановились у родственницы Варвары Георгиевны Катиной. Муж ее служил начальником тяги на этой станции. Запомнилась мне их большая квартира на втором этаже невысокого домика, очень светлая, с чистыми крашеными полами. Нам и постелили тогда прямо на полу в зале.
Много позже Варвара Георгиевна, которую я по-родственному называла тетя Варя, приезжала в Москву и останавливалась у нас. Устраивали мы ее с еще меньшим комфортом – по-иному не могли, так как сами ютились в одной комнате.
Тетя Варя приобщила меня к опере, взяв с собой в Большой театр на «Пиковую даму». Блистающие позолотой ярусы и балконы, красный бархат лож и партера, яркий свет огромной люстры под потолком – все это, впервые увиденное, меня ошеломило, а музыка Чайковского и прекрасное пение преисполнили восторгом. Не помню, к сожалению, имена тогдашних исполнителей главных партий в этой опере. Знаю, что в то время на сцене Большого театра пели такие знаменитости, как Собинов и Нежданова. Мне позже посчастливилось услышать их в опере Вагнера «Лоэнгрин», но великие певцы к тому времени уже имели солидный возраст и не менее солидную комплекцию, поэтому, на взгляд смешливой девчонки, какой я тогда была, выглядели довольно забавно, если не сказать смешно. В сцене любовного объяснения Лоэнгрина со своей возлюбленной Эльзой они не могли приблизиться вплотную, чтобы обнять друг друга, – полнота держала обоих на почтенном расстоянии. И я едва удержалась, чтобы не прыснуть в кулак. Но голоса певцов оставались по-прежнему божественными.
Последний раз тетю Варю я видела в начале 1942 года. Стояла суровая военная зима. Я с мужем находилась тогда в городе Энгельсе в эвакуации. А оттуда до Саратова рукой подать, стоило лишь по льду перейти замерзшую Волгу. И однажды мы с мужем отправились проведать тетю Варю, которая тогда жила в Саратове. Не без труда нашли ее дом, поднялись по плохо освещенной лестнице. Нащупав кнопку звонка, позвонили. Дверь открыла соседка по коммуналке и провела нас в комнату, где жила тетя Варя. В комнате царил полумрак, было холодно, как в ледяной пещере, – в военные годы из-за дефицита угля жилые дома практически не отапливались. Тетя Варя сидела в глубоком старинном кресле, закутанная с ног до головы, чтобы хоть как-то согреться. Она довольно отрешенно отреагировала на наш визит, хотя, по-видимому, все же была им обрадована. При взгляде на эту дряхлую, скукожившуюся в кресле женщину я невольно подумала: «Боже мой! Да это же Пиковая дама!» Да, Пиковая дама времен военного лихолетья.
Возвращаюсь к моему рассказу. В Ртищеве мы с мамой с трудом втиснулись в поезд, следовавший в Москву. Это был товарняк, перевозивший тогда не грузы, а пассажиров. Вагоны были набиты до отказа мешками, корзинами (благородных чемоданов не водилось) и их хозяевами. Такой поезд называли тогда «максимом» – мне представляется, что по ассоциации с писательским псевдонимом Максим Горький, где последнее слово содержит смысл «горемыка». И впрямь: это были поезда для горемык. Ползли они с черепашьей скоростью, часами стояли на каждой станции, на каждом полустанке. Пассажиры с котелками и чайниками бегали туда-сюда за кипятком.
До Москвы мы тащились несколько дней, что меня, впрочем, нисколько не огорчало. Я сидела довольно удобно на груде вещей, почти под самым потолком, и через верхнее окошечко, какое бывает в товарных вагонах, глазела на пробегавшие мимо поля, леса, деревни. Если же мне вдруг приспичивало по малой нужде, то меня поднимали на руках и держали перед распахнутой дверью вагона, и я, ничуть не смущаясь, преспокойно пускала фонтаны. Так, впрочем, поступали и взрослые. А что поделаешь, коли в товарных вагонах туалетов не водится? Однако, как видите, из любого каверзного положения всегда находится выход. Путешествие в таких условиях наверняка утомляло маму, но она не жаловалась. А что касается меня, то мне тем более все было нипочем. Детский возраст!
Приехали мы в Москву пасмурным сентябрьским днем. Вышли на площадь перед Павелецким вокзалом, и нас оглушили шум и суета огромного города. Извозчик (никаких такси тогда не было) был нам не по карману, и мама наняла мужичка с ручной тележкой. Погрузили нашу кладь, усадили меня на нее, а мама «петушком» затрусила позади. До будущего нашего пристанища было не так уж далеко: надо было попасть к Красным воротам, а оттуда – на Ново-Басманную улицу[18], в 1-й Басманный переулок.
По лестнице, но не приставной, какую я рисовала в своем воображении, а обычной для города, мы поднялись на четвертый этаж дома № 6 в квартиру, где мне предстояло прожить лет семь, а в самом доме – около тридцати лет.
Нас встретила двоюродная сестра мамы Софья Николаевна Дьякова. Приземистая полноватая старушка с мясистым в фиолетовых склеротических прожилках носом, показавшимся мне похожим на свеклу, – моя тетушка мне сразу не понравилась. Потом я ее даже побаивалась, уж очень она была сухой, неласковой со мной. Постоянно корила за непоседливость: «У Лизы словно шило в одном месте! Ни минуты на месте не посидит». Действительно, я была живчик, непоседа. Проникнуться любовью к тетке я так и не смогла и старалась поменьше вертеться у нее перед глазами.
Младший сын Софьи Николаевны занимал какую-то должность в НКПС, а старший, Константин Васильевич, с черной бородкой, в пенсне, был врачом-диетологом, как и его жена. Говорили, что они работали в Кремле. Лет через семьдесят после описываемых событий мне попалась книга «Тайный советник вождя», где рассказывалось о подозрительности Сталина: «Пищу, в том числе воду, принимал с различными осторожностями. Приготовленные блюда обязательно отведывал повар, его помощники – в присутствии охраны и специалиста по ядам доктора Дьякова»[19]. При чтении этих строк сразу в памяти всплыло: «Дьяков – да ведь это же наш родственник, которого я видела в детстве!»
Кстати, такая система предосторожностей, видимо, была скопирована в КНР. У Мао Цзэдуна тоже пробовали пищу повара и врачи. Этим делом занималась сестра моей китайской подруги Ани, Чжао Сюнь (о ней позже).
А в конце 20-х годов волею случая в Кремль попала еще одна наша – студенковская Марфуша, прежде готовившая обеды на «белой кухне». Управлять государством, как обещал кухаркам Ленин, ей не дали, но она теперь заправляла на кухне у Клима Ворошилова. Готовила она великолепно! Иногда по старой памяти навещала нас с мамой и Лену Радчевскую, делилась рецептами.
Перед мамой первым делом встал вполне житейский вопрос: на какие средства нам существовать? И она занялась, как теперь сказали бы, «челночным» промыслом – мелкой безобидной спекуляцией. Пришлось для этого «химичить»: на карточку, которая выдавалась сыну Софьи Николаевны по месту работы для бесплатного проезда по железной дороге, наклеивалась фотография моей мамы. По этой «провизионке», как ее называли, мама вместе с компаньонкой, соседкой по квартире Марией Ивановной Ремизовой, ездила в небольшие городки типа Понырей за яблоками. Отлучались они ненадолго, дня на два, на три, возвращаясь с корзинами пахучих антоновских яблок. Выручка от продаж была невелика, но маленький навар все же был. Благодаря корзине таких вот крупных, с желтым наливом яблок, преподнесенных нужному человеку, нам дали освободившуюся в той же квартире восьмиметровую комнатку. И мы, и наши родственники вздохнули с облегчением, когда расселились.
До революции этот дом № 6 в 1-м Басманном переулке, с эркером-фонарем посередине, постройки 1914 года (можно сказать, что дом – мой ровесник), населяли обеспеченные люди – инженеры, врачи, адвокаты. Квартиры были барские, большие, с комнатами для прислуги. В одну из таких комнаток мы с мамой и водворились. К тому времени квартира, как и все другие в доме, уже превратилась в коммунальную: в ней обитали четыре семьи, наша стала пятой. Позднее, году в 1927, мы перебрались на два этажа ниже – в квартиру № 4. Здесь народу было еще больше, но и комната досталась нам попросторнее. Соседи по квартире были в основном люди интеллигентные – кто купеческого (как Ивановы, жившие через стенку), а кто и дворянского происхождения. В каждой комнате по семье – всего человек тридцать. Но жили дружно, проблемы появились позже, когда начали подселять рабочих, недавно приехавших из деревни.
Только одна квартира сохранила свой прежний барский облик: в ней жила семья Лолейта Артура Фердинандовича, известного строителя-архитектора, одним из первых применившего в российской практике железобетонные конструкции. Лолейт, продолжавший работать при Советской власти, находился на положении высококвалифицированного спеца. Он получал хороший оклад – две с лишним тысячи рублей, для второй половины 20-х годов это была солидная сумма. Квартира Лолейтов не подлежала уплотнению. У них имелась даже прислуга, рыжеволосая веснушчатая девушка по имени Катя. Запомнилась она мне, наверное, потому что наличие прислуги в ту эпоху само по себе стало уже уникальным явлением.
Позже, уже подростком, я стала часто бывать в этой семье, так как подружилась с Ирой, младшей дочерью профессора. Мама ее благоволила ко мне. Меня нередко сажали за огромный, напоминавший мне студенковский стол и угощали всякими вкусностями. Чувствовала я себя очень стесненно и выглядела, наверное, неуклюжей, неловкой. Не зная, как подступиться к тому или иному блюду, я окончательно терялась.
Ира часто подходила к пианино и играла для меня Баха, Шопена, Шуберта, Грига. Слушала я с наслаждением. Все дочери в этой семье, а их было пять, по традиции старых русских интеллигентных семей играли на фортепиано или пели. Устраивались у Лолейтов и любительские музыкальные вечера. Ира приглашала меня, и я, сидя в укромном уголке, с замиранием сердца слушала игру профессиональных пианистов – их друзей. Так во мне пробуждался интерес к музыке. Мне очень хотелось учиться играть на пианино, но у нас его не было и быть не могло. Иметь дома этот инструмент долгое время оставалось моей заветной мечтой, это желание удалось осуществить только в Пекине.
В гостиной у Лолейтов, помню, висела в позолоченной раме огромная картина: на ней была изображена Богоматерь с младенцем Иисусом на руках. Впервые я увидела такое великолепное произведение. До этого мне приходилось видеть только грубо намалеванные маслом дешевые лубочные картинки, какие украшали и нашу комнатушку, и я с удовольствием созерцала одну из них: зимняя ночь, одинокая избушка в лесу, в небе висит круглая, как дыня, луна. Мне очень нравилась эта незатейливая картинка. А тут шедевр итальянского художника Рафаэля «Сикстинская мадонна», как мне объяснила Ира. Правда, это была всего лишь копия, но превосходно выполненная, в чем я могла убедиться много позже, когда увидела в Дрездене, в галерее Цвингер, ее оригинал. В свое время семье Лолейт предлагали продать эту картину, давали хорошие деньги, но они отказались.
Дружба Иры со мной носила несколько покровительственный характер, ведь разница в возрасте у нас составляла целых пять лет. Но это не самое главное – просто Ира в силу своего характера любила опекать младших. Она водила в кино меня и других ребятишек, тратила на нас свои гривенники и двугривенные. В целях экономии мы старались купить билеты подешевле, не дороже десяти-пятнадцати копеек, и ради этого выстаивали длинные очереди. Ходили мы чаще всего в кинотеатр «Ривьера» у Красных ворот. И по сей день за высоким глухим забором стоит этот особняк, обретший, по-видимому, новое назначение. Бывали нередко и в клубе при молочной фабрике Чичкина, что совсем уж близко от нашего дома. Там и за пятачок можно было посмотреть кино. На экранах в то время шли картины и советского производства, и иностранные. Остались в памяти названия: «Дворец и крепость», «Степан Халтурин», «Поручик Киже», поставленный по произведению Ю. Тынянова, а также фильм «Медвежья свадьба» с красавицей актрисой Малиновской и еще картина «Мусульманка», показавшаяся мне весьма экзотической. В ней рассказывалось о жизни совсем незнакомой – о женщинах Средней Азии, обретавших свободу и снимавших паранджу. Любили мы, девчонки и мальчишки тех лет, смотреть на голливудских актеров, таких, как Дуглас Фэрбенкс, скажем, в трюковом фильме «Багдадский вор» и в картине «Робин Гуд» – в роли благородного разбойника. Нравилась нам также очень известная тогда американская актриса Мэри Пикфорд, игравшая, несмотря на свой далеко уже не юный возраст, молоденьких красавиц в белокурых локонах и пышных коротеньких юбочках. Веселый и очень спортивный Гарри Пиль, вытворявший немыслимые трюки (каскадеры тогда не водились), покорял наши юные сердца. С совсем другим уже чувством смотрели мы романтические немецкие фильмы: «Нибелунгов» и «Индийскую гробницу» с актером Конрадом Вейтом. «Великий немой» в те годы еще молчал: картины шли с титрами под аккомпанемент фортепиано, на котором играл тапер, воспроизводивший в музыке все, что происходило на экране: лирические мелодии сменялись бравурными, гремели победные марши или тихо лилась печальная, скорбная музыка.
Эпоха «великого немого» закончилась в Советском Союзе в начале 30-х годов. Помню, как я со смешанным чувством удивления и восторга смотрела «Путевку в жизнь». С экрана звучала живая человеческая речь! Это больше всего поражало.
Но кадры оставались черно-белыми, краски на экране заиграли несколько позднее.
В начале 30-х годов профессор Лолейт трагически погиб – его зарезало электричкой[20]. Причина гибели так и не была достоверно установлена. Со смертью отца начался распад этой семьи – восемь его детей разъехались кто куда и стали жить обособленно.
В доме № 6, кроме Лолейта, тогда обитал еще один «буржуазный спец». До революции это был богатый человек – владелец шелкоткацкой фабрики, которую у него, естественно, конфисковали. Но так как он был знатоком своего дела, то нашли возможным его использовать по работе и выделили для жительства целый полуподвальный этаж вместо прежней квартиры. Время от времени этот человек выезжал даже в заграничные командировки, причем вместе с супругой. Запомнилось мне это, потому что Щенковы (такой была фамилия этой супружеской пары) на время своих отлучек в Италию или куда-то еще просили мою маму присмотреть за квартирой. Для мамы этот приработок был весьма кстати.
В доме жил еще один бывший фабрикант по фамилии Красовский. И тоже в полуподвальной квартире, тогда как на верхних этажах, во всех других квартирах, обитали семьи попроще и победнее – пролетариат. После революции верхи и низы поменялись местами. Хорошо помню, как этот красивый, далеко не старый человек регулярно выходил из своего полуподвала и выводил прогуливать двух великолепных собак – рыжего ирландского сеттера и белого в черных крупных пятнах сеттера-ловерака. Собаки были красавцы, под стать хозяину. В семье Красовских было двое детей: дочь и сын. В конце 20-х годов Красовские через дочь породнились с семейством Лолейт. Но дочь вскоре умерла при родах, не оставив в живых и ребенка. В 30-е годы все эти люди куда-то исчезли, выпали из поля моего зрения, а может быть, отправились в «места не столь отдаленные».

