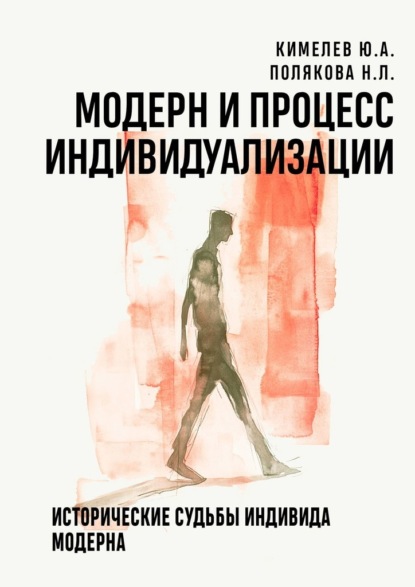
Полная версия:
Модерн и процесс индивидуализации. Исторические судьбы индивида модерна
Следующий эпизод в истории процесса индивидуализации связан с христианством. Индивидуальность христианина оформилась на руинах эллинистического общества и сама идея «о том, что жизнь на земле – всего лишь интерлюдия в вечной истории души, чрезвычайно, – по мнению М. Хоркхаймера, – усилило тенденцию к развитию индивидуальности». Во имя спасения вечной души, продолжает М. Хоркхаймер, христианство утвердило «бесконечную ценность каждого человека», но релятивизировало конкретную смертную индивидуальность. За бессмертие души пришлось расплачиваться «подавлением витальных инстинктов, неискренностью, пропитывающей нашу культуру. Тем не менее, даже это способствовало развитию индивидуальности. Отрицая себя и пытаясь подражать самопожертвованию Христа, индивид одновременно обретает новое измерение и новый идеал, в соответствии с которым он может строить свою жизнь на земле». 59 60
Дальнейшая индивидуализация связана с гуманизмом Ренессанса, который, сохраняя бесконечную ценность индивидуальности в христианском смысле, абсолютизирует ее и тем самым «подготавливает ее крушение».
Реформация, философское Просвещение, либерализм создали новое содержание индивидуализации. «В эпоху свободного предпринимательства, в так называемую эпоху индивидуализма, индивидуальность оказалась почти полностью подчиненной разуму самосохранения… стала своего рода синтезом материальных интересов индивида». Индивидуализм стал основанием и теории, и практики буржуазного либерализма, утвердившего роль и значение свободного рынка и свободной конкуренции, индивидуальных экономических интересов, которые стали выступать естественным социальным механизмом, обеспечивающим как единство общества в целом, так и единство индивида и общества. 61
Либерализм свободного рынка как ничто более способствовал развитию индивидуализма. Либеральный индивид XVIII—XIX веков сохранил целый ряд индивидуальных качеств, унаследованных от аскетической дисциплины христианства, но при этом приобрел новые, укорененные в социально-экономических процессах рынка и промышленного производства. Этими качествами, укорененными в свободном экономическом предпринимательстве, были: независимость; готовность к защите своих прав и собственности; готовность «учиться у прошлого и строить планы на будущее»; независимость мышления и действия, с одной стороны, и готовность «служить интересам общества – с другой»; чувство собственного достоинства и адекватности общественным требованиям и интересам.
В обществах ХХ в., в век большого бизнеса независимый предприниматель, как считает М. Хоркхаймер, превратился в анахронизм. Индивидуальный «субъект разума» превратился в «усохшее Я, заключенное в узкие границы мимолетного настоящего и забывшее о тех интеллектуальных функциях, с помощью которых он некогда был способен перерасти свое актуальное положение в мире». 62
Конформизм, преобладание послушного индивида стало подавляющим. Современный индивид живет, отказавшись от надежды на самореализацию, принося свой индивидуализм в жертву, приспосабливаясь и имитируя свое окружение, умело встраиваясь в крупные организации и добиваясь в них влияния. Под давлением прагматической действительности самовыражение человека, считает М. Хоркхаймер, «стало тождественным его функциям в господствующей системе, и он отчаянно пытается подавлять как в себе, так и в других все иные побуждения». 63
Однако, по мнению М. Хоркхаймера, индивид не утратил способности сопротивляться, несмотря на постоянную атаку коллективных моделей мышления, идеологий, избитых культурных штампов современной массовой культуры и даже политики, проводимой организациями во имя улучшения положения трудящихся. «Массы еще не полностью капитулировали перед коллективизацией», считает М. Хоркхаймер. Несмотря на то, что современные общества представляют собой «тотальную целостность», а «упадок индивидуальности» демонстрируют как высшие, так и низшие слои общества.
М. Хоркхаймер выносит следующий вердикт современности: не технология и не стремление к самосохранению привели к упадку индивидуальности, не производство как таковое, а те формы, в которых оно осуществляется, взаимоотношения людей в рамках индустриализма; превращение прогресса в идол, ведущее к противоположности прогресса; превращение труда в самоцель (а не средство достижения осмысленной цели), ведущие к неприятию всякого труда. В упадке индивида следует винить структуру и содержание «объективного духа» современного общества, который «поклоняется индустрии, технологии и национальности», но не знает принципа, придающего смысл этим категориям, и только отражает «давление экономической системы». «Век безграничной власти индустриализма… движется курсом на ликвидацию индивидуальности». 64 65
2.2.3. «Колонизация жизненного мира системой»:
Юрген Хабермас (1929—)
Теория Ю. Хабермаса так же предлагает пессимистический диагноз современности и судьбы индивида в обществах модерна. Индивид становится жертвой общего процесса рационализации, составляющего главный нерв развития обществ модерна. В отношении перспектив существования индивида в обществах модерна Ю. Хабермас разделяет общую позицию Критической теории.
Обращаясь к теории модерна, Ю. Хабермас особо подчеркивает значимость двух тезисов. Во-первых, расчленение «системы» и «жизненного мира» является необходимым условием для перехода от статусно-стратифицированных обществ европейского феодализма к экономическим классовым обществам раннего модерна. При этом система представляет собой формально организованные сферы действия в области экономики и политики (хозяйство и государство), а жизненный мир структурируется коммуникативно как частная и публичная сфера. Во-вторых, капиталистический образец модернизации характеризуется тем, что символические структуры жизненного мира под воздействием императивов подсистем хозяйства и государства, становящихся через такие символические средства обмена, как деньги и власть, самостоятельными, искажаются или овеществляются. Капиталистическая модернизация следует образцу, в соответствии с которыми формальная рационализация через сферы экономики и государства проникает и в другие, коммуникативно-структурированные сферы, приобретая здесь преимущество за счет морально-практической и эстетико-практической рациональности и вследствие этого вызывает нарушения в символическом воспроизводстве жизненного мира. 66
Прогрессирующе рационализируемый жизненный мир индивида одновременно и освобождается и попадает в зависимость от экономики и государственного управления. Зависимость проявляется в «опосредовании» «жизненного мира» «системными императивами». Зависимость может принимать социально-патологические формы «внутренней колонизации». Но прежде чем аналитически обозначать тот порог, за которым «опосредование» жизненного мира превращается в колонизацию, целесообразно уточнить взаимоотношения между системой и жизненным миром.
1. Капитализм и современное государственное устройство предстают как подсистемы, которые с помощью таких средств, как деньги и власть, вычленяются из системы институтов, т.е. из общественного компонента жизненного мира. Жизненный мир реагирует на это своеобразным способом. В буржуазном обществе формируются социально интегрированные сферы действия, противостоящие системно интегрированным сферам хозяйства и государства. Речь идет о взаимодополняющих друг друга сферах приватности и публичности. Институциональное ядро приватной сферы образует малая семья, освобожденная от хозяйственных функций и специализирующаяся на задачах социализации. Институциональное ядро публичности – это коммуникационные сети, которые поддерживаются культурой с ее учреждениями, прессой, а позднее и средствами массовой информации.
Если монетаризация и бюрократизация, присущие хозяйственной и государственной сферам, проникают и в символическое воспроизводство жизненного мира, а не только в его материальное воспроизводство, то неизбежно возникают патологические побочные следствия.
2. Хозяйственная подсистема подчиняет себе «жизненную форму приватного дома», навязывает потребителям свои императивы. Это обусловливает консумизм, собственнический индивидуализм, установки на достижение и конкуренцию. Повседневная коммуникативная практика подвергается односторонней рационализации в пользу утилитаристского жизненного стиля, которому привержены специалисты.
Подобно тому, как приватная сфера подчиняется хозяйству, так и публичность попадает под господство административной системы. Бюрократическое овладение процессами складывания общественного мнения и волеизъявления расширяет возможности целенаправленного формирования массовой лояльности.
3. «Процессы понимания, на которые центрируется жизненный мир, обусловливают потребность в культурной традиции во всем ее объеме». В повседневной коммуникативной практике когнитивные толкования, моральные ожидания, способы выражения и оценки должны образовывать рациональную связь. Коммуникативная инфраструктура такого рода подвергается угрозе с двух сторон: ей угрожают тенденции «системно индуцированного овеществления» и «культурного обеднения». 67
4. Рационализация жизненного мира делает возможным вычленение самостоятельных подсистем и в то же время открывает «утопический горизонт» буржуазного общества, в котором формально организованные сферы действия (экономика и государственный аппарат) образуют основу для посттрадиционного жизненного мира человека (сфера приватности) и гражданина (сфера публичности).
Деформации, которыми занимались К. Маркс, Э. Дюркгейм и М. Вебер, нельзя сводить ни к рационализации жизненного мира вообще, ни к возрастающей системной сложности как таковой. Ни секуляризация картин мира, ни структурная дифференциация не ведут с неизбежностью к патологическим побочным эффектам. Вычленение и своеобычное развертывание сфер культуры не ведут и к культурному обеднению повседневной коммуникативной практики. Отпадение подсистем, управляемых деньгами и властью, с их организационными формами, от жизненного мира не ведет само по себе к односторонней рационализации или овеществлению повседневной коммуникативной практики. К этому приводит проникновение форм экономической и административной рациональности в те сферы действия, которые противятся переориентации на деньги и власть, поскольку остаются специализированно связанными с культурной традицией, социальной интеграцией, воспитанием, а также остаются ориентированными на взаимопонимание как механизм координации действия. сами по себе
Если мы хотим объяснить патологии, проявляющиеся, по мнению Ю. Хабермаса, прежде всего в утрате индивидом смысла и свободы, то следует указать на неудержимую собственную динамику подсистем, управляемых деньгами и властью, которая означает одновременно колонизацию жизненного мира с присущим этому процессу ограничением возможностей науки, морали и искусства.
Ю. Хабермас отмечает, что теория капиталистической модернизации, пользующаяся средствами теории коммуникативного действия, относится критически как к современным социальным наукам, так и к общественной реальности, которую они призваны постигать. Предметом его критической теории общества являются возникающее через системы патологии жизненного мира или, выражаясь иначе, символическое воспроизводство в постлиберальных обществах. Тем самым реализуется критерий теории общества, ориентированной на Просвещение.
Критическое отношение к реальности развитых обществ обусловлено тем, что они не используют в полной мере применительно к индивиду тот потенциал научения, которым располагают в культурном отношении, а также тем, что эти общества демонстрируют «неуправляемое возрастание сложности». Возрастающая сложность системы, выступая как некая природная сила, не только крушит традиционные формы жизни, но и вторгается в коммуникативную инфраструктуру жизненных миров, уже подвергшихся значительной рационализации. Таковы условия жизни индивидов в позднемодерновых обществах.
2.3. Становление индивида модерна как «процесс цивилизации»
2.3.1. «Процесс цивилизации»:
Норберт Элиас (1897—1990)
Еще одним механизмом, наряду с дифференциацией и рационализацией, осуществляющим процесс индивидуализации, является механизм «цивилизации». Цивилизация – это механизм и вместе с тем процесс обретения индивидом определенных свойств и качеств, выступающих как условие возможности его вступления в социальную коммуникацию с другими индивидами в эпоху модерна, получения им признания со стороны других как на межиндивидуальном уровне, так и на уровне общества в целом. Это процесс одновременного обретения индивидом способности к самоконтролю и создание новых внешних механизмов социального контроля со стороны общества.
В отличие от первых двух механизмов – дифференциации и рационализации – механизм цивилизации возникает достаточно поздно, в период протомодерна. Он является, согласно Норберту Эллиасу, механизмом создания социального индивида модерна.
Н. Элиас, прежде всего, указывает на систему представлений, восходящих к эпохе Возрождения. Начиная с этой эпохи люди во все большей мере воспринимали и определяли человеческий опыт как «опыт самих себя», индивидуализации, обособления своего внутреннего мира от всего внешнего. В социологии эта модель обособленного от мира индивида нашла выражение в понятии действующего «Я», противопоставленного другим. Именно такая позиция становится объектом критики со стороны Н. Элиаса. Подобный монадологический подход может, по мнению Н. Элиаса, стать моделью для развития социологии только с опорой на решающий шаг, сделанный Лейбницем, который заключался в методе дистанцирования от собственного «Я»». Это позволяет воспринимать собственное «Я» не как противопоставленное всему прочему миру, а как одну из сущностей, существующую наравне с другими. 68
«Теория цивилизации, – пишет Н. Элиас, – помогает избавиться от ложного образа человека, возникшего в Новое время и ставшего чем-то само собой разумеющимся… Критика понимания человека, характерного для Нового времени, необходима для понимания процесса цивилизации. Пока мы видим в отдельном человеке некое заданное природой и скрытое какой-то стеной содержимое, то остается непонятным, как возможен процесс цивилизации, проходящий через ряд поколений и меняющий личностные структуры людей, не изменяя при этом их природу». 69
Н. Элиас отмечает то обстоятельство, что обращение к истории как к некоторому альбому «стилей» может создать впечатление о некотором процессе движения «человека готики» к «человеку Возрождения», далее – к «человеку барокко», а от «придворного человека» – к буржуа. Вместе с тем, исторический и социальный анализ убеждает нас в нерасторжимом единстве типа человека и типа общества, в рамках которого он существует и которое им созидается. Задача, по мнению Н. Элиаса, состоит в том, чтобы исследовать индивида и общество не как два порознь существующих объекта, а как хотя и различные, но «нераздельные стороны того же самого человека». 70
Н. Элиас формулирует методологическую позицию, лежащую в основе его теоретических разработок. Эта позиция, прежде всего, предполагает нерасторжимое единство общества и индивида. Он формулирует это следующим образом: «индивиды образуют общество и… всякое общество – это общество индивидов». При этом он подчеркивает, что общество – это нечто большее и нечто иное, чем просто совокупность отдельных людей. Поэтому главным для исследователя становится вопрос о том «как они образуют „общество“ и как получается, что это общество может определенным образом изменяться, что оно имеет историю, которая протекает так, как она действительно протекает, и которая не задумана, не предумышленна, не запланирована никем из отдельных людей, ее образующих». И тем не менее, общество развивается только потому, что многие отдельные люди чего-то желают и что-то делают, но при этом его структура и его исторические трансформации все же явно не зависят от воли отдельных людей. Кроме того, Н. Элиас отказывается от «статического» рассмотрения понятий «индивид» и «общество» в качестве каких-то неизменных состояний. Необходимо, по его мнению, рассматривать эти понятия как обозначения процессов и разрабатывать их в тесной связи с эмпирическими исследованиями. 71 72
На место образа человека как «закрытой личности» Н. Элиас предлагает поставить образ «открытой личности», которая обладает известной автономностью в отношении других людей, но эта автономность никогда не является абсолютной. Люди находятся в сети взаимозависимостей. Эта сеть взаимозависимостей, связывающих людей друг с другом, именуется Н. Элиасом «фигурацией». Фигурация – это «определенная форма связи ориентированных друг на друга и взаимозависимых людей». Люди от природы, а также благодаря обучению, социализации, воспитанию, потребностям всегда предстают как «плюральности», поэтому и следует исходить из картины множества взаимозависимых людей, образующих фигурации, группы, или разного рода сообщества. «Тем самым исчезает характерное для прежнего образа человека разделение на индивида (словно есть индивиды без общества) и общество (словно существует общество без людей)». 73 74
Целью Н. Элиаса является, опираясь на заявленные методологические принципы «фигуративной социологии», создать общую теорию становления модерна как процесса «цивилизации». Ядро такой теории модерна должен, безусловно, составить образ субъекта модерна, т.е. те «разновидности поведения, которые считаются типичными для западного человека», «стандартом поведения и habitus’oм западного человека». «Понятие «civilité», – пишет Н. Элиас, – стало значимым для западного мира в то время, когда были разрушены и рыцарское общество, и единство католической церкви. Оно было воплощением того общества, которое как стадия, как этап специфического характера западных нравов, или «цивилизации», было не менее важным, чем феодальное общество. Само понятие «civilité» является выражением и символом общественной формации, охватывавшей различные национальности, и, подобно церкви, один общий язык – сначала итальянский, а затем все в большей мере французский. Эти языки переняли ту функцию, которую ранее выполняла латынь. Именно в них проявились и европейское единство, построенное на новом социальном фундаменте, и новая общественная формация, как бы образующая его костяк, – придворное общество. Положение, самосознание и характер этого общества и нашли свое выражение в понятии «civilité». 75
Процесс цивилизации – это процесс становления модерна, который выстраивается как одновременное и сопряженное становление социальных структур и становление субъекта модерна с его психологическими структурами. Ключевым историческим пунктом этого процесса стал переход от «рыцарско-феодальной эпохи» к раннему Новому времени, к «придворному обществу», превращению рыцарей в придворных.
Подытоживая свои размышления, Н. Элиас не просто отказывается от представления о человеке как о «homo clausus», ибо без такого отказа невозможно постичь исторически разворачивающийся процесс цивилизации, понимаемый прежде всего как трансформация индивидуальных психологических структур. Н. Элиас отказывается и от понимания этого процесса как сознательно конструируемого процесса. «Мы не обнаруживаем, – пишет Н. Элиас, – индивидов, которые намеренно, сознательно и „рационально“ осуществляли бы изменения; совершенно очевидно то, что „цивилизация“, как и рационализация, не является продуктом человеческого „рацио“ и результатом какого бы то ни было долгосрочного планирования». Цивилизация, как и история в целом «движется вслепую – за счет собственной динамики сети отношений между людьми, за счет специфических изменений в формах их сосуществования. Но мы вполне в состоянии найти в ней и нечто „разумное“ – в том смысле, что мы можем глубже понять этот механизм и заставить его лучше функционировать». Этим «разумным» являются механизмы, лежащие в основе процесса цивилизации, компонентом, или стороной которого является и процесс индивидуализации. 76 77
Процесс индивидуализации также не является ни процессом рационализации, ни процессом намеренного долгосрочного планирования. В истории нет свидетельств того, считает Элиас, что индивидуализация осуществлялась людьми или группами в форме сознательного воспитания. Процесс индивидуализации – это процесс становления цивилизованного индивида модерна, который осуществляется совсем не по плану, однако обнаруживает известный порядок, несмотря на случайность и даже хаотичность человеческих взаимодействий. Именно этот порядок, содержащийся в хаотичном переплетении планов и действий отдельных людей, определяет ход исторического развития, и именно этот порядок лежит в основании процесса цивилизации и индивидуализации. Речь идет о переплетении человеческих планов и действий, которые встраиваются в систему механизмов, формирующих процесс цивилизации и индивидуализации.
Отвечая на вопрос о механизмах, формирующихся в процессе совместной жизнедеятельности людей, которые способствуют развитию процесса цивилизации, Н. Элиас называет прежде всего механизм конкуренции, под давлением которого происходил рост дифференциации общественных функций. Чем интенсивнее шел процесс дифференциации, тем большим становилось число функций, а тем самым и людей, в зависимость от которых попадал каждый конкретный индивид и с которыми он должен был соотносить свое поведение. И тем более строгими становились правила и организация действий.
Индивид в результате этого процесса принуждался ко все более дифференцированному и устойчивому регулированию своего поведения. Это регулирование приобретало характер автоматизма, становилось самопринуждением, хотя и не всегда осознавалось как таковое. Индивиду, как показала история, требуется не только укрепление сознательного самоконтроля, но также и действие аппарата внешнего контроля, действующего автоматически и слепо.
Развитие внутреннего механизма самоконтроля и принуждения происходит на фоне создания механизмов внешнего принуждения – оформления института монопольной организации физического насилия, а также таких более мягких форм внешнего принуждения как деньги и престиж.
Все механизмы принуждения – и внутренние и внешние – работают по преимуществу вслепую. Они определяются такими моментами или показателями как число взаимозависимостей, уровень дифференциации функций и их распределение. При этом следует также помнить, что «процесс цивилизации представляет собой исследование одновременной трансформации психического в целом и социального в целом». 78
Механизмы конкуренции и дифференциации сопряжены с усложнением системы разделения труда; с процессами социального продвижения вверх низших слоев, которые перенимают положение и функции высшего слоя; с уменьшением различий в положении и кодексе поведения низших и высших слоев. Все это Н. Элиас рассматривает как уменьшение контрастов и одновременный рост многообразия, который осуществляется автоматически, поскольку «стремление принадлежать к «высшему»слою и сохранять такое положение оказывает не менее принудительное воздействие на индивида и не в меньшей степени моделирует его поведение, чем стремление находить средства к существованию, проистекающее из простейшей жизненной необходимости». 79
Одновременно осуществляется процесс психологизации и рационализации индивидуального поведения человека, при этом рационализация характеризует процесс изменения психической структуры целого общества: индивидуализация требует от индивида способности к предвидению и расчету. Н. Элиас пишет, что особое развитие получает то, «что мы называем сегодня „психологическим“ подходом к человеку, – точное наблюдение за другими и за самим собой, выявление длинных рядов мотивов и цепочек взаимосвязей. Это обусловлено тем, что непрестанный самоконтроль и тщательное наблюдение за другими сделались элементарной предпосылкой сохранения своего общественного положения». 80
Возрастание самоконтроля, самопринуждения приводило к формированию «специфического „Сверх-Я“, которое постоянно регулирует аффекты человека, подавляет и трансформирует их в соответствии с потребностями общества». Существенным механизмом контроля в этих изменениях являются страх, стыд и чувство неприятного. Это единая констелляция психических чувств, которые осуществляют процесс индивидуализации. «Вместе с взаимозависимостью усиливается и наблюдение друг за другом; чувствительность, а тем самым и запреты, становятся все более дифференцированными, всеобъемлющими и многообразными. Иной способ сосуществования порождает иной набор представлений о том, что должно вызывать стыд и ощущаться как неприятное в поведении других». 81 82
По мнению Н. Элиаса, моделирование влечений, называемое стыдом или чувством неприятного, не в меньшей степени характеризует поведение, чем рационализация. Смещение порога стыда и чувствительности оформляется в habitus’e западного человека одновременно с рационализацией поведения. Н. Элиас указывает, что процесс индивидуализации, связанный с изменением порога стыдливости, приводит к изменению схемы самопринуждения и росту принудительной схемы самоконтроля. Чувство стыда – это не просто результат конфликта индивида с общественным мнением. Это конфликт с «той частью его самости, что репрезентирует это общественное мнение. Мы имеем здесь дело с конфликтом в собственной душе человека – он сам признает себя низким». 83

