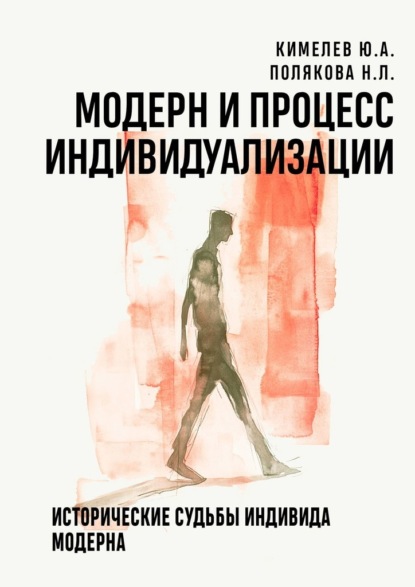
Полная версия:
Модерн и процесс индивидуализации. Исторические судьбы индивида модерна
Общество, согласно Дюркгейму, – это 1) территориальное единство, в основе которого лежит 2) совершенно определенный тип солидарности, основывающийся либо на сходстве сознаний, либо на разделении труда, и обладающее 3) коллективным сознанием, предстающим в религиозных, нравственных и правовых формах. Дюркгейм выделяет два типа общества, отличающиеся друг от друга уровнем индивидуализации, типом коллективного сознания и морфологической структурой.
Первый тип – общество механической солидарности – возникает и существует на основе общности сознаний. В обществе механической солидарности все индивиды обладают фактически одинаковым унифицированным сознанием. Такое общество обладает очень объемным, интенсивным и четко определенным коллективным сознанием, не оставляющим пространства для индивидуального сознания, индивидуализированных интересов, индивидуализированного действия, что связано с детальной проработкой содержаний коллективного сознания. Анализ содержания этого сознания, прежде всего моральных и правовых норм, приводит Дюркгейма к выводу о его репрессивном характере, нацеленном на подчинение индивида коллективу, коллективным целям и интересам, что в свою очередь выражается в преобладании среди моральных норм норм с репрессивными санкциями и уголовного права.
Социальная структура подобного общества характеризуется Дюркгеймом как сегментарная, т.е. состоящая из одинаковых по своей организации территориальных образований – орд, семей, кланов. Морфологически такая структура характеризуется слабыми, малочисленными и редкими социальными связями, низкой моральной и материальной плотностью, а также малым объемом населения.
Что касается второго типа общества – общества органической солидарности, то оно возникает эволюционным путем в результате процесса индивидуализации, постепенно вытесняя и замещая общество механической солидарности. Теория общества органической солидарности разрабатывается Дюркгеймом в тесном единстве с теорией социального развития.
Эволюция осуществляется на основе процесса индивидуализации как движение к развитым формам разделения труда через трансформацию всех основных компонентов общества механической солидарности – как религиозных, правовых и моральных компонентов индивидуального и коллективного сознания, так и структурно-морфологических. Структурно-морфологическая эволюция осуществляется, по Дюркгейму, как «прогрессивное уплотнение обществ в процессе их исторического развития». Оно происходит тремя основными способами. Во-первых, посредством концентрации населения на данной территории. Увеличение количества, рост населения (материальная плотность) ведет к увеличению количества и интенсивности связей и контактов между ними (моральная плотность). Во-вторых, посредством образования городов и их развития, что является еще более характерным симптомом увеличения плотности и появления территориальной структуры. Города всегда происходят из потребности, побуждающей индивидов постоянно находиться в максимально возможной близости друг к другу; они представляют как бы точки, в которых социальная масса сжимается значительно сильнее, чем в других местах. Нет городов в обществах с социальной организацией сегментарного типа. В-третьих, речь идет о появлении быстрых путей сообщения и связи, которые уничтожают и уменьшают пустоты, разделяющие социальные сегменты. Всё это увеличивает «моральную плотность» общества, под которой имеется в виду интерактивные, солидаристские связи между людьми. 22
Прямо пропорционально этим процессам увеличения объема и плотности обществ развивается разделение труда, которое прогрессирует по мере того, как общества становятся все более плотными и объемными. «С тех пор, – пишет Дюркгейм, – как число индивидов, между которыми установились социальные отношения, становится значительнее, они могут сохраняться только в том случае, если больше специализируются, больше работают, сильнее напрягают свои способности». 23
Однако условием появления нового индивидуализированного общества с развитой системой разделения труда является, прежде всего, исчезновение старого, которое как может сопротивляется появлению этого нового общества. Дюркгейм особо подчеркивает тот факт, что разделение труда устойчиво развивается только по мере того, как исчезает высокообъемное коллективное сознание и сегментарная структура, ведь именно то и другое является условием появления разделения труда как основы совершенно нового типа социальной структуры. Господство коллективного сознания и сегментарная социальная структура препятствуют появлению индивидуального сознания, индивидуальных особенностей, при условии наличия которых только и возможно появление разделения труда как основы органической солидарности. Дюркгейм специальным образом рассматривает процесс «ужимания» коллективного сознания, ослабления его интенсивности и степени определенности, который делает возможным появление и становление индивидуального сознания и оформление процесса индивидуализации.
Ужимание коллективного и становление индивидуального сознания осуществляется также не без влияния морфологических и экологических факторов. Расширение среды обитания, изменение и уплотнение социального пространства приводит к тому, что коллективное сознание все более «отдаляется» от конкретных вещей, от локальной привязанности и становится все более абстрактным. Это подтверждается, по мнению Дюркгейма, оформлением идеи трансцендентного Бога, общим процессом рационализации, развитием права и морали, более рациональным состоянием цивилизации в целом.
Исчезновение сегментарной социальной структуры отрывает индивида от родной среды, делокализирует сознание, а это освобождает индивида от влияния непосредственной территории проживания семьи в широком смысле слова, предков, традиций. В результате коллективное сознание, которое фактически репрезентирует общество, менее плотно охватывает индивида, оставляет простор для развития индивидуального сознания, его изменчивости и вариативности; получает развитие уже ничем не сдерживаемое расхождение индивидуальных стремлений, оформляются индивидуальные интересы, стартует процесс индивидуализации. Этот процесс развития индивидуального сознания принимает форму социального разделения труда, из которого необходимо рождается более высокая степень культуры, развивается наука, искусство, экономическая деятельность – все то, что Дюркгейм вкладывает в понятие цивилизации.
При этом Дюркгейм постоянно подчеркивает, что становление цивилизации – это естественный и закономерный процесс. Цивилизация является не целью, но следствием тех причин, о которых говорилось выше. Ни счастье, ни нравственность не возрастают пропорционально возрастанию интенсивности жизни. Люди продвигаются вперед потому, что надо двигаться, и «быстроту этого движения определяет более или менее сильное давление, оказываемое ими друг на друга соответственно тому, насколько они многочисленны», а также насколько они индивидуальны. 24
В рамках совместного социального существования все жизненные проявления индивида все более и более социализируются. Эта черта все резче проявляется по мере «приращения социального вещества и плотности». «Чем больше ассоциировавшихся лиц и чем сильнее они воздействуют друг на друга, тем более продукт этих воздействий выходит из пределов организма. Человек, таким образом, оказывается во власти причин sui generis, относительная доля которых в устройстве человеческой природы становится все значительней». Появляются отдельные личности, пишет Дюркгейм, которые начинают осознавать себя, и это приращение индивидуальной психической жизни, однако, не ослабляет социальную жизнь, а только преобразует ее. Социальная жизнь благодаря этому становится свободнее, обширнее, и так как в конце концов она не имеет другого субстрата, кроме индивидуальных сознаний, то последние в силу этого укрепляются, становятся более сложными и гибкими. 25
Индивидуальные сознания, с одной стороны, являются единственным субстратом социальной жизни, и чем они богаче, тем богаче социальная жизнь, однако, с другой стороны, это богатство индивидуального сознания и сама его индивидуальность зависит от общества, от количества и частоты контактов индивидов, от взаимного обмена услугами между ними. Фактически индивидуальные сознания в качестве субстрата социальной жизни являются порождением коммуникативной среды, в которой приходится функционировать индивиду. Дюркгейм пишет: «Бесспорна та истина, что нет ничего в социальной жизни, чего не было бы в индивидуальных сознаниях; но почти все, что в них находится, взято ими из общества. Большая часть наших состояний сознания не появилась бы у изолированных существ и проявилась бы совсем иначе у существ, сгруппированных иным образом. Значит, они вытекают не из психологической природы человека вообще, но из каким ассоциировавшиеся люди воздействуют друг на друга, сообразно их количеству и степени сближения. Так как они продукты групповой жизни, то только природа группы может объяснить их… Общество не находит в сознаниях вполне готовыми основания, на которых оно покоится; оно само создает их себе». способа 26
Реконструируем общую картину возникающего в результате рассмотренного процесса исторического развития общества «органической солидарности».
Общество органической солидарности, во-первых, с морфологической точки зрения характеризуется высоким объемом населения (высокая материальная плотность), частыми и сильными социальными связями (высокая моральная плотность). Во-вторых, это общество, которое состоит из развитых индивидов, чье сознание, ментальность, духовная жизнь не исчерпываются содержаниями коллективного сознания: сознание индивидов объемнее, богаче и вариативнее. Индивид уже более не растворен в коллективе, он имеет свои цели, интересы, позиции. В-третьих, само коллективное сознание резко сужается как в своем объеме, так и в своем содержании. Положительное нормативное регулирование сменяется на отрицательное в сфере морали, появляются новые правовые системы – гражданского, коммерческого, административного права. Снижается уровень религиозности. И, наконец, в-четвертых, социальная структура общества органической солидарности формируется на основе разделения труда. Именно система разделения труда предстает в качестве инстанции, задающей структурные ограничения социального действия, формирующей социальные отношения как обменные и договорные.
Процесс индивидуализации, будучи реализованным в институционально-структурном плане как система разделения труда, фактически становится главным источником социально-исторического изменения и одним из фундаментальных процессов становления модерна. Дюркгейм увязывает этот процесс со становлением промышленного общества с его новой системой разделения труда и ценностно-нормативной системой, с новой системой индивидуально-договорных отношений.
При этом он подчеркивает, что общество должно само себя организовывать посредством моральной власти. Моральная власть укоренена не в государстве и не в традиции и семье, а в формах функционально-индивидуальной самоорганизации общества – в корпорации и различного рода профессиональных объединениях. Только функциональные формы организации, а не традиционные и властно-политические, могут, согласно Дюркгейму, быть моральными. И только моральный порядок, нервом которого является процесс индивидуализации, может быть внутренним гарантом солидарности в обществе органической солидарности, морфологическую основу которого составляет разделение труда, то есть индивидуально-функциональная структура солидарности. Поэтому свою задачу он в конце концов видит в том, чтобы разработать для общества программу его реорганизации на базе морально-организационных принципов.
Опираясь на эти соображения, Дюркгейм предлагает свою теорию социального контракта. Общество, согласно Дюркгейму, – это функционально сбалансированный организм. Нарушение сбалансированности функций предстает как нарушение социального порядка. Изучение этой аномии позволяет понять нормальное функционирование организма.
По мнению Дюркгейма, все формы аномии – все учащающиеся кризисы, антагонизм и борьба классов, беспорядок внутри организаций – имеют место тогда, когда разделение труда или недостаточно развито, или «не производит солидарности» – в этом и состоит аномия. Т.е. вместо связанного разделения функций внутри целостного организма мы имеем простую дифференциацию этих функций – функции, как пишет Дюркгейм, «не сотрудничают».
По мнению Дюркгейма, «сотрудничество функций» не может быть достигнуто путем внешнего принудительного системного регулирования со стороны правительства или «конклава» философов, как у О. Конта. В самом разделении труда должно быть что-то такое, что будет препятствовать развитию аномии, должны быть выполнены такие условия, при которых процесс индивидуализации и разделение труда будут порождать «сотрудничество функций» и единство целого, а не «дифференциацию», атомизацию и аномизацию. Таких условий, внутренне присущих самой индивидуализации и природе разделения труда, Дюркгейм выделяет два.
Первое условие состоит в том, что каждый индивид должен находиться в гармонии со своей функцией, она не должна быть навязана ему принудительно. Свободное соединение индивида со своей функцией, ликвидация всякого неравенства «во внешних условиях борьбы» – таково первое условие.
Второе условие, которое выдвигает Дюркгейм, – это справедливый и эквивалентный обмен функциональными услугами и справедливое вознаграждение. Это фактически предполагает систему индивидуально-договорных отношений. Договорная солидарность является важным фактором социального согласия и порядка, но договор связывает только тогда, когда обмениваемые ценности эквивалентны, а обменивающиеся стороны поставлены в одинаковые условия.
При этом Дюркгейм подчеркивает, что такая свобода и справедливость не являются выражением «самопроизвольного характера общественной жизни». Это результат регламентации со стороны морали и этических императивов общества. И свобода, и справедливость являются продуктом регламентации. Они не являются свойствами, внутренне присущими естественному состоянию, наоборот, они – продукт отвоевывания общества у природы. «По природе, – пишет Дюркгейм, – люди неравны физически; они помещены в неодинаково выгодные внешние условия; сама семейная жизнь с предполагаемым ею наследованием имущества и с вытекающим отсюда неравенством, из всех форм социальной жизни более всего зависит от естественных причин… В конце концов свобода есть подчинение внешних сил социальным силам, ибо только при таком условии последние могут развиваться свободно… Она, значит, может осуществляться только поступательно, по мере того как человек поднимается над вещами, чтобы предписать им закон, чтобы отнять у них случайный, аморальный характер… Итак, можно сказать, что задача наиболее развитых обществ – дело справедливости». И далее Дюркгейм заключает, что точно так же, как древние народы для того, чтобы жить, нуждались прежде всего в общей вере, современное индивидуализированное общество нуждается в справедливости. 27
2.1.2. Индивидуализация и индивидуальность:
Георг Зиммель (1858—1918)
Индивидуализация и принцип методологического
индивидуализма
Концепция индивидуализации является ядром социологической теории Георга Зиммеля. Основным методологическим принципом, на основе которого осуществляется построение его социологии, является принцип «методологического индивидуализма». Этот принцип он разрабатывает, опираясь на критический анализ и размежевание с предшествующей социологической теорией.
Принцип методологического индивидуализма, разработанный Г. Зиммелем, состоит в утверждении о том, что основание социологического анализа, начало любого исследования, как и начало социальной действительности, составляет индивидуальное социальное действие отдельного человека, обусловленное его взаимодействием с другими. Ощутимо и действительно, согласно Г. Зиммелю, только существование отдельных людей.
Социология должна, поэтому, по мнению Г. Зиммеля, отказаться от приоритета целого – группы, общества – представлявшегося первоначально непосредственным объектом социологического мышления и начать с «исследования положения и судьбы отдельного человека, обусловленного его взаимодействием с другими, соединяющим его с ними в одно социальное целое». 28
Принцип методологического индивидуализма лежит в основе его теории обобществления – «бытии человека обществом». Индивидуальность – это нередуцируемая реальность, даже в своих крайних жизненных формах. Например, религиозный человек даже тогда, когда «его собственная субстанция безо всех оговорок и даже в мистической неразличимости отдана субстанции Абсолюта», должен сохранить некоторое самобытие, обособленное Я. Позиция Зиммеля состоит в том, что «жизнь не полностью социальна». Человек только некоторыми своими сторонами входит в общество как его элемент, другими своими сторонами – нет. Характер его обобществленности обусловлен характером его необобществленности. Зиммель подчеркивает при этом, что «существование индивида не просто отчасти социально, отчасти индивидуально – сообразно тому, как распределяются содержания. Здесь господствует фундаментальная, формообразующая …категория единства, которую мы не можем назвать иначе, кроме как синтезом или одновременностью двух логически взаимопротивоположных определений индивида, каковы его положение элемента и его для-себя-бытие, то, что он продукт общества, включен в него и что центр своей жизни, ее исток и цель – он сам». 29 30 31
Общественная жизнь как таковая основывается на предпосылке о принципиальной гармонии между индивидом и социальным целым. Каждому индивиду благодаря наличию у него определенных качеств указано определенное место в его социальной среде. Это идеально принадлежащее ему место действительно имеется в социальном целом. Этот тезис Зиммель называет ». «предпосылкой всеобщей ценности индивидуальности
Эмпирическое общество оказывается возможным только благодаря этому обстоятельству, наиболее полно воплощенному в понятии профессионального призвания. Общество производит в себе и предлагает некоторое «место», которое отличается от всех других по содержанию и форме, и в принципе может быть заполнено многими, а потому оно и анонимно. Однако несмотря на неиндивидуальный характер этого места, индивид стремится занять это место на основании внутреннего призвания, личных качеств, возможностей и достоинств.
Любое «профессиональное призвание» нуждается в гармонии между строением, жизненным процессом общества, с одной стороны, и индивидуальными качествами и устремлениями личности – с другой. Именно на этой гармонии основывается представление, что для каждой личности найдется в обществе позиция и деятельность, к которым она призвана, а также этический императив: искать свою позицию и свою деятельность, пока не найдешь. Индивидуальность отдельного человека находит свое место в структуре всеобщности, и в этом Зиммель видит некую изначальную телеологическую направленность социальной структуры, выстраивающейся с расчетом на специфическую и определенную индивидуальную деятельность человека. Явленная целостность общества как бы подлаживается под внешние ей цели индивидов, предлагая для их индивидуальности социальные позиции, при занятии которых их особость становится необходимым условием жизни целого. Тем самым сознание индивида получает форму, предопределяющую, каким социальным элементом ему быть.
Индивидуализация и дифференциация
Индивидуализация является стержневым принципом теории социального изменения у Г. Зиммеля. Зиммель является сторонником теории социального прогресса как в методологическом, так и в ценностно-нормативном отношении. Прогрессивное развитие – это та схема, которая позволяет постичь смысл и направление исторического развития, а также включить в себя все частности. Для Зиммеля развитие – это не просто трансформация социальных порядков. Зиммель рассматривает развитие как прогрессивное движение ко все большей свободе личности, к богатству ее культурных содержаний и возможностей, к увеличению и богатству общества через умножение и усложнение социальных форм.
Он рассматривает историческое развитие в двух главных проявлениях: как прогрессивное движение ко все более и более сложным и содержательно богатым видам человеческой деятельности, а также как прогрессивное развитие ко все более и более сложным и дифференцированным социальным формам. Применительно ко второму случаю Зиммель рассматривает развитие общества по аналогии с процессом усложнения и дифференциации организма, при этом, однако, суть и специфика его подхода состоит в том, что источником и механизмом социального развития является индивид, а не структурные трансформации общества как надиндивидуального образования. Изменение возникает на индивидуальном уровне и осуществляется как процесс индивидуализации, порождающий процесс социальной дифференциации.
Именно в связи с этим своим тезисом Зиммель осуществляет ревизию и критику функционалистских подходов в теориях социального развития, разработанных предшествующей социологией. Зиммель радикально не согласен с функционалистами органицистской социологической традиции в том, что прогрессивный процесс дифференциации, количественного роста и усложнения социальных образований тождественен их функциональному усложнению, а функции тождественны индивидам, их реализующим. Зиммель утверждает, что именно вера в то, что личности не только связаны с функциями, но фактически совпадают с ними, в корне неверна. Такое совпадение только задерживает индивидуализацию. И об этом свидетельствует история.
В той мере, в какой отдельный человек, пишет Зиммель, отдается служению своей группе, т.е. выполняет определенную функцию, он получает от нее форму и содержание своего собственного существа. Добровольно или недобровольно, но член малой группы сплавляет свои интересы с интересами своего сообщества, и таким образом они делаются его интересами. «Его природа сплавляется до известной степени с природой целого», а это означает исчезновение индивидуальной специфики человека, сужение или исчерпание потенциала индивидуального действия. Функционализация и индивидуализация оказываются, таким образом, противоположными процессами. Любая функционализация, по мнению Зиммеля, задерживает индивидуализацию, процесс становления и развития индивидуальности. 32
Основу процесса развития, усложнения и дифференциации образует не функционализация, а индивидуализация, которая всегда принимает форму социальной дифференциации. Развитие, по Зиммелю, осуществляется в виде многочисленных тенденций, среди которых можно выделить следующие: индивидуализация, ведущая к разносторонности индивида, увеличению богатства содержаний его сознания; дифференциация деятельностей индивида, ведущая к появлению новых социальных форм.
Развитие, по Зиммелю, представляет собой процесс, ход которого «нацелен на установление ассоциативных отношений между гомогенными составными частями, принадлежащими к гетерогенным кругам». Начальным пунктом социального развития является семья, она включает некоторое число разнородных индивидуальностей, тесно охваченных этой связью. По мере развития каждый ее член завязывает связи с личностями, находящимися вне этого первоначального круга ассоциации, и вступает с ними в отношения, которые основываются совсем на другом: на схожих способностях, склонностях, деятельности и т. д. Ассоциация, основанная на внешнем сосуществовании, все более уступает место ассоциации, основанной на отношениях содержательного порядка. Такое высвобождение из семьи осуществляется в форме конфликта как процесс утверждения своей индивидуальности и инаковости. 33
Индивиды, схожие в своих взглядах, деятельностях, интересах, принадлежащие к различным группам и кругам, сходятся воедино, создают новые круги соприкосновения, которые под самыми разными углами пересекают прежние круги. С одной стороны, отдельный человек находит для каждой своей склонности и для каждого своего стремления такую общность, которая облегчает ему их удовлетворение, предлагает для его деятельности форму, уже оказавшуюся прежде целесообразной, и предоставляет ему все выгоды, вытекающие из принадлежности к группе. С другой стороны, то, что составляет специфичное своеобразие индивида и выходит за рамки каждой конкретной группы, оберегается комбинацией множества кругов, которая может быть иной в каждом отдельном случае.
Те группы, к которым принадлежит индивид, образуют как бы систему координат. Каждая новая группа, присоединяющаяся к этой системе, определяет индивида со все большей точностью и однозначностью. Число различных кругов, к которым принадлежит отдельный человек, является одним из показателей высоты культуры как индивида, так и общества в целом. Таким образом, развитие предстает как двусторонний процесс: на уровне отдельного индивида и на социальном уровне. индивидуализация дифференциация

