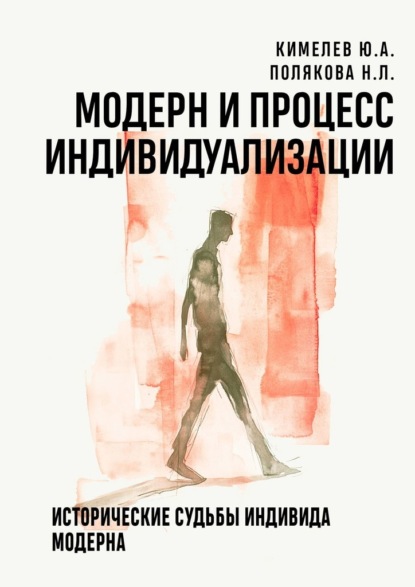
Полная версия:
Модерн и процесс индивидуализации. Исторические судьбы индивида модерна
1.2.3. Моральное сознание
Процесс индивидуализации, идейную историю которого в XVII—XVIII в. мы здесь рассматриваем, находил воплощение не только в сферах политических и экономических отношений. Этот процесс во все большей степени становился и процессом автономизации и индивидуализации сознания индивидов. Это процесс оформления субъективности индивида модерна.
Важнейшими элементами такого процесса стали появление новой модерновой индивидуальной идентичности и новое моральное сознание. Новое моральное сознание нашло яркое теоретическое выражение в моральной философии XVIII в.
Представители этой философии разрабатывали концепцию «морального чувства», которое антропологически предзадано человеку, является его природным свойством. Именно моральное чувство является основой нравственности, лежащей в основании социальных отношений.
Энтони Шефтсбери (1671—1713) обосновывает позицию, утверждающую автономность индивида, автономность его нравственного чувства, которое не связано с соображениями выгоды или пользы. Нравственное чувство и проистекающие из него добродетели не связаны также и со страхом перед наказанием, они значимы сами по себе и составляют источник внутреннего личностного удовлетворения и счастья.
Представители философии моральных чувств очевидным образом заявляли свое отношение к вопросам индивидуальной выгоды и пользы. В разделе, специально посвященном моральному чувству, Адам Фергюсон (1723—1816), например, пишет, что уже самое приблизительное знакомство с событиями человеческой жизни «наводит на мысль о том, что главной движущей силой всех человеческих поступков является забота о своем существовании». Именно эта задача определяет деятельность по созданию и внедрению «механических изобретений», проводит различие между «развлечением и делом», составляет для многих предмет постоянной озабоченности и неослабного внимания. 13
По мнению А. Фергюсона, такое определение главной цели жизнедеятельности человека роднит его с прочими «живыми существами, с коими он совместно пользуется дарами природы». Однако, продолжает он, «будь это так, единственными слагаемыми суммы обуревающих его страстей являлись бы радость по поводу успеха и скорбь по поводу разочарования… Отношения с соплеменниками определялись бы характером воздействия их на его интересы. Любое совместное дело расценивалось бы с позиций его выгодности, либо убыточности; а в характеристике каждого из ближних присутствовал бы эпитет , либо … Между тем, история нашего рода не такова… В любом языке мы найдем сколько угодно выражений, содержащих оценку человеческих взаимодействий отнюдь не с точки зрения успеха или неуспеха». Человеческие страсти и чувства нельзя объяснить переживаниями по поводу прибылей или убытков, соображениями выгоды или даже безопасности, а «различные блага утрачивают свою ценность в сравнении с возникающими меж людьми добрыми чувствами; значение же слова тускнеет перед такими словами, как или ». полезный вредный несчастье оскорбление обида 14 15
Способность к восхищению и состраданию, либо возмущению и негодованию в совокупности со способностями рассудка и разума составляет основу нравственной природы человека, согласно А. Фергюсону, дает основу похвалы и осуждения. На основе этой природы происходит взаимодействие людей, они объединяются инстинктивно, а «движущими пружинами их поведения являются добрые и дружественные чувства». Общепринятым критерием оценки действий людей является предполагаемое влияние этих действий на всеобщее благо. «Великим законом естественной справедливости является непричинение вреда; законом морали – распространение счастья; а осуждая случаи, когда один или несколько человек наделяются привилегиями за счет остальных, мы апеллируем к общественной пользе как к некой великой цели, к которой должны быть устремлены действия людей». 16 17
Известнейшим продолжателем этих идей стал Адам Смит (1723—1790), который в основание теории социальных связей также положил концепцию морального индивида и фундаментального морального чувства – чувства симпатии. Симпатия – это фундаментальное чувство, делающее возможным существование общества. Симпатия – это способность к состраданию и пониманию другого. В своем труде «Теория нравственных чувств» (1759) А. Смит пишет: «Какую бы степень эгоизма мы ни предположили в человеке, природе его очевидно свойственное ему участие к тому, что случается с другими. Оно-то и служит источником жалости или сострадания и различных ощущений, возбуждаемых в нас несчастием посторонних, увидим ли мы его собственными глазами или же представим его себе. Нам слишком часто приходится страдать страданиями другого, чтобы такая истина требовала доказательств. Чувство это, подобно прочим страстям, присущим нашей природе, обнаруживается не только в людях, отличающихся особенным человеколюбием и добродетелью… Оно существует до известной степени и в сердцах самых великих злодеев, людей, дерзким образом нарушивших общественные законы». 18
Будучи укорененной в природе человека, нравственность является социальной по своему характеру, оставаясь при этом индивидуалистической, поскольку природа человека изначально социальна, социальным является моральное чувство.
Наши представления о нравственности, согласно А. Смиту, определяются оценкой нашего поведения окружающими нас людьми – это «единственное зеркало, при помощи которого мы можем судить о приличии наших собственных поступков». Общие правила нравственности носят опытный характер и являются результатом оформления чувства, возникающего в процессе наблюдения за действиями и поступками как других, так и нас самих. 19
На первое место среди «правил», или норм А. Смит ставит справедливость, непричинение людям страдания и зла, отказ от лишения другого счастья и благополучия. Соблюдать справедливость обязательно. Справедливость – основа социального порядка.
Далее в иерархии норм, или добродетелей у А. Смита располагается благоразумность – это обязанность заботиться о своем здоровье и благополучии, о своем добром имени, стремиться к счастью и благосостоянию своего семейства, своих друзей, своей страны.
В дальнейшем взгляды А. Смита претерпели определенные изменения. В работе «Богатство народов» он в контексте своей политэкономической теории разрабатывает концепцию личного экономического интереса, санкционируя ориентацию индивида на получение экономической выгоды. В «Богатстве народов» Смит все более склонялся к убеждению в том, что людьми скорее движет личный интерес, чем чувство симпатии к ближним. Это, однако, никак не изменяло само морально индивидуалистическое основание его взглядов.
Иеремия Бентам (1748—1832) в своей работе «Введение к принципам морали и законодательства» (1789) продолжил процесс обоснования индивидуализации на путях построения утилитаристской этики, которая в своих базовых идеях логически когерентна и контрактуалистским теориям общественного договора, и теориям моральных чувств.
Этика И. Бентама – это так называемая «этика последствий». Вещи следует измерять и оценивать по их актуальным и возможным последствиям – как приносящих удовольствие и удовлетворение, либо как боль, страдание и наказание. Человек, поэтому, как он заявляет, должен быть заинтересован в такой системе, целью которой является «создание устройства счастья посредством разума и закона». Разума, на основе которого формулируется закон, а не на основе апелляции к истории, предрассудку или традиции и обычаю. Налицо отход от традиции при определении принципов индивидуального действия.
В качестве оснований и необходимых условий такой системы И. Бентам указывает на утилитаристскую систему ценностей и знание психологии, лежащей в основе человеческого поведения – люди действуют в своих собственных , понимаемых как удовольствие или боль. Они стремятся избежать боль и занимаются поиском удовольствия. Ключевой принцип – «duty and interest junction principle» – состоит в том, что движимые своим интересом люди должны также рассматривать и учитывать интересы других. Этот принцип в равной мере следует применять в индивидуальном поведении и взаимодействии и при оформлении социальных и политических институтов. Этот принцип и есть принцип справедливости утилитаризма, как его сформулировал И. Бентам. интересах
Следующая страница в истории утилитаризма оказалась связанной с именами Джеймса Милля (1773—1836) и Джона Стюарта Милля (1806—1873). Их воззрения принадлежат первой половине XIX века, к середине которого среди британских философов распространилось мнение, что «великая проблема природы и жизни человека» решена в том смысле, что метафизика и теология не нужны. Считалось также, что этические принципы определены И. Бентамом, и нужно только применять их в конкретных ситуациях. Социальная и политическая теория – сфера, где утилитаристы достигли своих главных успехов – была отделена от истории и от всякой этической идеи, отличной от идеи полезности. Считалось, что психология нуждается в более точном и подробном рассмотрении, чем она получила у И. Бентама, и Джеймс Милль дал этой школе теорию сознания, полностью согласующуюся с другими ее воззрениями.
Враждебно настроенный по отношению ко всякой форме социализма, ограничивающего индивидуальную свободу, Дж. Ст. Милль ратовал за институциональные реформы, реформы отношений распределения, призванные обеспечить справедливость. В основе таких реформ должен лежать утилитаристский принцип. Благополучие каждого должно включать и то, что проистекает из счастья других. Утверждая, что счастье другого несет для каждого индивида увеличение удовольствия, Милль оправдывает – в утилитаристской перспективе – рациональность поведения, руководствующегося чувством единства и солидарности человеческого рода.
1.2.4. Просвещение. Просветительская философия
истории
Всякая характеристика процесса индивидуализации в эпоху оформления модерна в идейном плане предполагает соотнесение с Просвещением. Саму эпоху конца XVII—XVIII вв. принято обозначать как «эпоху Просвещения». Вообще социально-теоретическую мысль эпохи Просвещения можно представить как движение от юснатурализма к философии истории. Это в полной мере относится и к идейной истории процесса индивидуализации.
В связи с Просвещением можно говорить о новом отношении человека к миру и к истории. Можно говорить о том, что в этом проявляются определенные аспекты самоутверждения человека как субъекта исторической жизни. В них находит выражение вера в силу человеческого разума. Эта вера, увязывавшаяся прежде со сферой познания и использования метода, переносится на практическое отношение к истории.
Программное устремление философии истории Нового времени состоит в постижении . Философия истории существует, если историю можно постичь и рационально реконструировать, если можно обнаружить в ней разум. Такая принципиальная теоретическая установка воспринималась и как ориентир социально-практического действия. разума истории
Философская рефлексия относительно истории в просветительской мысли центрируется вокруг нескольких фундаментальных теорем: рациональность, телеология, континуумность и прогресс. Эти понятия в своей совокупности выражают новую идею человечества, в соответствии с которой люди предстают как автономные творцы своей собственной истории.
Философия истории эпохи Просвещения занимает особое место в истории европейской философии истории в силу нескольких причин. Во-первых, именно в эту эпоху она в полной мере становится секулярной философской теорией всеобщей истории. Соответственно, с этого периода можно говорить об оформлении собственно философии истории как о постхристианской философии истории. Во-вторых, философия истории начинает соотноситься с всеобщей историей как взаимосвязанной историей всего человечества. Наконец, значение философско-исторических построений эпохи Просвещения заключается в том, что они предстают как важнейший сегмент идеологии модерна. (Именно в таком качестве философия истории эпохи Просвещения чаще всего предстает в современных философских, социально-научных и идеологических дебатах.) Все эти фундаментальные характеристики просветительской философии истории являются и характеристиками оформившегося в эпоху модерна нового отношения индивида к социально-историческому миру.
Попытаемся, прежде всего, представить кратко идейный каркас философско-исторических воззрений Просвещения и в динамике, и в виде основных теоретических посылок.
Работа Вольтера (1694—1778) «Философия истории» (представляющая собой введение к «Очерку о нравах и духе наций») демонстрирует сущностные моменты подлинно философского рассмотрения истории, отделяющего себя от эмпирии, мифа и религии. Рассмотрение истории, опирающееся на естественный разум, образует исток философской интерпретации истории, означающей освобождение от господства теологии истории. Намерение видеть историю через философскую призму означает конструирование рациональной истории. Существенным в истории является то, что существенно для нее и движет ее дальше. Идеал разума формулируется как норма природы, как естественный закон и право, как естественная мораль и естественная религия.
И все же – в этом сходятся многие исследователя – у Вольтера нет собственно конструкции всемирной истории в соответствии с планом разума, нет и систематического рассмотрения возможности исторического знания.
Еще до того как появилось обозначение «философия истории» у Вольтера, Тюрго (1727—1781) обратился к вопросу о том, что такое история в глазах философа. От традиционной концентрации на политике он смещает интерес к истории цивилизации, науки, другим измерениям истории. Акцент делается на рассмотрении того, как совершенствуется человеческий дух в различных сферах. Все это означает выдвижение новой проблематики социальной философии и философии истории. Свет разума изливается на все, но особенно это заметно в сфере искусств и познания, а это изгоняет тени невежества, предрассудков и прéдубеждения.
Произведение Кондорсе (1743—1794) «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» является главнейшим документом оптимистической теории истории в Просвещении. Здесь идея прогресса получает наиболее полное воплощение. В этом вопросе у исследователей истории философии истории практически нет разногласий.
И в эпоху Просвещения с ее верой в прогресс, было немало мыслителей, высказывавших скептическую настороженность относительно социальных последствий «прогресса», например – Вольтер, Фергюсон, Кант. У идеи прогресса были и свои критики, такие как Руссо, Мабли, Морелли во Франции, Гердер в Германии.
Содержанием просветительской философии истории было возникновение модерна и процесс модернизации. Она исходила из опыта ускорившегося и направленного социального изменения, означавшего прирост научного знания, увеличение технического потенциала и хозяйственного богатства, а также преодоление пространственных и социальных границ. Процесс цивилизации в сферах науки, техники и экономики образовывал и основу идеи прогресса. С этой идеей увязывалась оценка предыдущей истории, понимание настоящего и надежды на будущее.
В философии истории Просвещения тематическим ядром был процесс научно-технической и экономической цивилизации. В философии истории французского и английского Просвещения социальные отношения ни в коем случае не редуцируются к экономическим отношениям. Напротив, в технике и экономике ищут возможности, способные привести к желательным правовым, государственным и социальным формам. В ходе этого процесса оформилось сознание «исторического времени», связанного уже с произведенными людьми артефактами, а не с природными циклами, и получающего благодаря этому свою динамику.
1.2.5. Некоторые итоги
В данной главе процесс индивидуализации в эпоху модерна рассматривался одновременно и как реальный, и как идейно-теоретический процесс. Вместе с тем идейно-теоретическая сторона получила преимущественное внимание, представая и как отражение, и как фактор формирования реальности. И в этой главе, и в дальнейшем мы исходим из того, что индивидуализация во всех своих моментах образует неотъемлемый важнейший компонент процесса оформления и развертывания модерна в целом. Модерн в целом, включая индивидуализацию, был , причем уникальной конструкцией и в цивилизационном, и в культурном отношении. исторической конструкцией
Это означает, что историческая жизнь модерна является . Данное обстоятельство имеет ключевое значение для понимания процесса индивидуализации во всех ее фазах. Ведь спонтанное социальное созидание осуществляется индивидами. Разумеется, реальные исторические формы, в которые выливалось созидание, были неизбежно исторически ограниченными. Однако, суть модерна как раз и заключается в том, что ограниченности и теоретически, и практически предстают как нечто в принципе преодолеваемое, могут восприниматься как лишь отчасти реализованный социально-исторический потенциал. спонтанно созидаемым процессом
Данная глава была посвящена начальной фазе процесса индивидуализации в эпоху модерна. Вообще для начальной фазы модерна характерно дистанцирование от традиционного социального устройства и его трансформация, порой радикальная.
Идейная история периода формирования и становления модерна, в том числе процесса индивидуализации, представляет собой теоретическое обоснование отхода от традиции и даже отказа от нее. Рассмотренные доктринальные течения являют определенное единство. Прежде всего, они тематизируют индивида как неотъемлемый и ключевой компонент социальной жизни. Ни социальные институты, ни общество в целом не постигаются в отвлечении от индивидов, их деятельности и интересов. Преследуется теоретическая цель показать и наделить нормативным значением сочетание индивидуального и общественного блага, а также баланс социальных институтов и индивидов. Более того, такое сочетание и баланс есть нечто , соответственно нечто перспективное, продуктивное и . естественное справедливое
Становление и утверждение модерна было совокупностью процессов в различных социальных сферах. И идейная история развертывалась в совокупности идейно-теоретических сфер. Наша реконструкция была ориентирована на это обстоятельство. Если попытаться кратко резюмировать ее основной результат, то можно утверждать, что она указывает на процесс индивидуализации как на процесс обретения индивидами различных прав – политических, экономических, юридических. Подобное обретение прав нередко тематизируется как возможность – прежде всего как возможность обладать индивидуальной экономической собственностью, как возможность принимать самостоятельные решения по принципиально важным для индивида вопросам, таким как выбор сферы профессионально-трудовой деятельности, заключение брачного союза. обладания
Особое значение имела автономизация индивидуального сознания, обретение этим сознанием измерения самоопределяемости, интериорности, уникального своеобразия. Идентичность уже не задается исключительно внешними факторами, причем традиционного характера. Идентичность становится также и объектом конструирования.
Указанные идейные содержания начальной фазы процесса индивидуализации в эпоху модерна позволяет охарактеризовать его как процесс оформления и развития индивидов, а также как процесс профилирования социальной как специфического выражения индивидуального социального сознания европейского модерна. В целом можно говорить о появлении «». социальной субъектности субъективности субъекта модерна
Глава 2.
Процесс индивидуализации и становление индивида модерна в социологической теории XIX—XX веков
Индивидуализация – это фундаментальный процесс в рамках общего становления и развития обществ модерна. Рассмотрение этого процесса невозможно без некоторых предварительных замечаний общего характера.
Исследование процесса индивидуализации в той или иной форме является фундаментальным устремлением социологического знания с самого начала его становления. Такое исследование не было, однако, представлено как изучение самостоятельного и фундаментального процесса. Индивидуализация исследовалась как компонент, хотя и стержневой, общего процесса социального развития обществ, а также в контексте субъектно-ориентированной социологической традиции, например, в различного рода концепциях понимающей и интерпретативной социологии, традиции социологии социального действия.
В рамках социологической классики XIX в. индивидуализация как процесс рассматривалась в качестве главного «спускового крючка» в начальном процессе развития и усложнения обществ, процесса их внутренней дифференциации. Индивидуализация выступала как базовый механизм трансформации обществ, антропологическая константа в общем «бытии человека обществом».
Большинство социологических теорий социального развития, создаваемых в рамках эволюционистской перспективы, в качестве стартового и исторического, и логического момента процесса социальной трансформации полагают слитность индивида с его социальной группой, первоначально просто с семейной группой, а также полагает тождественность или исчерпанность индивидуального сознания содержаниями коллективного сознания. Социальная интеграция в обществе осуществляется на основе мифологических либо религиозных картин мира, непосредственно сочетаемых с конвенциональной системой действия.
Именно с постулирования такой изначальной слитности человека и его социальной группы, общества, интеграция которых базируется на мифо-религиозной картине мира и конвенциональных системах регуляции, начинается построение теории развития, главным механизмом которого является процесс индивидуализации.
Процесс индивидуализации имеет свои этапы и фактически выстраивается как процесс исторического развития обществ. В соответствии с теориями социологической классики процесс индивидуализации являет два исторических этапа: домодерновый традиционалистский этап в развитии обществ и этап модерна, этап развитых капиталистических, промышленных обществ.
В данной главе будет предпринята попытка вычленить те компоненты социологических теорий, которые имеют отношение к процессу индивидуализации. Реконструированные таким образом содержания социологических теорий позволяют нам типологизировать содержащееся в них видение, преимущественно имплицитное, процесса индивидуализации и становления индивида модерна. Предлагаемая нами типологизация основывается на выявлении социального механизма индивидуализации, который чаще всего является и механизмом оформления индивида модерна.
Мы вычленяем три основных механизма процесса индивидуализации, которые в той или иной степени четкости и разработанности присутствуют в классической социологической теории. Речь идет о механизмах 1) дифференциации; 2) рационализации; 3) оформления социального контроля и самоконтроля («цивилизации»). Следует при этом указать, что все три механизма могут одновременно присутствовать в описаниях процессов индивидуализации, однако так или иначе один из них получает приоритетное значение, что и позволяет использовать ту или иную социологическую теорию для демонстрации соответствующего типического подхода к анализу механизма процесса индивидуализации и становления индивида модерна.
2.1. Индивидуализация и социальная дифференциация
2.1.1. От сходства к различию:
Эмиль Дюркгейм (1858—1917)
Люди, согласно Дюркгейму, изначально существуют в «форме совместного бытия» на какой-то общей для них территории. Это и есть общество. При этом он подчеркивает, что само существование общества как совместного бытия людей на какой-то территории зависит от изначального, фактически антропологически присущего людям стремления «жить вместе с другими единой нравственной жизнью». Совместная жизнь людей не столько принудительна, сколько притягательна. 20
Стремление жить с другими и безусловная ценность коллективной жизни выражается в приоритете нравственного закона и нравственной дисциплины, которые практически всегда принимают соответствующие религиозные и правовые формы. Нравственные и правовые нормы, коллективные верования и представления – это то, что мы ощущаем как «общество», это то, что предстает как социальный порядок, на который и ориентируется социальное поведение и действие индивидов.
Основу и структурный принцип социального порядка составляет, по Дюркгейму, определенный тип социального взаимодействия, или солидарности. Он выделяет два типа солидарности и, соответственно, два типа социальной жизни и указывает, что «социальная жизнь проистекает из двойного источника: из сходства сознаний, а также из разделения социального труда». В первом случае индивид социализирован, поэтому он сливается и фактически механически объединен с другими в одном едином коллективном типе. Во втором случае мы имеем дело с индивидами, обладающими развитым индивидуальным сознанием, имеющими личностный облик и свою особую деятельность, отличающую их от других. Именно в той мере, в какой индивиды отличаются друг от друга, формируются современные общества. 21

