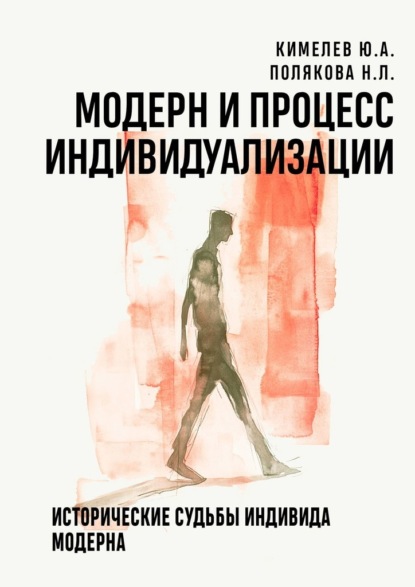
Полная версия:
Модерн и процесс индивидуализации. Исторические судьбы индивида модерна
Как считает А. Турен, в оценках и действиях следует исходить из того, что период двух последних столетий представляет собой « ». Если модерн – это представление о том, что общество есть продукт нашей деятельности, то модерн до сих пор был таковым лишь отчасти. Этот модерн не порвал до конца связь, которая привязывает общество к порядку мира. Он верил в историю, как другие до модерна верили в творенье Божье или в миф о создании общества. Наряду с этим модерн искал основание добра и зла в полезности или вредности действия для общества. Таким образом человечество, освобожденное от подчинения закону универсума или Бога, оставалось в подчинении у закона Истории, Разума или Общества. «Сеть соответствий между человеком и универсумом не была разрушена, – утверждает А. Турен. – Такой полумодерн все еще мечтал создать некий естественный мир как рациональный мир». В конце XX в. модерн исчез, он сводится к некоему «ускоренному авангардизму», превращающемуся в . Из такого кризиса рождается – наряду с играми постмодерна и ужасами тоталитарного мира – более , в который мы входим. ограниченный модерн дезориентированный постмодерн полный модерн 103
Сегодня общество модерна оказывается перед следующим выбором. Оно может полностью подчиниться логике инструментального действия и требований рынка, довести секуляризацию до полного подавления всякого представления о Субъекте, ограничиться сочетанием инструментальной рациональности и массового потребления с памятью о традициях и с сексуальностью, освобожденной от социальных норм. Другой путь состоит в сочетании рационализации и субъективации, эффективности и свободы. Этот второй путь следует в равной мере отделять от крайнего утилитаризма и от навязчивого поиска идентичности. Разум не сводится ни к интересу, ни к рынку, а Субъект не сводится к общине, коллективному «мы».
Реализованный модерн имеет целью только счастье, ощущение индивидом того, что он есть субъект и способен к социальным действиям, направленным на возрастание его свободы и творчества. Это личное счастье неотделимо от желания счастья для других, от солидарности и поиска счастья.
Некоторые замечания
Первая часть книги была посвящена рассмотрению процесса индивидуализации как процесса оформления и утверждения индивида как «субъекта модерна». Классика социальной философии, а также классика социологической мысли, как было показано, представляет процесс индивидуализации как чрезвычайно значимый, неотъемлемый и во многих отношениях стержневой компонент модерна.
Социально-философское и социологическое осмысление этого процесса было представлено нами одновременно и как историческая реконструкция, и как анализ актуального социального состояния.
Исследование процесса индивидуализации – это исследование исторических судеб индивида эпохи модерна, от момента его оформления до настоящего дня. В определенной мере это и загляд в будущее.
Процесс индивидуализации предстал, если так можно выразиться, в своем теоретическом каркасе. Реконструкция процесса индивидуализации позволила увидеть индивида модерна в его эпохальной определенности, позволила увидеть уникальную историческую специфику его социальных свойств. Эта специфика проявляется в деятельностно-практической и нормативно-ценностной устремленности к социальной свободе и социальному равенству. Последующие части данной работы позволят создать более панорамную и емкую картину положения индивида в обществах модерна. В особенной мере сказанное относится к тем сегментам работы, которые посвящены анализу актуального социального состояния.
Последующие части нашей работы призваны не только сделать исследование процесса индивидуализации более полным и конкретным, но и показать, в какой мере и в каких формах реализовывалась указанная устремленность к свободе и равенству.
Часть II.
Индивид в социологических теориях общества ХХ века
Общества ХХ века во многом своими социальными свойствами обязаны Второй промышленной революции, развернувшейся в последней трети XIX века. Не меньшее влияние со стороны этой научно-технической революции испытал индивид. В этом отношении общество как внутренне структурированное социальное целое и индивид являются когерентными друг другу. Поэтому наиболее полную социологическую характеристику и природы обществ ХХ века, и положения индивида в этих обществах, взаимоотношения общества и индивида предлагают теории общества. 104
Вторая промышленная революция породила общества, которые в социологической теории получали названия: организованного капитализма; менеджериального общества; массового общества с характерной для него массовой культурой и массовым потреблением; корпоративного; развитого индустриального; позднего капиталистического общества.
При всем различии и спецификации социальных практик, характеризующих эти общества, все они были промышленными обществами, и сфера промышленного труда была в них определяющей, как в смысле общего образа общества, так и в смысле социального характера, или характерных особенностей и социальных свойств индивидов, живущих и функционирующих в этих обществах.
Эти специфические особенности индивидов, их социальный характер определяются сферой труда в самом широком смысле слова, теми функциональными требованиями и императивами, которые трудовая сфера предъявляет к индивиду. Недаром все эти общества в социологической литературе 60-х—80-х годов получили объединяющее название «трудовых обществ». С точки зрения исследуемой в данной работе проблематики вопрос об индивиде и о положении индивида в обществах ХХ века превращается главным образом в вопрос о том, как и каким образом трудовая сфера определяет и специфицирует фундаментальные социальные свойства индивида.
Как уже было указано, важнейшими элементами идеологии модерна в той ее части, которая касается социальной природы и положения индивида в обществе, являются постулаты равенства и свободы. В данном конкретном случае речь поэтому идет о том, как трудовая сфера влияет и определяет возможности и шансы индивида в реализации этих ценностей и установок.
Часть II посвящена анализу положения индивида в обществах ХХ века, демонстрирует то, как изменяются условия и шансы индивида прежде всего в реализации своей социальной и индивидуальной свободы.
Глава 3.
Базовые социально-организационные практики в обществах ХХ века и положение индивида
Базовыми социально-экономическими практиками, определившими трудовую и шире – социальную сферу в обществах ХХ века, стали оформление структур организованного капитализма, потеснившего капитализм свободного либерального рынка, а также новые организационные практики базового трудового процесса, такие как тейлоризм и фордизм. Благодаря введению таких организационных практик появляется новый принцип организации и организационная система отношений власти и административного регулирования в трудовой сфере. Этот процесс происходит наряду с сохранением прежней функциональной системы отношений и в трудовой сфере, и в обществе в целом. В совокупном итоге новая организационная власть и новый тип принуждения стали определять и сферу труда, и общество в целом, а также социальный характер и шансы индивида. 105
Структуры организованного капитализма во многом явились ответом на научные открытия и технологические нововведения в промышленности, осуществившиеся в последней трети XIX века и радикальным образом изменившие тип промышленного производства. Большинство производств приобрело новый характер, кроме того, возникли новые типы промышленности, такие как, например, электротехническая или сталелитейная, которых ранее просто не было. Новые производства требовали для своего внедрения и последующего существования «много всего»: много земли и много воды, много территории, «жизненного пространства», много денег, много рабочих, много управленцев и т. п. Этот императив породил «гигантизм» экономического и технологического мышления, нашел свое выражение в соответствующих технических, социальных проектах, в политическом проектировании, в эстетике и художественном творчестве. Но главное – это то, что данный императив породил новые социальные и экономические формы организации, выдвинув при этом сам принцип организации на авансцену социальной жизни, а также создал совершенно новую форму капитала и собственности – акционерный капитал, породивший и новые системы социальных отношений.
Новые технологические возможности и типы производств, ставшие технической основой Второй промышленной революции, определяли развитие обществ и экономик вплоть до рубежа 70-х годов XX века. Первым и главным результатом этого процесса введения новых технологий и создания на их основе новой промышленности стало появление новой формы социальной и промышленной организации – монополии.
Монополия как форма социальных отношений и промышленной организации прошла очень быстрый и интенсивный путь развития от самых простых картелей до финансово-промышленных групп. В начале ХХ в. резко увеличилось количество концернов и трестов. К примеру, количество трестов за семь лет, с 1900 по 1907 гг., в США увеличилось со 185 до 250. Произошло становление международных монополий: к 1914 г. в добывающей, химической и металлургической промышленности их было уже 114. После Первой мировой войны усиливается процесс проникновения банков в промышленность с помощью системы участия и персональной унии, сращивание их с промышленными монополиями и образование финансового капитала.
Социальная и экономическая теория монополии как новой формы социальной организации, контроля и принуждения была создана уже в начале ХХ в. как результат анализа социально-экономической практики последней трети XIX в. В соответствии с этой теорией монополия не есть результат простой концентрации финансово-промышленных возможностей и укрупнения частной собственности и капитала в рамках либерального рыночного порядка. Монополия не только не является простым процессом концентрации и усиления капитала, она не является и результатом конкурентной борьбы. Наоборот, ее суть как социальной формы состоит в том, чтобы обуздать «дикую конкуренцию», поставить под контроль посредством экономических соглашений и социальных норм своего рода «войну всех против всех» в сфере экономики и социальных отношений. Монополия потеснила и ограничила сферу либерального рынка и конкуренции, поставила их под контроль. Суть монополии состоит в появлении новой формы социальной организации, зафиксировавшей новый тип социального принуждения – «принуждения к организации».
Любая организация – это всегда форма распределения власти и полномочий. Монополия как новая социальная форма, как «принуждение к организации» затрагивает интересы общества в целом, а не только бизнеса. Контролируется все: рынок труда, заработной платы, социальное страхование, профсоюзы, развитие территорий, профессии, образование, наука и т.д., а не только ресурсы, производство и цены. Монополия создает экономическую возможность для тотального организационного контроля над обществом.
К сказанному следует добавить еще одно, не менее важное явление – трансформацию отношений собственности. Монополии, их создание и последующее функционирование требовали привлечения колоссальных ресурсов, развития банков, увеличения и укрупнения капиталов. Средством решения этой проблемы было возникновение акционерного капитала, а результатом – трансформация юридических отношений собственности.
Появление акционерного капитала трансформировало организационные и властные отношения на уровне как промышленного производства, так и общества в целом. Появление различных групп совладельцев, т.е. переход от частного капитала к корпоративному, привело к тому, что индустриальное предприятие стало социальным институтом, выражающим интересы разных групп предпринимателей и обладающим относительной автономией от своих собственных владельцев. Такая трансформация означала изменение самого понятия собственности. Установление долевого участия не столько как действительного права распоряжения собственностью, сколько как права на доход, производимый компанией, имело мало общего с традиционным понятием собственности, а также с патримониальной автономией компаний. Формирование монополий в качестве крупных корпораций привело к расчленению функций владения (юридическая сторона понятия собственности), распоряжения и управления (фактическая сторона) и возникновению нового класса – управленческого класса.
На первоначальном этапе капиталистического развития функция владения капиталом и функция управления, т.е. юридическая и реальная власть, совпадали, а владелец предприятия был одновременно и его управляющим. Появление новых технических возможностей, усовершенствование и усложнение техники, увеличение ассортимента выпускаемой продукции означали усложнение функций управления и контроля. Поначалу управленческая функция стала осуществляться как спецификация инженерной, т.е. как организационно-технологическая. В результате этого процесса сфера производства стала прерогативой инженеров и специалистов, за владельцами же осталась сфера бизнеса – функция владения и финансового учета. Произошло расчленение функций управления производством и функций финансового обеспечения и учета.
Однако это было только начало процесса разделения и усложнения власти и соответствующей системы организации и управления на предприятиях. Появление монополий дало толчок дальнейшему процессу усложнения функций управления. Вследствие кризисов перепроизводства стало ясно, что функционирование предприятия зависит не только от финансовых и производственных возможностей, но также и от возможностей рынка и успешности функционирования на нем. Это потребовало вычленения функций маркетинга и подготовки соответствующих специалистов по рынку. Финансовая и рыночная политика также стали прерогативой специалистов.
Кроме того, концентрация промышленного производства дала старт еще большей дифференциации производственно-технических, экономических и управленческих функций, а также потребовало создания определенной организации в форме промышленной бюрократии, т.е. создания дифференцированных групп технических и других специалистов, которые под руководством профессиональных управляющих осуществляли производственный процесс, включая все его фазы и уровни.
Результатом всех этих процессов стало то, что управленческие функции по рациональному планированию производственного процесса и координации специализированных технологических функций в рамках целостного производственного процесса взяла на себя новая социальная группа. Этой новой и чрезвычайно большой по численности группой стали управленцы, или менеджеры. «Менеджериальная революция» – так стали называть такой процесс становления новой социальной группы, оформления ее группового сознания и той технократической идеологии, которую эта группа прокламирует в обществе.
Таким образом, создание монополий как особой специфической формы организации экономической и социальной жизни означало существенную трансформацию механизмов свободного рынка и свободной конкуренции и переход к новому типу социально-экономических отношений. Этот процесс обнаружил новое явление, ставшее одной из основ всех социальных трансформаций ХХ века. Этим, чрезвычайно важным, явлением следует считать организацию и организационную систему отношений, которая воплотилась в соответствующих практиках, составляющих содержание социальных отношений в монопольно организованном капитализме.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
О теории модерна см.: Кимелев Ю. А., Полякова Н. Л. Социологические теории модерна, радикализированного модерна и постмодерна / РАН. ИНИОН. – М., 1996; Полякова Н. Л. ХХ век в социологических теориях общества. – М.: Логос, 2004.
2
Moore B. Jr. Social origins of dictatorship and democracy. – Boston: Beacon Press, 1993. – P. 9.
3
Bedos-Rezak B. et Iogna-Prat D. (dir.) L’individu au Moyen Âge. – Paris: Aubier, 2005.
4
Гоббс. Соч. в двух томах. Т. 2. – М., 1991. С. 98.
5
Там же. С. 98.
6
Там же. С. 98.
7
Там же. С. 99.
8
Локк Дж. Избр. филос. произв. В 2-х томах. Т. 2. М., 1960. С. 76.
9
Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или принципы политического // Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре: Трактаты. М., 2000. С. 212.
10
Там же. С. 212.
11
Там же. С. 221.
12
Руссо Ж.-Ж. Там же. С. 198.
13
Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. – М.: РОССПЭН, 2000. С. 71.
14
Там же. С. 71—72.
15
Там же. С. 72.
16
Там же. С. 75.
17
Там же. С. 79.
18
Смит А. Теория нравственных чувств. М.: Изд-во «Республика», 1997. С. 31.
19
Смит А. Там же. С. 124.
20
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1990. С. 19.
21
Там же. С. 214.
22
Там же. С. 240.
23
Там же. С. 14.
24
Там же. С. 315.
25
Там же. С. 323.
26
Там же. С. 327.
27
Там же. С. 359.
28
Зиммель Г. Социальная дифференциация. Социологические и психологические исследования // Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М., 1996. С. 321.
29
Зиммель Г. Как возможно общество // Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. – М., 1996. С. 519.. С. 519.
30
Там же. С. 518.
31
Там же. С. 521.
32
Там же. С. 328.
33
Там же. С. 411.
34
Там же. С. 448.
35
Зиммель Г. Индивид и свобода // Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996. С. 193—194.
36
Там же. С. 194.
37
Там же. С. 195.
38
Там же. С. 196.
39
Там же. С. 197.
40
Там же. С. 199.
41
Там же. С. 199.
42
Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. С. 36.
43
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 607.
44
Там же. С. 507.
45
Там же. С. 507.
46
Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. С. 48.
47
Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. С. 33.
48
Там же. С. 36.
49
Там же. С. 36.
50
Вебер М. История хозяйства. – Прага, 1923. С. 228.
51
Там же. С. 9.
52
Вебер М. Протестантская этика // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 97.
53
Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. С. 55—56.
54
Хоркхаймер М. Затмения разума. К критике инструментального разума. – М.: Канон + РООН «Реабилитация», 2011. С. 186.
55
Там же. С. 148.
56
Там же. С. 150.
57
Там же. С. 155.
58
Там же. С. 154.
59
Там же. С. 156
60
Там же. С. 159.
61
Там же. С. 159.
62
Там же. С. 162.
63
Там же. С. 165.
64
Там же. С. 176—177.
65
Там же. С. 180.
66
Об общей теории общества Ю. Хабермаса, ключевых понятиях «жизненный мир», «система» и др. см.: Кимелев Ю. А., Полякова Н. Л. Концепция общества Юргена Хабермаса // Современные социологические концепции общества. М.: ИНИОН, 1995.
67
Habermas J. Theorie des Kommunikativen Handelns. – Fr. a.M.: Suhrkamp. Bd. 1. S. 483.
68
Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Том 1. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. С. 34.
69
Там же. С. 41.
70
Там же. С. 12.
71
Элиас Н. Общество индивидов. – М.: Праксис, 2002. С. 19.
72
Там же. С. 19.
73
Элиас Н. О процессе цивилизации. Том 1. Изменения в положении высшего слоя мирян в странах Запада. М.; СПб.: Университетская книга. С. 43.
74
Там же. С. 43.
75
Там же. С. 111.
76
Элиас Н. О процессе цивилизации. Том 2. Изменения в обществе. Проект теории цивилизации. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. С. 237.
77
Там же. С. 239—240.
78
Там же. С. 255.
79
Там же. С. 271.
80
Там же. С. 277.
81
Там же. С. 249.
82
Там же. С. 296.
83
Там же. С. 293.
84
Там же. С. 323.
85
Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Том 1. М.; СПб., 2001. С. 5.
86
Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 264.
87
Там же. С. 264.
88
Там же. С. 265.
89
Там же. С. 241.
90
Там же. С. 265.
91
Там же. С. 244.
92
Там же. С. 168.
93
Там же. С. 255.
94
Там же. С. 263.
95
Там же. С. 306.
96
См., например, Foucault M. L’herméneutique du sujet. – Paris: Seuil/Gallimard, 2001.
97
Touraine A. Critique de la modernite. – P.: Fayard, 1992. P. 11.
98
Ibid. P. 29.
99
Ibid. P. 240.
100
Ibid. P. 242.
101
Ibid. P. 273.
102
Ibid. P. 412.
103
Ibid. P. 421.
104
См. об этом: Полякова Н. Л. ХХ век в социологических теориях общества. – М.: Логос, 2004.

