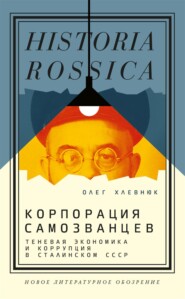
Полная версия:
Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР
Помимо присвоения трофейных ценностей, центральным пунктом обвинений против Павленко в период пребывания его организации в Германии было несколько самосудных расстрелов. Согласно версии следствия и суда, основанной на показаниях некоторых подсудимых, речь шла о трех эпизодах. В приговоре трибунала говорилось, что в конце 1944 года, когда УВР‐2 находилась на территории Германии, Павленко при помощи нескольких участников организации «лично расстрелял гражданина Михайлова, незадолго до этого вовлеченного в УВР». Весной 1945 года на территории Германии по указанию Павленко был расстрелян военнопленный немец, которого Павленко забрал в 1944 году из военной комендатуры Минска как специалиста по ремонту автомашин. Вскоре после окончания войны на территории Польши по указанию Павленко был расстрелян шофер Коптев, который перешел в УВР в конце 1944 года вместе с грузовой автомашиной.
Отвергая эти обвинения, Павленко заявлял:
Действительно, весной 1945 г. на территории Германии по моему приказанию за неоднократное насилие и мародерство над населением были расстреляны два военнослужащих, и это я сделал после того, когда узнал, что приказом Верховного Главнокомандующего за эти действия виновные расстреливаются. Я это не делал с целью мести или террора… Также по моему указанию был расстрелян военнопленный немец, который был фашист и скрывался с расположения (из части. – Авт.)[124].
В ответ на такие оправдания Павленко суд в приговоре указал: «Все расстрелы указанных лиц были произведены без какой-либо проверки о якобы непозволительном их поведении среди местного населения»[125]. Эта фраза, призванная доказать вину Павленко, по своей сути была двусмысленной. Получалось, что Павленко обвинялся не в бессудном расстреле (по сути, в убийстве), а в том, что эти в принципе допустимые расстрелы были произведены при отсутствии должных оснований.
Очевидно, такая формула обвинения отражала реальности военного времени, хорошо известные военным юристам из трибунала. Бессудные расстрелы вообще и на фронте в частности получили в годы войны широкое распространение[126]. Легитимность этой меры была подтверждена известными приказами Ставки Верховного Главнокомандования № 270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия» от 16 августа 1941 года[127] и № 227 от 28 июля 1942 года. В последнем, в частности, говорилось: «Паникеры и трусы должны истребляться на месте»[128].
В целом, по оценке О. В. Будницкого, число жертв бессудных расстрелов в армии в годы войны могло быть сопоставимо с численностью казненных по приговорам военных трибуналов, которая составляла 130–150 тыс. человек[129]. Хотя на завершающем этапе войны число самосудов могло снижаться, они оставались серьезной проблемой. Об этом свидетельствовал, например, проект приказа Сталина «О самочинных расстрелах военнослужащих», датированный февралем 1945 года. В документе Военным советам фронтов предлагалось «принять решительные меры к предупреждению и пресечению фактов превышения власти, беззаконий и самоуправства со стороны отдельных командиров и начальников, сурово наказывая виновных». Приводились в нем также многочисленные примеры бессудных расправ[130].
В общем, действия Павленко, который вершил свой суд примерно в то же время, когда готовился приказ Сталина о самочинных расстрелах, не представляли собой чего-либо особенного и чрезвычайного. Хотя личность самого Павленко они, несомненно, характеризуют соответствующим образом.
Суд не стал оспаривать также ссылки Павленко на приказ Сталина о расстрелах за насилие и мародерство над населением. Это удивительно, поскольку на самом деле такой приказ не существовал и суду было легко опровергнуть претензии Павленко на легитимность его действий. Очевидно, что в данном случае Павленко достаточно изобретательно апеллировал к общеизвестным в военной среде фактам массовых бесчинств на территории оккупированной Германии. Реагируя на такие явления, Сталин действительно подписал 20 апреля 1945 года директиву Ставки Верховного Главнокомандования, в которой говорилось:
1. Потребовать от войск изменить отношение к немцам, как к военнопленным, так и к гражданскому населению и обращаться с немцами лучше. Жестокое обращение с немцами вызывает у них боязнь и заставляет их упорно сопротивляться, не сдаваясь в плен. Гражданское население, опасаясь мести, организуется в банды. Такое положение нам не выгодно. Более гуманное отношение к немцам облегчит нам ведение боевых действий на их территории и, несомненно, снизит упорство немцев в обороне.
2. В районах Германии к западу от линии устье р. Одер, р. Одер до Фюрстенберга и далее р. Нейсе (западная) создавать немецкую администрацию, а в городах ставить бургомистров немцев. Рядовых членов национал-социалистской партии, если они лояльно относятся к Красной Армии, не трогать, а задерживать только лидеров, если они не успели удрать.
3. Улучшение отношения к немцам не должно приводить к снижению бдительности и к панибратству с немцами[131].
С большой долей вероятности именно эта директива, широко доведенная до войск, была известна также Павленко и использовалась им для своей защиты. Однако в ней, как видно, речь о каком-либо ужесточении наказаний виновных в насилии в отношении гражданского населения не шла. Тем более о расстрелах. Павленко явно передергивал факты. Однако мотивы его самосудов с большой долей вероятности можно просчитать. На завершающем этапе войны, когда снизился накал боевых действий (и, соответственно, загрузка УВР‐2 строительными работами), а также возросло количество трофейных соблазнов, Павленко было важно удерживать своих подчиненных в определенных дисциплинарных рамках.
Любой скандал грозил повышенным вниманием к организации и непредсказуемыми последствиями. Это же касалось и военнопленного немца-механика, которого Павленко приобрел на советской территории фактически в качестве раба. Его нельзя было без риска задержания просто отпустить на свободу. Его возможное бегство и поимка также грозили расследованием. В общем, как часто бывало во время войны и не только, проблемы решались самым «простым» способом. Павленко было важно закрыть военную страницу своей деятельности и распустить УВР‐2 без конфликтов и разоблачений.
Прибыльная демобилизация
Поскольку УВР‐2 была фиктивной военной организацией, «демобилизовать» ее после завершения войны можно было также только при помощи различных нелегальных схем и ухищрений. Этот процесс растянулся на некоторое время и заключался в решении двух взаимосвязанных задач. Первая – получение денежных средств, необходимых для выплаты «военнослужащим». Вторая – оформление документов о демобилизации.
Для решения первой задачи было необходимо перевезти в СССР и частично превратить в деньги материальные ценности, похищенные в основном в Германии. Эти операции осуществлялись через несколько каналов[132]. Часть имущества при случае вывозилась из Германии для реализации в Польше и СССР небольшими партиями.
Так, в апреле 1945 года в городе Гродно в Западной Белоруссии было продано около десятка швейных машин, доставленных из Германии. В то же время из Германии в Польшу перегнали десяток голов крупного рогатого скота, который был продан за польские злотые и царские золотые монеты. В мае 1945 года в Гродно доставили около 70 лошадей с повозками. В пути следования часть из них продали за польские злотые и золотые монеты. По тому же маршруту из Германии через Польшу в Гродно перегнали несколько десятков голов крупного рогатого скота, часть которого продали полякам. На территории Польши продавали также автомашины, тракторы и другое трофейное имущество.
Полученные в результате этих операций польские злотые нужно было обменять на советские рубли. Это было сделано летом 1945 года в Гродненской областной конторе Госбанка. Для этой цели сфабриковали фиктивные справки на вымышленных офицеров. Здесь также не обошлось без коррупции. Часть злотых обменяли с помощью начальника финансовой части Гродненского военкомата, заплатив ему 5 тыс. руб. По собранным следствием данным, всего было обменено более 330 тыс. польских злотых.
Летом 1945 года была предпринята передислокация основной части организации Павленко и ее имущества из Германии в СССР. С этой целью за взятку получили 25–30 железнодорожных вагонов. Следуя по территории СССР, участники организации реализовали часть германских фондов. Остальные вывезенные из Германии ценности, а также новые, приобретенные разными путями уже в СССР (лесоматериалы, лошади, обмундирование) также были в основном проданы. По данным следствия, только за перепроданное обмундирование Павленко и его сотрудники получили в 1945 году свыше 500 тыс. руб.[133] Всего с мая по сентябрь 1946 года, как утверждалось в приговоре трибунала, организация располагала 3 млн руб.[134]
За счет этого с августа 1945 года Павленко начал проводить демобилизацию своей «части», которая была размещена с помощью военкома Щекинского района Тульской области на территории этого района. Военком получил взятку в виде легкового автомобиля. При демобилизации участники организации получали вполне приличные средства. Сам Павленко, по его признаниям, взял себе около 90 тыс. руб. Видимо, на эти деньги был куплен дом в Калинине, который обошелся Павленко в 70 тыс. руб.[135]
Всего, по версии следствия, между членами организации было разделено 1,5 млн руб. Немало средств ушло на взятки. Помимо денег, участники организации (возможно, не все) получали при демобилизации различные вещи. Так, родственнику Павленко П. Н. Монастырскому помимо 6 тыс. руб. досталось дамское пальто и мотоцикл[136]. Шофер М. Н. Смирнов получил 5 тыс. руб., 100 метров ткани и офицерский шерстяной костюм. В. В. Ермоленко – 5 тыс. руб., два костюма, три пары ватного обмундирования и сапоги. Водитель И. И. Щеголев, помогавший Павленко с самого начала, – 8,5 тыс. руб., корову, пальто, плащ, 30 метров ткани, мешок муки, 20 килограммов сахара, 15 руб. царской золотой монетой. Кроме того, он, говорилось в материалах суда, «присвоил» трофейный мотоцикл[137]. Столь подробное перечисление этих материальных приобретений и сам их состав свидетельствовали о невысоком уровне жизни в стране, где каждое пальто, костюм и сапоги представляли собой значительную ценность.
Распределив материальные ресурсы организации, Павленко решил воспользоваться еще и государственной помощью, которая полагалась демобилизованным военнослужащим, но не членам организации Павленко, которые состояли в вооруженных силах на основании фальшивых документов. В декабре 1945 года на имя Тульского облвоенкома была составлена бумага с просьбой выделить около 30 тыс. руб. для 20 участников организации. Облвоенкомом к тому времени стал бывший военком Щекинского района, который уже получал от Павленко взятку. Так что исход дела был предрешен.
Для ускорения процесса Павленко подарил начальнику финансовой части областного военкомата отрез габардина и поросенка. Через некоторое время таким же путем в Тульском областном военкомате было получено еще около 20 тыс. руб., а потом еще 15 тыс. Благодаря этим операциям областной комиссар приобрел автомобиль, корову, ковер, радиоприемник и продукты питания. Аналогичные операции с получением государственных пособий были проведены при помощи взяток и в ряде других военкоматов. Всего было похищено 150 тыс. руб.[138]
По версии следствия и суда, еще в начале 1945 года Павленко и другие участники организации «установили преступные связи с работниками отдела кадров 4‐й Воздушной армии и при их содействии, путем использования фиктивных документов незаконно получили для участников „УВР“ большое количество орденов и медалей Союза ССР». С этой целью якобы составлялись фиктивные наградные листы с вымышленными заслугами и боевыми подвигами. Всего таким образом было сфабриковано 86 наградных листов и издано семь приказов командования 4‐й Воздушной армии о награждении членов команды Павленко правительственными наградами.
Использовав в качестве образца привезенные подлинные удостоверения о награждении, Павленко заказал в типографии фальшивые бланки. Они заполнялись произвольно на участников организации и других лиц. При содействии все того же военкома Тульской области на основании этих фальшивых документов были получены ордена и медали. Как выяснил суд, всего Павленко и его сообщники получили более 230 орденов и медалей. Эти награды использовали даже в качестве взяток. Так, обосновавшись в Калинине, Павленко «подарил» ордена Красной Звезды директору местной швейной фабрики и военпреду этой фабрики, а также заместителю председателя областной промысловой кооперации[139].
В последующем в ходатайстве о помиловании Павленко слабо пытался оспорить эти обвинения:
Стр. 15 приговора имеет формулировку, что в начале 1945 года установили преступные связи с отделом кадров 4‐й Воздушной Армии. Это в действительности не так, первые награды получили я и много других лиц, когда еще даже не знали, что приказы оформлялись через отдел кадров Армии, т. к. нас представляли к награде командиры дивизий, для которых выполнялись задания, кроме того много лиц получили награды, оформленные через нас, которые имели по два-три ранения, о чем имели справки, которые получали из госпиталей и службу их в строевых частях. Указанное число 230 наград в большинстве случаев являлись медалями «За победу над Германией», «Освобождение Варшавы», «Оборону Москвы» и т. д. В приговоре неправильно фигурирует, что я орденом Красной Звезды был награжден по документам от нашей организации. Это неправда. Представление и заполнение документов к награде этим орденом делало командование, для которого выполняли работы[140].
Можно предположить, конечно, что какая-то часть наград была получена вполне заслуженно теми реальными военнослужащими, которые оказались в составе организации Павленко, ничего не зная о ее истинном характере. Однако по поводу собственного ордена Красной Звезды Павленко кое-что недоговаривал. Орден был получен на основании приказа по 4‐й Воздушной армии от 28 февраля 1945 года. Однако представление о награждении подписал начальник отдела авиационной службы 12‐го района авиационного базирования подполковник В. М. Цыплаков. С Цыплаковым, как мы уже знаем, у Павленко были особые отношения. После разгрома организации Цыплаков также будет осужден по обвинению в получении от Павленко взяток.
Если вопрос о справедливости отдельных награждений в организации Павленко может обсуждаться, то присвоение воинских званий в УВР‐2 было целиком сфальсифицированным. Павленко сам изготовил документы о собственной «демобилизации» в звании инженер-майора и о «демобилизации» своих сотрудников в разных званиях. Во время войны, как уже говорилось, Павленко сам оформлял на своих сотрудников офицерские звания, используя фальшивые документы. Однако провести фальшивую демобилизацию «офицеров» было затруднительно. По этой причине Павленко вначале намеревался «демобилизовать» «офицеров» как «рядовых».
По свидетельству И. П. Клименко, соратники Павленко воспротивились этому. Павленко пришлось оформлять ложные офицерские дела. По ним (видимо, и здесь дело не обходилось без взяток) сотрудники Павленко становились на учет в местных военкоматах и получали военные билеты[141]. Однако приобрести офицерский военный билет в ряде случаев было непросто даже за взятку. Так, остался лишь «старшиной» водитель Щеголев, хотя во время войны он на определенном этапе носил офицерскую форму[142]. Видимо, по этой причине Щеголев, как говорилось выше, получил щедрые отступные в виде денег и товаров. Сам Павленко приобрел военный билет в Солнечногорском районном военкомате, заплатив военкому около 600 руб.[143]
Место в мирной жизни
После демобилизации перед Павленко и его сотрудниками встал вопрос, волновавший десятки миллионов людей в СССР и других странах мира: как жить дальше? Победоносное завершение страшной войны открывало новые перспективы, для каждого свои и не всегда благоприятные. Команда Павленко вернулась в родные края целая и невредимая и даже обеспеченная материально. В среднем 30-летние молодые люди должны были выбрать свое будущее, над которым, впрочем, тяготел предыдущий жизненный опыт. И, как мы увидим дальше, именно привычки и приобретенные на войне навыки сыграли решающую роль.
Демобилизация и устранение угрозы смерти на фронте открывали для Павленко путь к новой жизни – к возвращению к довоенному легальному прошлому. На первый взгляд, именно в этом направлении Павленко и устремился. Он приехал в Калинин, где жила его сестра. Позже на вопрос следователя о недвижимости Павленко сообщил, что в конце 1945 или в начале 1946 года купил дом в Калинине «пополам с сестрой Анной Максимовной»[144]. Очевидно, сестра сыграла какую-то роль в жизни Павленко как единственный близкий родственник, к которому он мог вернуться после окончания войны. Из этих мест была также жена Павленко[145]. Ко времени мобилизации у Павленко был 10-летний ребенок. Второй родился пять лет спустя[146].
Вернувшись в Калинин, Павленко воссоздал кооперативную строительную артель «Пландорстрой», которую возглавлял до войны. Вместе с Павленко в это предприятие вступили около двадцати его старых и вновь приобретенных сотрудников[147]. Вряд ли создание артели было сложной задачей. Артель имела понятное для властей прошлое, в Калинине сохранились какие-то связи. Павленко и его помощники имели хотя и сфальсифицированные, но формально чистые документы и вернулись с фронта с орденами и медалями на груди.
Сам Павленко о двух с половиной годах послевоенной жизни в Калинине на первых допросах говорил скупо: «В 1947 году я за нарушение финансовой дисциплины был уволен с занимаемой должности председателя артели „Пландорстрой“ города Калинина»[148]. Следователей же, судя по всему, вначале не интересовал этот эпизод, так как они были нацелены на разоблачение организации, действовавшей с 1948 года.
Дополнительные детали послевоенной активности команды Павленко появились после того, как из Калининской прокуратуры пришло дело об артели «Пландорстрой». Из него выяснилось, что прокуратура в конце 1947 – начале 1948 года выявила в артели многочисленные нарушения и махинации. Во время ревизии был зафиксирован важный канал проведения спекулятивных операций – денежные расчеты артели «Пландорстрой» с неизвестной военной организацией УВР‐2. Как выяснили контролеры, УВР‐2, которую возглавлял Павленко, получала от государственных организаций различные ресурсы, оплата которых шла по счетам артели «Пландорстрой», председателем организационного бюро которой был тот же Павленко[149]. В дальнейшем следствие вскрыло большое количество незаконных операций артели, что стало одним из пунктов судебного приговора[150].
Выявленные следствием факты позволяют понять, что Павленко изначально создавал «Пландорстрой» в качестве так называемой «лжеартели» для официального прикрытия нелегальных операций. Возможно, артель занималась и строительными работами (сведений об этом нет), однако они явно не входили в круг приоритетов команды Павленко. Сохранив печати и бланки УВР‐2 и создав «Пландорстрой», Павленко и его помощники манипулировали подложными документами этих структур для приобретения в государственных организациях различных ресурсов, которые затем перепродавались на черном рынке.
Условия жизни в СССР всегда благоприятствовали процветанию таких спекуляций. Тотальный дефицит элементарных потребительских ресурсов, продовольствия и промышленных товаров был характерной чертой советской действительности. Значительную часть своих денег советские люди оставляли не в государственных магазинах, а на рынке и у спекулянтов, где по бешеным ценам можно было приобрести все необходимое. Военная разруха только усугубила ситуацию.
В течение нескольких лет государственные предприятия легкой промышленности лишь в минимальном количестве выпускали товары широкого потребления и работали на фронт – шили обмундирование и военную обувь. Еще в ходе войны обозначились признаки голода, пик которого пришелся на 1946–1947 годы. От голода умерли более миллиона человек. Еще около 4 млн человек перенесли различные эпидемические заболевания, вызванные недоеданием. Из них около полумиллиона умерли[151]. Война и голод вызвали рост уголовной преступности, расцвет черного рынка.
Павленко и его команда быстро сориентировались в этой ситуации. Имея богатый опыт присвоения и перепродажи ресурсов, полученный на завершающем этапе войны, в 1946–1947 годах они продолжили подобные операции. Показательными для понимания сути «Пландорстроя» были махинации с военным обмундированием и другой одеждой, вскрытые следствием. Еще на фронте Павленко познакомился с Ф. Спиридоновым, служившим в период войны военпредом управления вещевого снабжения. После войны Спиридонов стал военпредом на Калининской швейной фабрике, изготавливающей обмундирование. С его помощью за взятки Павленко получал большие партии военной формы, белья, ватных курток и другой одежды якобы для нужд УВР‐2. Соответствующие документы оформлялись при помощи фальшивых бланков и печати УВР‐2. Однако фиктивная УВР‐2 не могла проводить расчеты через банковскую систему. В этом случае использовались счета официально существовавшей артели «Пландорстрой».
Судя по всему, такая схема использовалась неоднократно, возможно не без помощи того же Спиридонова. Так, в одной из калининских артелей по поддельной доверенности от УВР‐2 были получены мужское белье, ватные тужурки, обмундирование. В Калининском ателье мод была таким же способом получена тысяча мужских нательных рубах, а через областную сбытовую контору изделий легкой промышленности – 3 тыс. метров ткани. Эти товары, стоившие более чем 100 тыс. руб. по государственным ценам, были перепроданы на рынках Калинина, Клина, Киева и других городов в несколько раз дороже[152]. Даже с учетом больших накладных расходов – взяток, затрат на транспортировку и т. д., организация Павленко получала приличную прибыль.
Помимо ценных промышленных товаров повседневного спроса, артель приобретала (якобы для нужд УВР) и перепродавала и другие ресурсы. В Киев и Николаев было переправлено три вагона сена. Полученных от одной из воинских частей во временное пользование лошадей оформили как купленных «Пландорстроем», присвоив соответствующие суммы. Лошади, полученные во временное пользование артелью в другой воинской части, были проданы колхозам. Одному из колхозов был продан автомобиль, принадлежавший артели, а взамен в артель была сдана приобретенная по дешевке сломанная машина.
Общий объем выявленных операций такого рода следствие оценивало по-разному. На начальном этапе после ареста руководителей организации Павленко хищения оценивались в 350–360 тыс. руб.[153] В судебном приговоре говорилось, что за два года хищения в «Пландорстрое» составляли 200 тыс. руб.[154], сами подсудимые признавались в хищении 70–80 тыс. руб.[155], видимо полагая, что остальные деньги принадлежали им по закону. В любом случае речь шла о значительных суммах, которые вряд ли можно было получить столь же быстро за счет строительных работ.
Подобная деятельность артели «Пландорстрой» продолжалась до тех пор, пока в конце 1947 года не была проведена ее ревизия. Вполне возможно, интерес контрольно-прокурорских органов к артели Павленко был частью общей кампании против частников и кооперативов, которая развертывалась в этот период. Недовольное ростом частного предпринимательства, прежде всего под крышей легальных кооперативных предприятий, руководство СССР решило принять жесткие меры и провести масштабную чистку в этой сфере.
Зимой 1947/48 года Министерство государственного контроля СССР осуществило массовую ревизию предприятий потребительской, промысловой кооперации и кооперации инвалидов. Соответствующие материалы представили Сталину. 14 апреля 1948 года было оформлено постановление «О проникновении частника в кооперацию и предприятия местной промышленности»[156]. Оно придало новый импульс уже начавшейся в 1947 году кампании подавления частника. В 1947 и 1948 годах вдвое по сравнению с 1946 годом и втрое по сравнению с 1945 годом выросло количество приговоров судов по делам о спекуляции[157]. В 1948 году было закрыто более 25 тыс. мелких частных предприятий и «псевдоартелей», около 18 тыс. администраторов кооперативов были осуждены к заключению, а более 5 тыс. уволены[158].
Кампанейский характер чистки кооперации, несомненно, позволял многим частникам и кооператорам ускользнуть из-под удара. Ничего удивительного в этом не было. Так называемое «кампанейское правосудие», одним из проявлений которого была борьба со спекулянтами и «лжеартелями», всегда отличалось выборочным применением репрессий по принципу детской считалки: «кто не спрятался, я не виноват». Жертвы массовых карательных акций сталинского периода попадали в жернова государственной машины выборочно, часто для отчета. Более изворотливые, опытные и предусмотрительные нарушители и преступники знали, как действовать в подобных ситуациях.

