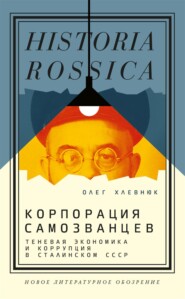
Полная версия:
Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР
Махинации Павленко трудно признать исключительным явлением. Как показывают исследования, разного рода фальшивые документы имели широкое хождение в годы войны. Особенно часто подделывались продовольственные карточки, пропуска на проезд в железнодорожном транспорте, пользовавшиеся спросом у «мешочников», документы об освобождении от службы в армии[85]. Эти явления, широко распространенные в тылу, не обходили и армию. Так, в октябре 1943 года к 10 годам лишения свободы был приговорен сержант Иванов. Для фабрикации документов, позволяющих дезертировать с фронта, он изготовил фиктивную гербовую печать и штамп полка[86].
Легальные бумагами о переводе Павленко к новому месту службы в военно-воздушные силы были хорошим прикрытием для продолжения поисков 12 РАБ и отсутствия по старому месту службы. Однако найти нужную цель в условиях фронтовой жизни первого периода войны было совсем непросто. Прежде всего, для поездок нужен был транспорт, которым Павленко не располагал. Вновь воспользовавшись своими способностями заводить знакомства, Павленко уговорил водителя грузовика сержанта И. И. Щеголева поехать в район города Калинина на розыск аэродромных строителей. С тех пор Щеголев в качестве водителя и члена организации прошел с Павленко долгий путь. В начале 1950‐х годов после разгрома организации Павленко он был обвинен в числе прочего в дезертирстве и хищении из воинской части грузовика[87].
Пока же в марте 1942 года Павленко вместе со Щеголевым отправился на поиски 12 РАБ. Однако они оказались безуспешными. Ситуация для Павленко складывалась неблагоприятно. С одной стороны, он уже выбыл из своей прежней части, с другой – не мог попасть в новую. Это грозило серьезными рисками, прежде всего обвинениями в дезертирстве. И тогда Павленко предпринял решительный авантюрный шаг – в марте 1942 года организовал собственное ложное воинское подразделение. В этом случае вновь пригодилась печать старой артели. Именно ею Павленко скрепил заявление в органы милиции города Калинина о разрешении изготовить новую печать и угловой штамп «участка № 2 Управления военных работ». Себя Павленко начал именовать начальником участка управления военных работ при Калининском фронте, военинженером 3‐го ранга[88]. Вокруг себя он собрал старых сотрудников и знакомых.
Получив эти документы и ядро команды, Павленко в начале 1942 года обратился в фронтовой эвакопункт (ФЭП). Врачу – начальнику эвакопункта он объяснил, что до передислокации имеется свободная команда, которую можно временно использовать на строительных работах. Нетрудно предположить, что начальник эвакопункта принял бригаду квалифицированных строителей с энтузиазмом. Ей было поручено обустройство землянок для фронтовых госпиталей. По подложным документам был открыт счет в Калининской областной конторе Госбанка, через которую поступали деньги, перечисляемые ФЭП за работу[89].
Хотя с юридической точки зрения часть Павленко под названием УВР‐2 была фиктивной, фактически она состояла из реальных людей. Прежде всего, в нее влились старые знакомые Павленко по довоенной артели, а также водитель Щеголев, с которым Павленко ранее разыскивал 12 РАБ. Поскольку организация действовала в интересах вполне легального фронтового эвакопункта, весной 1942 года Павленко сумел установить контакты с Калининским и Клинским районными военкоматами. Через них было легализовано оформление на военную службу ближайших соратников Павленко, мобилизованы новые члены организации. Среди них были как подлежащие призыву в армию, так и военнослужащие, отставшие от своих частей, и дезертиры[90]. Тыловые строительные части имели очевидные преимущества и для тех военнослужащих, которые возвращались в строй после ранения. Так, В. С. Шичков и С. Э. Ковальский, получившие отпуск по ранению, в начале 1942 года, еще до завершения отпуска, предпочли перейти в организацию Павленко[91].
Личный состав команды был поставлен на продовольственное и вещевое снабжение во фронтовом эвакопункте. Помимо грузовой машины Щеголева, команда обзавелась несколькими лошадьми[92].
Оценка этих событий самим Павленко и органами следствия и суда 10 лет спустя была разной. Павленко настаивал, что, несмотря на фиктивный характер, его строительные команды «выполняли оперативные задания командиров боевых частей, которым они были приданы. За успешное выполнение заданий неоднократно имели благодарности от командиров частей и соединений»[93].
Суд исходил из того, что Павленко с марта 1942 года, т. е. после создания УВР‐2, был дезертиром. Дезертирами считались также все члены организации, поскольку сама она была фиктивной. Очевидно, однако, что речь шла о дезертирстве особого рода. Павленко и его команда служили на фронте в составе легальных воинских структур и выполняли реальные строительные работы в интересах Красной армии. Ситуация не изменилась и после того, как осенью 1943 года Павленко все же сумел разыскать 12 РАБ в районе города Тулы и при помощи В. М. Цыплакова договорился о переходе УВР‐2 в оперативное подчинение 12 РАБ.
Почему потребовалось сохранение фиктивной части вместо прямого перехода в 12 РАБ, не вполне ясно. Возможно, у 12 РАБ не было необходимых штатных единиц. Возможно, Павленко и его товарищи опасались разоблачения аферы в случае переформирования. Возможно, они видели преимущества в сохранении определенной автономии своей команды, начальником которой числился Павленко. Численность организации должна была меняться на разных этапах войны. Павленко в своих заявлениях называл цифру 120–180 человек[94]. В приговоре суда говорилось о более чем 200 «участниках преступной организации»[95].
Команда УВР‐2 была зачислена на продовольственное снабжение при 12 РАБ. Оплата за выполненные подрядные работы переводилась на счета в конторах Госбанка. Наряду со старыми сотрудниками в организацию Павленко разными способами продолжали привлекаться новые люди. Часть из них прошли с тяжелыми боями первые годы войны. Так, В. И. Дедковский, числившийся в УВР‐2 помощником командира взвода, служил в действующей армии с ноября 1941 года. Воевал на южных фронтах, был дважды ранен. Проведя восемь месяцев в госпитале после второго ранения, через запасной полк получил назначение в команду Павленко[96]. Каким образом и почему происходило направление военнослужащих в УВР‐2, из документов непонятно. Несомненно, в ряде случаев это был организованный процесс.
Так, родственник Павленко П. Н. Монастырский, который через 10 лет попадет вместе с ним под суд, перешел в УВР‐2 в начале 1943 года через пересыльный пункт после второго ранения[97]. Таким же был путь И. Ф. Лисовского, также командированного в организацию через запасной полк весной 1943 года после тяжелого ранения[98]. Лисовский, скорее всего, был знаком с Павленко или с кем-либо из команды, поскольку призывался в армию из Солнечногорска Московской области, где до войны работала артель Павленко. А. В. Кузнецов и В. И. Зятьков, мобилизованные в армию в самом начале войны в Калинине[99], могли быть известны кому-либо из членов команды Павленко или приняты по земляческому принципу. Они попали в УВР‐2 в начале 1944 года после нескольких ранений.
Подобные примеры показывают, что во время войны в той или иной мере действовали неформальные механизмы перехода военнослужащих из части в часть, особенно в связи с новыми назначениями после ранений. Свою роль в этом процессе могли играть земляческие связи, личные знакомства и родственные отношения. Многие знакомые и родственники, даже если они были на фронте, могли поддерживать связи при помощи переписки. Очевидно, что в организации Павленко в силу ее теневого характера такие неформальные отношения играли особую роль.
При комплектовании УВР‐2 особенно ценились водители, которые переходили в организацию вместе с закрепленными за ними грузовыми автомашинами[100]. Как это могло происходить, из документов неясно. Видимо, в условиях боевых действий было сравнительно легко затеряться, тем более когда речь шла о переходе в новую военную часть. Несложно было приобрести для организации и оружие, недостатка которого в районах боевых действий не ощущалось.
Впрочем, оружия нужно было немного, ведь УВР‐2 работала в тылу. Все члены команды выдавали себя за военнослужащих разных званий. Павленко как командир части носил форму со знаками различия инженер-майора, И. П. Клименко считался начальником финансовой части в звании старшего лейтенанта, на Г. В. Курицына и С. И. Туркина были сфабрикованы документы старшин и т. д. Используя старые связи, Павленко получил за взятки в подмосковной типографии бланки различных документов. Были изготовлены фиктивные командировочные предписания, красноармейские книжки и т. д.
Мы почти ничего не знаем о том, чем конкретно занималась УВР‐2. Следствие и суд эти вопросы не интересовали, поскольку в центре их внимания была не позитивная деятельность организации, а ее преступный характер. Павленко в противовес этому в своих заявлениях всячески подчеркивал достижения команды:
Во время войны лжевоенно-строительная организация занималась строительством наземных сооружений на полевых аэродромах, а в некоторых случаях производила постройку или ремонт таковых. Некоторый период занимались строительством полевых госпиталей. С лета 1944 года команды нашей лжевоенно-строительной организации были в действующей армии, т. е. в составе 4‐й воздушной армии и выполняли задания наравне с инженерными частями этого соединения. В этот период команды выполняли оперативные задания командиров боевых частей, которым они были приданы. За успешное выполнение заданий неоднократно имели благодарности от командиров частей и соединений. Команды всегда находились в непосредственной линии фронта или 15–25 клм., т. к. они занимались подготовкой площадок для боевых самолетов[101].
Некоторое представление о деятельности организации дают документы о представлении к наградам ее отдельных членов. Конечно, нужно учитывать, что суд признал сами награждения фиктивными[102]. Однако некоторую долю правды наградные документы должны были содержать. В представлении к награждению Павленко орденом Красной Звезды, например, говорилось, что с конца 1943 и в 1944 году организация Павленко построила 82 жилых и 5 технических землянок, 6 командных пунктов и 6 столовых и других сооружений, общей стоимостью 600 тыс. руб. Земляночные городки строились на аэродромах. Благодаря этому описанию мы можем понять характер деятельности УВР‐2. В представлении говорилось также, что во время летней наступательной кампании 1944 года работы выполнялись в непосредственной близости от линии фронта, под огнем противника, а в районе Минска подразделение Павленко даже участвовало в боях[103].
Большинство членов команды Павленко, прежде всего ее рядовой состав, конечно, ничего не знали о характере УВР‐2. Внешне эта «часть» вряд ли чем-то выделялась из ряда других подразделений Красной армии, выполнявших аналогичные функции. Помимо организации строительных работ, нужно было решать много других задач материального снабжения. Павленко и в этом случае использовал любые методы. По данным следствия, он и его помощники не ограничивались получением положенных УВР‐2 продовольственных пайков, но стремились незаконными методами пополнить запасы. Например, продовольствие систематически получали по фальшивым аттестатам и командировочным предписаниям в продпунктах различных городов[104]. Похищенные таким путем ресурсы использовались как для дополнительного питания участников организации, так и для обмена на водку, бензин, фураж и частично – для дачи взяток.
Если продовольствие в определенных количествах команда Павленко получала централизованно, то на обмундирование, скорее всего, это не распространялось. Поэтому его искали всеми доступными способами. По версии следствия и суда, в этом случае Павленко и его помощники действовали через двух представителей вещевого и обозного снабжения Наркомата обороны. В течение 1943–1946 годов они за взятки выдавали УВР‐2 наряды на получение формы, нижнего белья, ватных курток и т. д.[105] В своих заявлениях Павленко настаивал на обычном характере таких операций:
«Я не знаю, как можно считать хищение, если в период Отечественной войны получаемое по распоряжению военпредов выбракованное белье, как то: белье, гимнастерки, шаровары, фуфайки, рукавицы, нами полностью стоимость такого оплачивалась тем предприятиям, в которых получалось, т. е. швейным фабрикам, мастерским и т. д.»; «Все вышеуказанное обмундирование шло на личный состав которого было 120–180 чел.»; «Как исключение могла быть одна или две пары проданы или заменены на бензин, запчасти или питание во время командировки»[106].
Суд, однако, настаивал на том, что значительная часть незаконно полученного обмундирования продавалась на рынках по высоким ценам.
Суд предъявлял Павленко и его подельникам обвинения в массовых хищениях и других ресурсов. В 1943 году с колхозных полей Тульской области они неоднократно вывозили сено, которое продавали затем на рынке. В это же время в городе Клине, обманув (подкупив?) сторожа, со склада строительной организации члены УВР‐2 похитили 200 листов шифера. В 1944 году они продали четырех лошадей, угнанных в районе Минска. Летом 1944 года в населенном пункте Березино УВР‐2 досталось большое количество ржи. По указанию Павленко ее переработали на муку и продали на рынке, выручив от продажи крупную сумму денег, и т. д.[107]
Оборотной стороной многочисленных преступлений и махинаций было, несомненно, падение дисциплины в организации. Ее поддержание Павленко, как и многие другие командиры, обеспечивал разными методами. Некоторые из дисциплинарных инцидентов были зафиксированы позже судом и поставлены руководителям УВР‐2 в вину. «Прибегая к различным мерам принуждения, подсудимый Павленко связывал отдельных участников УВР, запирал их в подвалы, погреба и сараи, учинял им допросы», – говорилось в приговоре суда.
Так, летом 1944 года в районе Минска был помещен в сырой блиндаж пьяный участник УВР‐2 Кочкин. Ему удалось бежать. Спасаясь от преследования, Кочкин просил защиту у солдат проходившей мимо воинской части. Возникла перестрелка, в которой один из членов УВР‐2 был убит, а сам Кочкин тяжело ранен. Осенью 1943 года «начальник штаба» УВР‐2 Завада нанес пистолетом удар по голове шоферу за неповиновение[108]. Особый акцент обвинение делало на три бессудных расстрела, произведенные в организации на завершающем этапе войны, о чем будет сказано далее.
Состоявшийся через 10 лет после этих событий трибунал по делу УВС объяснял такие инциденты стремлением Павленко и его ближайших сотрудников «предотвратить возможное разоблачение преступной организации со стороны рядовых участников УВР» и военных властей[109]. Однако вряд ли это было так, по крайней мере в большинстве случаев. Речь шла о рутинном поддержании дисциплины способами, которые были привычны для Павленко, впрочем, как и для многих командиров в армии.
За пределами родины: трофейное имущество и самосуд
Было бы неправильно утверждать, что преступления и насилие были характерны во время войны только для организации Павленко в силу ее изначально преступного характера. Перемещение многих миллионов вооруженных людей, среди которых были и уголовники, досрочно освобожденные из лагерей для отправки на фронт, и несудимые с низким уровнем ответственности, сопровождалось многочисленными эксцессами, часто подогреваемыми массовым употреблением спиртных напитков. Героизм и самоотверженность соседствовали с подлостью и низостью. Чувство долга, сострадание и порядочность – с преступлениями и озлобленностью. Комплексы соответствующих документов недостаточно изучены, прежде всего по причине ограниченной доступности. Имеющиеся источники свидетельствуют о достаточно широком распространении насилия в армии[110]. Такую информацию регулярно получали высшие руководители страны, что свидетельствовало о значимости и широкой распространенности этого явления.
Так, в августе 1943 года управление НКВД Курской области направило Л. П. Берии спецсообщение о бандитской группе в составе 16 РАБ 2‐й Воздушной армии[111]. Для нас эта информация может представлять особый интерес, потому что речь шла о подразделении, аналогичном тому, в которое через несколько месяцев вольется команда Павленко, – 12 РАБ 4‐й Воздушной армии. В спецсообщении говорилось, что командование 16 РАБ в начале августа 1943 года направило в Белгород техника-лейтенанта Липского во главе технического взвода для сбора трофейных автомашин и авиационного имущества. «Вследствие бесконтрольности офицерский состав пьянствовал, а рядовой состав занимался спекуляцией, продавая на рынке изготавливаемые им различные изделия».
В определенный момент Липский дал приказ старшине взвода ограбить трех пожилых учительниц Васильевых, у которых, как считали преступники, было «много ценностей и вещей». Предварительно напоив двух красноармейцев, старшина организовал вместе с ними налет с оружием. Сотрудники НКВД по горячим следам сумели найти похищенные вещи и определить налетчиков. Однако во время допроса в здание городского отдела НКВД ворвались Липский и его сослуживец. Они сделали попытку освободить арестованных и при задержании пытались оказать вооруженное сопротивление.
Эта информация о налете в Белгороде по распоряжению Берии была направлена Сталину. Накапливаясь, такие сигналы вызывали реакцию руководства страны и армии. Так, 30 мая 1944 года заместитель наркома обороны СССР (наркомом обороны был сам Сталин) маршал А. М. Василевский подписал приказ под красноречивым заголовком «О бесчинствах, вооруженных грабежах, кражах у гражданского населения и убийствах, творимых отдельными военнослужащими в прифронтовой полосе, и мероприятиях против них». В нем говорилось о преступлениях военнослужащих и о непринятии командованием «решительных мер» борьбы с ними.
В приказе перечислялись кражи личного имущества граждан, товаров в магазинах, собственности колхозов в западных областях СССР. Руководство Наркомата обороны предписывало усилить контроль над передвижениями военнослужащих, ограничивать командировки, усилить выявление дезертиров и т. д. Дела, связанные с грабежами, кражами, убийствами и другими преступлениями, совершенными военнослужащими, предписывалось «разбирать немедленно и виновных привлекать к суду военного трибунала»[112].
Однако, судя по документам, таких сигналов сверху было недостаточно. Органы НКВД продолжали докладывать высшему руководству страны о преступлениях военнослужащих против гражданского населения. Так, в конце июля 1944 года Берия сообщил Сталину об аресте группы солдат и младших офицеров танковой ремонтной части в Молдавии. Поменяв обмундирование на спиртное и продукты, в состоянии алкогольного опьянения они ограбили несколько крестьян, отобрали у пастуха 12 овец, изнасиловали женщину[113]. В сводке донесений местных органов НКВД о преступлениях военнослужащих в июне – июле 1944 года приводились другие факты такого рода[114].
Аналогичный доклад, направленный Берией Сталину в конце сентября, открывался сообщением об изнасиловании красноармейцами жительницы Крыма. Далее следовали уже привычные примеры грабежей в поездах, вооруженных стычек с милицией и т. д. В Москве несколько военнослужащих совершили вооруженное ограбление базы отдела снабжения авиационного завода, в Харьковской области – сельского магазина, в Воронежской области – колхозного зернохранилища и т. д.[115] Сводки о преступлениях военнослужащих за сентябрь – октябрь и декабрь 1944 года содержали описания грабежей, изнасилований и убийств, совершенных как в глубоком тылу, так и недалеко от фронта на территории СССР[116]. Все это – преступления в отношении советских граждан на советской территории. Ситуация в огромной степени усугубилась, когда армия вышла на чужие земли, особенно в Германию.
С Красной армией путь до Германии прошла и группа Павленко, или, как было написано в приговоре суда, «пробралась» туда «вслед за наступавшими войсками Советской Армии». Организация продолжала выполнять строительные работы в составе 12 РАБ 4‐й Воздушной армии. Помимо этого, по утверждению суда, в 1944–1945 годах на территории Польши и Германии она занималась массовым хищением трофейного имущества: автомашин, тракторов, мотоциклов, радиоприемников, скота, продуктов питания и т. д.
Так, летом 1945 года в городе Шенебек (Германия) на одной из мельниц УВР‐2 было захвачено большое количество ржи, несколько коров, лошадь, пианино и мебель. Значительное количество ржи было перемолото на муку и вывезено в СССР, она была поделена между участниками УВР‐2, расходовалась на питание и частично продавалась. Как утверждал трибунал, по неполным данным, участниками организации на территории Германии было похищено около 80 лошадей, не менее 50 голов крупного рогатого скота, большое количество свиней, около 20 грузовых и легковых автомашин, до 20 тракторов, электромоторы, автотракторные прицепы, значительное количество муки, крупы и сахара[117]. Всего, как утверждалось в приговоре, этого имущества из Германии было распродано на территории Польши и СССР на 1,1 млн руб.[118]
Справедливости ради, в этом случае нужно дать слово обвиняемым, которые представляли ситуацию иначе. В заявлениях о помиловании Павленко писал:
Я не знаю, в чем выражается хищение государственных средств и имущества, или на территории врага, т. е. Германии, в период окончания войны, если было подобрано 10–15 колесных тракторов на резиновом ходу, часть которых вышла из строя во время производства строительных работ, также взято несколько легковых и грузовых автомашин, подобрано 40–50 лошадей, 10–15 коров. Указанное имущество нами не взято на трофейных складах и базах, и на территории Германии находилось сотни голов лошадей, коров, свиней, которые были бесхозными и за отсутствием корма и ухода в некоторых случаях гибли. Спрашивается, каким образом это имущество и вырученные деньги считать хищением, ведь его могло и не быть. Кроме того, указанные средства выданы как пособия уходящим из армии, выдачи денег наличными взамен проездных литеров, оплаты командировочных, тарифа за железнодорожные вагоны, покупку продуктов и бензина… Кроме того, средства расходовались на выдачу пособий, т. к. от государства не могли получать, т. к. в воинских частях на денежном вещевом и некоторых других не состояли. Свиньи, коровы, мука и прочее расходовались на питание личного состава[119].
Трудно сказать, было ли имущество, захваченное командой Павленко, действительно бесхозным или его отобрали у местных жителей. Могло быть и то и другое. Однако, как свидетельствуют многочисленные факты, охота за трофеями в данном конкретном случае была лишь микроскопической частью массового захвата материальных ценностей на территориях врага. Первые признаки осознания серьезности этой проблемы высшим руководством страны появились еще до выхода Красной армии на территории вражеских государств.
Так, 3 августа 1944 года был издан приказ первого заместителя наркома обороны СССР маршала Г. К. Жукова о запрещении награждения автомашинами личного состава Красной армии. В нем говорилось, что «военные советы и командующие фронтов и армий, а также командиры соединений и частей награждают отдельных военнослужащих и граждан легковыми автомашинами из наличного автопарка и военных трофеев Красной Армии». Приказом запрещались такие действия без специального решения правительства в каждом отдельном случае[120]. 26 сентября 1944 года действие этого приказа было распространено также на награждение мотоциклами[121].
Однако по мере продвижения Красной армии на Запад ситуация с трофеями обострялась. 1 декабря 1944 года, в связи с массовым присвоением материальных ценностей на территории Румынии, ГКО СССР принял постановление о незаконном использовании трофейного имущества. В нем говорилось о массовом вывозе материальных ценностей, а также о злоупотреблениях высокопоставленных военных. «Имели место факты, – отмечалось в постановлении, – когда военнослужащие для личных целей вывозили с фронтов трофейную мебель, радиоприемники, музыкальные инструменты и другие вещи даже самолетами».
Сталин проявил к этому документу особый интерес и тщательно отредактировал его. Ряду генералов и руководителей интендантских служб объявили выговоры или сняли с должности. Как указывалось в постановлении, трофейные ресурсы подлежали концентрации в руках государства. Их распределение и транспортировка в тыл должны были осуществляться централизованно по решениям правительства. Постановление, в частности, устанавливало такие нормы отправки личных посылок военнослужащими не более одного раза в месяц: для рядовых и сержантов 5 килограммов, для офицеров – 10, для генералов – 16[122].
Однако, как показали дальнейшие события, во многих случаях такие предписания игнорировались. Для высокопоставленных советских генералов и маршалов, руководителей госбезопасности, для работников наркоматов, приезжавших в Германию в командировки для демонтажа оборудования в счет репараций, и многих других ценности вывозились вагонами[123]. Пример организации Павленко доказывает, что возможности для бесконтрольного и масштабного расхищения ресурсов были не только у высокопоставленных командиров и руководителей. Хотя у обычных военнослужащих не было такого доступа к ценностям (золоту, драгоценностям, антиквариату и т. д.), который имели высокопоставленные руководители на оккупированных территориях.

