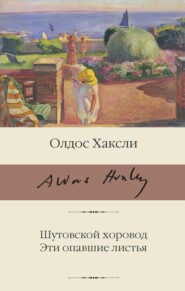скачать книгу бесплатно
– Любовь! – отозвался Липиат. Он смотрел на Млечный Путь.
– Вдруг на меня налетает фараон. «Сколько лет твоей лошади? – говорит он. – Она не может возить тяжести, она припадает на все четыре ноги», – говорит. «Неправда», – говорю я. «Не сметь мне возражать, – говорит он. – Распрягите ее сию же минуту».
– Но я уже знаю все о любви. Тогда как о почках я знаю невероятно мало.
– Но, дорогой Шируотер, как можете вы знать все о любви, если вы не занимались ею со всеми женщинами на свете?
– Ну, мы и пошли, я и фараон и лошадь, прямехонько в полицейский участок…
– Или вы принадлежите к числу тех кретинов, – продолжала миссис Вивиш, – которые говорят о женщине с большого Ж и утверждают, будто мы все одинаковы? Бедный Теодор, вероятно, думает так в минуты слабости. – Гамбрил неопределенно улыбнулся откуда-то издали. Он входил вслед за человеком с чашкой чая в душный полицейский участок. – И конечно, Меркаптан, потому что все женщины, сидевшие на его софе Louis Quinze[54 - В стиле Людовика XV (фр.).], походили одна на другую как две капли воды. Возможно, Казимир тоже: все женщины похожи на его безумный идеал. Но вы, Шируотер, вы человек умный. Неужели вы верите в подобную чепуху?
Шируотер покачал головой.
– Фараон давал показания против меня. «Припадала на все четыре ноги», – говорит. «Ничего не припадала», – говорю я, а полицейский ветеринар за меня заступился: «С лошадью, – говорит, – обращались очень хорошо. Но она старая, очень старая». «Знаю, что старая, – говорю я. – А где я, по-вашему, возьму денег купить себе молодую?»
– х?
– у?
, – говорил Шируотер, – = (х + у)(х – у). И уравнение сохраняет силу при любых значениях х и у… То же самое и с вашей любовью, миссис Вивиш. Уравнение остается таким же, независимо от того, каковы личные свойства подставляемых в него величин. Мелкие индивидуальные тики и особенности – какое они, в конечном счете, имеют значение?
– Какое, в самом деле? – сказал Колмэн. – Тики – всего лишь тики. Тики, и таки, и токи, и туки, и минеральные удобрения…
– «Лошадь нужно уничтожить, – говорит полисмен. – Она слишком стара, чтобы работать». «Она-то стара, – говорю я, – да я не стар. Что, мне разве станут платить пенсию в тридцать два года? Как я стану зарабатывать себе на хлеб, если вы заберете у меня лошадь?»
Миссис Вивиш страдальчески улыбнулась.
– Вот человек, который считает, что личные особенности пошлы и незначительны, – сказала она. – Вы, значит, даже не интересуетесь людьми?
– «Что вы будете делать, это меня не касается, – говорит он. – Мое дело – привести в исполнение закон». «Странные у вас законы, как я погляжу. – говорю я. – Что это за закон такой?»
Шируотер почесал в затылке. Потом под его огромными черными усами показалась наивная детская улыбка.
– Нет, – сказал он. – Похоже на то, что не интересуюсь. Пока вы не сказали, мне это в голову не приходило. Но похоже на то, что нет. Нет. – Он рассмеялся, по-видимому, в восторге от этого открытия насчет самого себя.
– «Какой закон? – говорит он. – Закон о жестоком обращении с животными. Вот какой закон», – говорит.
Насмешливая и болезненная улыбка появилась и погасла.
– В один прекрасный день, – сказала миссис Вивиш, – они, может быть, покажутся вам более достойными внимания, чем теперь.
– А до тех пор… – сказал Шируотер.
– Здесь работу не найдешь, а как работал я сам за себя, хозяином, то и на пособие по безработице мне рассчитывать нечего. И когда мы прослышали, что в Портсмуте есть места, мы решили попытаться, даже если бы пришлось переть туда пешком.
– К тому же у меня – мои почки.
– «И не надейтесь, – говорит он мне, – и не надейтесь. Человек двести явилось, а мест всего три». Что ж нам оставалось делать? Мы и пошли назад. На этот раз четыре дня шагали. Ей стало плохо по дороге, очень плохо. Она у меня на шестом месяце. У нас это первый. А когда родится, еще трудней станет.
Из черного узла раздалось негромкое рыдание.
– Послушайте, – сказал Гамбрил, внезапно врываясь в разговор. – Какая ужасная история! – Он горел негодованием и состраданием, он чувствовал себя пророком в Ниневии. – Тут два несчастных создания. – И Гамбрил вполголоса рассказал им все, что он слышал. – Это ужасно, ужасно. Всю дорогу в Портсмут и обратно пешком, полуголодные; а женщина в положении.
Колмэна взорвало от восторга.
– В положении, – повторил он, – в положении, положении. Закон всемирного положения, впервые сформулированный Ньютоном, а ныне исправленный и дополненный божественным Эйнштейном. Бог сказал: да будет Ньюштейн, и бысть свет. И Бог сказал: да будет свет, и бысть тьма на земле от шестого часа до девятого. – Он хохотал во всю глотку.
Они собрали пять фунтов. Миссис Вивиш взялась передать их черному узлу. Шоферы расступились перед ней; наступило неловкое молчание. Черный узел поднял лицо, старое и изнуренное, как лицо статуи на портале средневекового собора; старое лицо, но при взгляде на него было ясно, что принадлежит оно женщине еще молодой. Ее рука дрожала, когда она взяла банкноты, а когда она открыла рот и произнесла едва слышные слова благодарности, стало видно, что у нее не хватает нескольких зубов.
Компания распалась. Каждый пошел своей дорогой: мистер Меркаптан направился в свой будуар рококо, в свою миленькую спальню барокко на Слон-стрит; Колмэн с Зоэ – к бог знает каким сценам интимной жизни в Пимлико; Липиат – в свою мастерскую в районе Тоттенхэм-Корт-род, одинокий, грустно-мечтательный и, быть может, чересчур сознательно сгибаясь под тяжестью несчастий. Но несчастье бедного титана было вполне реальным, потому что разве он не видел, как миссис Вивиш уехала в одном такси с этим неотесанным болваном Оппсом? «Нужно закончить танцами», – прохрипела Майра со смертного одра, на котором вечно пребывал ее беспокойный и усталый дух. Бруин послушно дал адрес, и они уехали. А после танцев? О, неужели возможно, что этот жуткий ублюдок – ее возлюбленный? И чем он ей нравится? Неудивительно, что Липиат шел согнувшись, как Атлас под тяжестью Вселенной. И когда на Пиккадилли запоздалая и неудачливая проститутка выскользнула из темноты навстречу ему, шагавшему, не замечая ничего вокруг – до такой степени он был поглощен своим горем, – и окликнула его безнадежным «развеселись, мальчик», Липиат откинул голову назад и титанически рассмеялся с жуткой горечью благородной и страждущей души. Даже на несчастных уличных женщин действовало горе, излучавшееся из него волна за волной, подобно музыке, как он это любил себе представлять, в ночную тьму. Даже уличные женщины. Он шагал и шагал, еще более безнадежно согбенный, чем раньше; но больше он никого не встретил.
Гамбрил и Шируотер жили оба в Паддингтоне: они вместе молча зашагали через Парк-лейн. Гамбрил переменил шаг на ходу, чтобы попасть в ногу со своим спутником. Идти не в ногу, когда шаги так громко и гулко звучат на пустом тротуаре, было, по его мнению, неприятно, неловко и даже почему-то опасно. Шагая не в ногу, человек, так сказать, выдает себя, дает ночи почувствовать, что идут два человека, тогда как, если шаги звучат в унисон, можно подумать, что идет только один человек, ступающий тяжелей, внушительней и уверенней, чем каждый в отдельности. Итак, они шли в ногу по Парк-лейн. Полисмен и три поэта, повернувшиеся друг к другу спиной, каждый у своего фонтана, – вот и все человеческие существа, кроме них двоих, пребывавшие в сиреневом свете электрических лун.
– Это ужасно, это возмутительно, – сказал наконец Гамбрил после очень долгого молчания, в продолжение которого он смаковал свое возмущение по поводу всего этого. – Жизнь, видите ли…
– Что возмутительно? – осведомился Шируотер. Он шел, наклонив свою большую голову, сжимая шляпу руками, заложенными за спину; шел неуклюже, на каждом шагу переваливаясь всем своим грузным телом. Где бы ни находился Шируотер, он всегда занимал столько места, сколько заняли бы два или три обыкновенных человека. Освежающие пальцы прохладного ветра перебирали его волосы. Он обдумывал опыт, который намеревался поставить у себя в физиологической лаборатории в ближайшие дни. Нужно посадить человека за эргометр в нагретой камере и заставить его работать по нескольку часов подряд. Он, разумеется, будет усиленно потеть. Нужно будет устроить приспособления, чтобы собирать пот, взвешивать его, анализировать и так далее. Интересно будет посмотреть, что получится через несколько дней. Из его организма выйдет столько солей, что может измениться состав крови; могут произойти также и другие весьма любопытные вещи. Опыт будет замечательный. Восклицание Гамбрила нарушило ход его мыслей. – Что возмутительно? – спросил он несколько раздраженно.
– Эти люди в ночном кафе, – ответил Гамбрил. – Возмутительно, что человеческим существам приходится жить так. Хуже, чем собакам.
– Собакам жаловаться не на что. – Шируотер ухватился за какое-то боковое ответвление его мысли. – Равно как и морским свинкам и крысам. Все эти проклятые антививисекционисты шумят, сами не зная из-за чего.
– Но вы только подумайте, – воскликнул Гамбрил, – что пришлось пережить этим несчастным! Пешком всю дорогу до Портсмута в поисках работы; а женщина – беременная. Это ужасно. А потом, как ужасно обращаются с людьми, принадлежащими к их классу. Это невозможно себе представить, пока сам не испытаешь. На войне, например, когда полковые врачи выслушивали у вас легкие, они обращались с вами так, точно вы тоже принадлежите к низшему классу, точно вы тоже один из этих несчастных. Это раскрывало вам глаза на многое. Вы чувствовали себя как корова, которую втолкнули в товарный вагон. И подумать только, что большинство наших ближних всю свою жизнь подвергается таким вот издевательствам!
– Гм, – сказал Шируотер. «Если человек будет потеть и потеть до бесконечности, – решил он, – он в конечном счете умрет».
Гамбрил посмотрел сквозь ограду в глубокую тьму парка. Тьма была огромна и меланхолична; то здесь, то там ее пронизывала нить уходящих вдаль огней.
– Ужасно, – сказал он и несколько раз повторил это слово: – Ужасно, ужасно.
Все безногие солдаты, вертящие шарманку, все лоточники в рваных башмаках, продающие безделушки на мокрых тротуарах Стрэнда; на углу Карситор-стрит и Чансери-лейн старуха со спичками, вечно держащая у левого глаза платок, такой же желтый и грязный, как зимний туман. Что у нее с глазом? Он никогда не осмеливался взглянуть и проходил мимо, будто не замечая ее, или порой, когда туман был особенно холодный и промозглый, останавливался на мгновение и, отвернувшись, бросал ей медную монетку на поднос со спичками. И убийцы, которых вешают в восемь часов утра, когда человек смакует в сладостном полузабытьи последние остатки сновидений. И чахоточная поденщица, приходившая работать к его отцу до тех пор, пока не ослабела окончательно и не умерла. И влюбленные, отравлявшиеся газом, и разорившиеся лавочники, бросавшиеся под поезд. Имеет ли человек право быть довольным и сытым, имеет ли он право на образование и на хороший вкус, право на знания и на разговоры и на утонченную сложность любви?
Он еще раз взглянул сквозь ограду на непроницаемую древесную тьму парка, на бусы огней. Он взглянул – и вспомнил другую ночь, много лет назад, в годы войны, когда огней в парке не было, а электрические луны на улицах были почти все в затмении. Он шел один по этой же улице, обуреваемый меланхолией, которая, хотя причина ее была иной, как две капли воды походила на меланхолию, переполнявшую его душу сегодня. В то время он был влюблен до безумия.
– Что вы думаете, – внезапно спросил он, – о Майре Вивиш?
– Что я о ней думаю? – сказал Шируотер. – Пожалуй, я вообще ничего о ней не думаю. Она ведь не очень подходящий материал для размышлений, не правда ли? Как женщина, впрочем, она показалась мне довольно привлекательной. Я обещал пообедать с ней в четверг.
Гамбрил вдруг почувствовал потребность излить душу.
– Было время, – сказал он делано безразличным, легкомысленным и небрежным тоном, – много лет назад, когда я совершенно потерял из-за нее голову. Совершенно… – Эти влажные пятна от слез на подушке, такие холодные, когда в темноте положишь на них щеку; и нестерпимая боль, когда плачешь, бессмысленно, о чем-то, что ровно ничего не значит, что значит все на свете! – Это было в конце войны. Помню, я шел однажды ночью по этой мрачной улице, в полной темноте, корчась от ревности. – Он замолчал. Как привидение, как темный преследующий дух, он ходил за ней по пятам, безмолвно, безмолвно умоляя, взывая о любви. «Слабый безмолвный человек», – говорила она о нем. Однажды, на два или на три дня, из жалости, а может быть, просто из желания отделаться от утомительного призрака, она дала ему то, о чем он молча безнадежно молил, – дала только для того, чтобы почти сейчас же отнять у него свой дар. В ту ночь, когда он шел по этой же улице, желание выпило из него всю жизнь, и его тело казалось опустошенным, до боли, до страдания пустым; ревность неустанно напоминала ему, с беспощадной злобой, о ее красоте – о ее красоте и о тех ненавистных руках, что теперь ласкали ее, о тех глазах, что теперь смотрели на нее. Все это было давным давно.
– Она безусловно хороша, – сказал Шируотер, с запозданием отвечая на одну из последних фраз Гамбрила. – Я охотно признаю, что она может доставить человеку, связавшемуся с ней, немало тяжелых минут. – Ему вдруг пришло в голову, что после одного или двух дней непрерывного потения человеку, возможно, будет приятнее утолять жажду морскою водой, чем пресной. Это было бы очень занятно.
Гамбрил разразился дьявольским хохотом.
– Но было и другое время, – развязно продолжал он, – когда другие люди ревновали ее ко мне. – О, месть, месть! В лучшем мире воображения можно было расплатиться за старые обиды. Какие демонические вендетты доводились в этом мире до благополучного конца! – Помню, я как-то написал ей французское четверостишие. – (Он написал его через несколько лет, когда все уже давным-давно кончилось, он никогда никому его не посылал; но это не имело значения.) – Как это там было? Ага, вспомнил. – И он продекламировал, сопровождая стихи соответствующими жестами:
Puisque nous sommes l?, je dois
Vous avertir, sans trop de honte,
Que je n’еgale pas le Соmtе
Casanovesque de Sixfois[55 - Раз мы дошли до этого, я должен предупредить вас без излишнего стыда, что мне не сравниться с графом S…, воспетым Казановой (фр.).].
Льщу себя надеждой, что получилось довольно изящно. Вернее – элегантная грубость.
Хохот Гамбрила раскатывался под Мраморной Аркой. Но на углу Эджвер-род он внезапно смолк. Гамбрил вдруг вспомнил мистера Меркаптана, и эта мысль охладила его пыл.
Глава 6
Липиат жил и работал в «Божественных Конюшнях», как он выражался со свойственным ему пристрастием к философским каламбурам, между Уайтфилд-стрит и Тоттенхэм-Корт-род. Нужно было пройти под неоштукатуренной, почерневшей от копоти кирпичной аркой (ночью, когда зеленый газовый фонарь бросал полупрозрачный свет и огромные архитектурные тени, можно было подумать, что находишься у входа в какую-нибудь тюрьму с гравюры Пиранези), чтобы попасть в длинный тупик, окаймленный с обеих сторон низкими строениями, где помещались стойла для лошадей, а над ними, в чердачных помещениях, – менее комфортабельные стойла для людей. Старомодный запах конюшни смешивался с более современной вонью перегоревшего бензина. Воздух здесь, казалось, был более спертый, чем на других улицах, и даже в самые ясные дни очертания предметов становились с каждым шагом все расплывчатей и неопределенней, краски все гуще и темней. «Во всем мире не найти лучшего места, – говаривал Липиат, – для того, чтобы изучать перспективу». Вот почему он поселился здесь. Но у собеседников Липиата всегда создавалось впечатление, что в его шутливом отношении к своим несчастиям, пожалуй, чересчур уж много самодовольства.
Такси миссис Вивиш проехало под пиранезовской аркой, медленно въехало в тупик – медленно и как бы неохотно, словно боясь замарать свои белые колеса о такую грязную мостовую. Шофер вопросительно посмотрел на миссис Вивиш.
– Сюда?.. – спросил он.
Затянутым в белую перчатку пальцем миссис Вивиш два или три раза ткнула в воздух, указывая этим, что нужно ехать прямо вперед. В середине тупика она постучала по стеклу; шофер остановил машину.
– Никогда в жизни не был в этих местах, – сказал он, чтобы немного поговорить, пока миссис Вивиш отыскивала деньги. Он смотрел на нее с вежливым и слегка ироническим любопытством, к которому примешивалось откровенное восхищение.
– Ваше счастье, – сказала миссис Вивиш. – Мы, несчастные упадочные дамы, – видите сами, до чего мы доведены. – И она протянула ему флорин.
Шофер медленно расстегнул куртку и опустил монету во внутренний карман. Он следил за ней, пока она переходила грязную улицу, переставляя ноги с пунктуальной точностью по одной линии, точно она шагала по лезвию ножа между бог знает какими незримыми пропастями. Она, казалось, не шла, а порхала, – слегка подпрыгивая на каждом шагу, и юбка ее летнего платья – оно было белое, сплошь украшенное черным набивным узором – легкомысленно раздувалась в такт ее раскачивающейся походке. Да уж точно, что упадочные дамы! Шофер рванул машину с ничем не оправданной яростью; он почему-то пришел в совершенное негодование.
Между широкими двойными воротами, через которые лошади проходили на кормежку и на отдых, помещались узенькие дверцы для людей – для йэху[56 - Намек на четвертую часть «Путешествия Гулливера»: Гулливер попадает в идеальное государство, где царят лошади, а люди («йэху») играют роль домашних животных.], как по своей склонности к намекам любил говорить Липиат; при этом он громогласно и цинично смеялся, с видом непонятого и преисполненного горечью Прометея. Миссис Вивиш остановилась у одной из этих дверей для йэху и постучалась настолько громко, насколько позволял маленький, туго поворачивающийся на петлях молоточек. Она терпеливо ждала; несколько грязных ребятишек собралось поглазеть на нее. Она постучала снова и снова подождала. С дальнего конца тупика пробежало еще несколько ребятишек; на пороге соседнего дома появились две пятнадцати-шестнадцатилетние девицы, немедленно разразившиеся невеселым смехом, похожим на лай гиены.
– Ты когда-нибудь читал о гамельнском крысолове? – спросила миссис Вивиш у ближайшего мальчишки. Тот в ужасе отпрянул. – Я так и думала, что нет, – сказала она и постучала снова.
Наконец послышался звук шагов, медленно спускавшихся по крутой лестнице; дверь открылась.
– Добро пожаловать в палаццо! – Такова была героическая формула гостеприимства Липиата.
– Наконец-то открыли! – оборвала его миссис Вивиш, подымаясь следом за ним по узкой, темной лестнице, крутой, как стремянка. На Липиате была бархатная куртка и парусиновые брюки, давно утратившие белизну. Волосы у него были растрепанные, а руки грязные.
– Вы стучали больше, чем один раз? – спросил он, оглядываясь назад.
– Не меньше двадцати раз, – как и полагается в таких случаях, преувеличила миссис Вивиш.
– Простите, бога ради, – оправдывался Липиат. – Знаете, я так увлекся работой. Вы долго ждали?
– Ребятам это доставило массу удовольствия. – Миссис Вивиш раздражало подозрение, возможно необоснованное, что Казимир увлекся работой нарочно; что он слышал ее первый стук и еще глубже погрузился в те глубины вдохновения, в коих пребывает или должен пребывать подлинный художник, – погрузился для того, чтобы при третьем ее стуке вернуться к действительности, медленно, неохотно, может быть, даже проклиная назойливый мир, прерывающий своим шумом поток его вдохновения. – Как странно они глазеют на людей, – продолжала она, и в ее умирающем голосе послышалось раздражение, причиной которого были, очевидно, не ребята. – Неужели я такое чучело?
Липиат распахнул дверь в конце лестницы и остановился на пороге, ожидая ее.
– Странно? – повторил он. – Нисколько. – И когда она прошла вслед за ним в комнату, он положил руку ей на плечо и пошел с ней в ногу, отпустив дверь, с шумом захлопнувшуюся за ними. – Скорее пример инстинктивной ненависти толпы к аристократической личности. И только. «Ах, почему я родился не с таким лицом, как у всех?» К счастью, лицо у меня действительно не такое, как у всех. У вас тоже. Но это имеет и свою дурную сторону: дети швыряют в нас камни.
– Они в меня не бросали камни. – На этот раз миссис Вивиш сказала полнейшую правду.
Они остановились посреди мастерской. Это была не очень большая и почти пустая комната. В центре стоял мольберт; Липиат старался, чтобы пространство вокруг него было всегда свободным. Широкий проход вел к двери; другой, более узкий, вился между ящиками, сбитой в кучу мебелью и разбросанными книгами, открывая доступ к кровати. В мастерской было пианино и стол, постоянно заставленный грязными тарелками и заваленный остатками двух или трех обедов. По обе стороны камина были книжные полки; книги валялись по всей комнате – одна пыльная груда за другой. Миссис Вивиш рассматривала картину на мольберте (опять абстракция – ей это не нравилось), а Липиат, сняв руку с ее плеча и отойдя немного назад, чтобы лучше видеть, внимательно рассматривал миссис Вивиш.
– Можно вас поцеловать? – спросил он после некоторой паузы.
Миссис Вивиш повернулась к нему, страдальчески улыбаясь; брови у нее иронически поднялись, а бледные ярко-невыразительные глаза смотрели пристально и спокойно.
– Если вам это доставит удовольствие, – сказала она. – Мне лично – никакого.
– Сколько страданий вы мне доставляете, – сказал Липиат, и сказал это так просто и естественно, что Майра была просто ошарашена: она привыкла, чтобы Казимир выражал свои чувства гораздо громогласней и многословней.
– Мне очень жаль, – сказала она; и ей в самом деле было жаль. – Но что я могу поделать?
– Вероятно, ничего, – сказал он. – Ничего, – повторил он, и его голос снова стал голосом исполненного горечи Прометея. – Тигрицы тоже ничего не могут поделать. – Он принялся шагать взад и вперед вдоль свободного прохода между мольбертом и дверью; Липиат любил говорить, расхаживая по комнате. – Вам нравится играть с жертвой, – продолжал он, – чтобы она умирала медленной смертью.
Успокоенная, миссис Вивиш слегка улыбнулась. Это был привычный Казимир. До тех пор, пока он говорил подобным образом, говорил, как герой старомодного французского романа, все было в порядке: значит, он на самом деле вовсе не так уж несчастен. Она села на ближайший свободный стул. Липиат продолжал расхаживать взад и вперед, размахивая при этом руками.
– Но, может быть, страдания хороши, – продолжал он, – может быть, они неизбежны и необходимы. Может быть, мне следовало бы благодарить вас. Способен ли творить художник, когда он счастлив? Захочет ли он тогда творить? Что такое искусство, как не протест против безжалостной суровости жизни? – Он остановился перед ней, протянув руки жестом, выражавшим вопрос. Миссис Вивиш слегка пожала плечами. Она не знала; она не могла ответить. – Ах, все это чепуха, – снова взорвался он, – чепуха и вздор. Я хочу быть счастливым, довольным, признанным: ведь тогда я мог бы лучше работать. И прежде всего, больше всего я хочу вас; хочу, чтобы вы принадлежали мне, и никому больше, и навсегда. И это желание, как ржавчина, разъедает мне сердце, как моль, прогрызает дыры в ткани моего сознания. А вы только смеетесь. – Он поднял руки и безжизненно уронил их.
– Да нет, я не смеюсь, – сказала миссис Вивиш.
Напротив, ей было очень жалко его; хуже того – он начал ей надоедать. Когда-то, в продолжение нескольких дней, она думала, что может его полюбить. Его буйная стремительность казалась бурным потоком, способным унести ее. Она очень скоро обнаружила свою ошибку. После этого он некоторое время забавлял ее; теперь он ей наскучил. Нет, решительно, она вовсе не смеялась. Она спрашивала себя, почему она продолжает с ним встречаться. Просто потому, что нужно же с кем-нибудь встречаться? Или почему-нибудь еще?
– Вы намерены продолжать портрет? – спросила она.
Липиат вздохнул.
– Да, – сказал он. – Пожалуй, мне лучше приняться за работу. Работа – единственное, что мне остается. «Портрет тигрицы». – Циничный титан снова заговорил в нем. – Или лучше назвать его «Портрет женщины, не знавшей любви»?
– Очень глупое название, – сказала миссис Вивиш.
– Или «Портрет сердечной болезни художника»? Это было бы здорово, чертовски здорово! – Липиат засмеялся очень громко и хлопнул себя по бедрам.
Когда он смеется, подумала миссис Вивиш, он делается особенно уродливым. Его лицо словно распадается на кусочки; не остается ни одного живого места – все искажает и сморщивает напряженная гримаса веселья. Когда он смеется, даже лоб пропадает. Обычно лбы – самая человечная часть человеческих лиц. Пускай нос морщится, рот склабится, глаза мигают по-обезьяньему – но лоб остается по-прежнему спокойным и невозмутимым, лоб умеет сохранять человеческий облик. Но когда смеялся Казимир, его лоб тоже принимал участие в гримасе, разлагавшей его лицо. Иногда бывало и так, что лоб выходил из равновесия, дергался и покрывался морщинами даже тогда, когда Липиат не смеялся, а просто оживленно разговаривал. «Портрет сердечной болезни художника» – ей это показалось совсем не остроумным.
– Критики подумают, что это проблемная картина. И они будут правы, черт возьми, они будут правы. Вы – живая проблема. Вы – сфинкс. Хотел бы я быть Эдипом и убить вас!
Опять эта мифология! Миссис Вивиш покачала головой.
Он пробрался сквозь хлам, загромождавший ему путь, и взял в руки холст, стоявший лицом к стене возле окна. Держа его в вытянутой руке и критически склонив голову набок, он принялся рассматривать его.
– Да, это хорошо, – тихо сказал он. – Хорошо. Взгляните-ка. – И, выбравшись снова на середину комнаты, он приставил картину к ножке стола, чтобы миссис Вивиш могла рассмотреть ее, не вставая с места.
Это была Майра в грозе и буре; это был вид на Майру, так сказать, сквозь ураган. Липиат исказил в портрете ее пропорции, сделал ее длинней и тоньше, чем она была на самом деле, превратил ее руки в узкие трубки, придал яркий металлический блеск ее щекам. Фигура на портрете, казалось, слегка накренилась назад и набок, как статуэтка из слоновой кости, вырезанная из изогнутого конца большого клыка. Только у Липиата изгиб почему-то был лишен изящества, он казался ненужным и бессмысленным.
– Вы изображаете меня так, – сказала наконец миссис Вивиш, – точно меня исковеркало порывом ветра. Все это показное неистовство – к чему оно?
Портрет не нравился ей, совсем не нравился. Но Казимира ее замечание привело в восторг. Он хлопнул себя по бедрам и снова разразился своим беспокойным хохотом, разлагающим лицо на составные части.
– Да, черт возьми, – кричал он, – вы правы! Исковеркало ветром. Вот именно: в самую точку. – Он снова принялся расхаживать взад и вперед по комнате, размахивая руками. – Ветер, великий ветер, живущий во мне. – Он хлопнул себя по лбу. – Ветер жизни, дикий западный ветер. Я чувствую его внутри себя, он дует, дует. Он уносит меня в своем порыве; ибо, хотя он внутри меня, он больше, чем я, он – сила, приходящая откуда-то извне, он – сама Жизнь, он – Бог. Своим порывом он несет меня навстречу враждебной судьбе, он заставляет меня работать, бороться. – Липиат был похож на человека, который ночью идет по опасной дороге и поет, чтобы придать себе больше веса и значительности. – И когда я рисую, когда я пишу или импровизирую, он сгибает своим дуновением все, что заключено в моем сознании, толкает все в одном направлении; и поэтому все, что я творю, похоже на дерево, стремящееся всеми своими ветвями на северо-восток, тянущееся всем своим стволом вверх, точно спасаясь от бури с Атлантики.
Липиат вытянул руки вперед и, широко растопырив пальцы, дрожавшие от чрезмерного мускульного напряжения, стал медленно двигать ими вверх и вбок, точно проводя ладонями снизу вверх по стволу искривленного ветром деревца на вершине холма, поднимающегося над океаном.
Миссис Вивиш продолжала осматривать незаконченный портрет. Он был таким же крикливым, несложным и бьющим на эффект, как рекламы вермута на падуанских улицах. Чинцано, Бономелли, Кампари – прославленные имена! Тем временем фрески Джотто и Мантеньи плесневели в своих часовнях. – А теперь взгляните на это, – не унимался Липиат. Он снял картину, стоявшую на мольберте, и предложил ее на рассмотрение Майры. Это была одна из абстрактных композиций Казимира: процессия машиноподобных фигур, стремящихся вверх по диагонали справа налево, и нечто похожее на поток энергии, рвущейся с гребня волны по направлению к правому верхнему углу. – Эта картина, – сказал он, – символизирует завоевательный дух художника, атакующего Вселенную, овладевающего ею. – Он принялся декламировать: