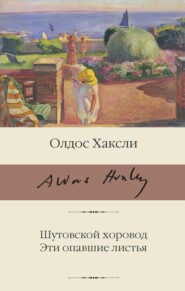скачать книгу бесплатно
Гамбрил Младший закурил трубку.
– Я пришел к заключению, – заговорил он, раскуривая трубку, – что большинство людей… вообще не следовало бы… ничему учить. – Он бросил спичку. – Да простит нас Бог, но ведь они же собаки. Какой смысл учить их чему бы то ни было, кроме умения вести себя прилично, работать и повиноваться? Факты, теории, мировые истины – какая им польза от всего этого? Учить их понимать – да ведь это же только запутывать их; они из-за этого перестают воспринимать простую видимую реальность. Только один процент учащихся, не больше, извлекает какую-нибудь пользу из научного или литературного образования.
– К этому проценту ты причисляешь и себя? – спросил его отец.
– Само собой разумеется, – ответил Гамбрил Младший.
– Возможно, что вы не так уж далеки от истины, – сказал мистер Портьюз. – Когда я думаю о своих детях, скажем… – Он вздохнул. – Я думал, что их будет интересовать то, что интересовало меня; но их ничто не интересует – им нравится только одно: вести себя подобно обезьянам, и к тому же не слишком человекообразным. В возрасте моего старшего сына я просиживал целые ночи над латинскими текстами. А он просиживает – вернее, простаивает, прогуливает, проплясывает – целые ночи за танцами и выпивкой. Помните святого Бернарда? Vigilet tota nocte luxuriosus non solum patienter (только аскеты и школяры терпеливо наблюдают); sed et libenter, ut suam expleat voluptatem[14 - Кутила не спит целую ночь не только терпеливо, но и с охотою и удовлетворяет свое вожделение (лат.).]. To, что умный человек делает из чувства долга, дурак делает для забавы. А как я старался заставить его полюбить латынь!
– Да, но зато вы не старались, – сказал Гамбрил Младший, – напичкать его историей. Вот это – единственный непростительный грех. А я как раз этим и занимался вплоть до сегодняшнего вечера: заставлял пятнадцати- и шестнадцатилетних мальчиков специализироваться на истории, заставлял их определенное число часов в неделю читать обобщения плохих писателей на темы, обобщать которые позволяет нам только наше невежество; учил их воспроизводить эти обобщения в гнусных сочиненьицах; а по существу – отравлял их мозги тухлой, безвкусной жвачкой; просто возмутительно. Если этих тварей и нужно учить, то, уж во всяком случае, чему-нибудь твердому и определенному. Латынь – прекрасно. Математика, физика. Пускай себе читают историю для развлечения. Но, Бога ради, не превращайте ее в краеугольный камень образования!
Гамбрил Младший говорил с величайшей серьезностью, точно школьный инспектор, делающий доклад. Он глубоко переживал то, о чем говорил; он всегда глубоко переживал все темы своих разговоров, пока говорил.
– Сегодня вечером я написал директору большое письмо о преподавании истории, – добавил он. – Это очень важно. – Он задумчиво покачал головой. – Очень важно.
– Ноrа novissima, tempora pessima sunt, vigilemus[15 - Часы слишком новые, времена слишком плохие, будем бдительны (лат.).], – отозвался мистер Портьюз словами св. Петра Домианского.
– Совершенно верно, – поддержал его Гамбрил Старший. – И если уж говорить о тяжелых временах – разреши спросить тебя, Теодор, что ты намерен делать в дальнейшем?
– Я начну с того, что немного разбогатею.
Гамбрил Старший положил руки на колени, подался всем телом вперед и расхохотался. Смех у него был низкий, похожий на удары колокола; казалось, это квакает очень музыкальная большая лягушка.
– Ничего у тебя не выйдет, – сказал он и покачал головой так энергично, что волосы упали ему на глаза. – Ничего не выйдет. – И он снова захохотал.
– Чтобы разбогатеть, – сказал мистер Портьюз, – нужно интересоваться деньгами.
– А его они не интересуют, – сказал Гамбрил Старший. – Так же, как и всех нас.
– Когда мне приходилось очень тяжело, – продолжал мистер Портьюз, – мы жили по соседству с одним русским евреем-скорняком. Вот он так действительно интересовался деньгами. Они были его страстью, его блаженством, его идеалом. Он мог бы жить спокойно, в довольстве, и все-таки отложить себе кое-что на старость. Но ради своего высокого идеала он страдал больше, чем Микеланджело ради своего искусства. Он работал по девятнадцати часов в сутки; остальные пять он спал у себя под прилавком, в грязи, дыша вонью и волосяною пылью. Теперь он разбогател, но со своими деньгами он ничего не делает, не хочет делать, или, вернее, не умеет. Он не стремится ни к власти, ни к наслаждениям. Его страсть к наживе была совершенно бескорыстной. Как страсть к науке у браунинговского Грамматика[16 - Роберт Браунинг «Похороны Грамматика».]. Я искренно восхищаюсь им.
Страстью самого мистера Портьюза были стихи Ноткера Бальбула и святого Бернарда. Почти двадцать лет пришлось ему жить вместе с семьей в одном доме с евреем-скорняком. Но он говорил, что ради Ноткера стоило пойти на это; ради Ноткера стоило мириться и с малокровием жены, работавшей сверх сил, и с жалким видом истощенных и оборванных детей. Он только поправлял монокль и продолжал жить, как жил. Случалось и так, что монокля и аккуратного, приличного костюма бывало недостаточно, чтобы сохранять хорошее настроение. Но теперь эти времена прошли; Ноткер принес ему наконец нечто вроде славы, а также, между прочим, и некоторую обеспеченность.
Гамбрил Старший снова обратился к сыну.
– А как ты собираешься разбогатеть? – спросил он.
Гамбрил Младший объяснил. Он обдумал все это в кебе, по дороге с вокзала.
– Это пришло ко мне сегодня утром, – сказал он, – в церкви, во время службы.
– Возмутительно! – вставил Гамбрил Старший с неподдельным негодованием. – Возмутительны эти средневековые пережитки в школах! Церковь, действительно!
– Это пришло ко мне, – продолжал Гамбрил Младший, – как откровение, внезапно, как божественное вдохновенье. Мне пришла в голову величественная и прекрасная идея – идея Гамбриловских Патентованных Штанов.
– А что такое Гамбриловские Патентованные Штаны?
– Благодеяние для тех, кого профессия вынуждает вести сидячий образ жизни. – Гамбрил Младший уже составил в уме проспект и первые объявления: – Неоценимое удобство для всех путешественников, изобретенный цивилизацией суррогат стеатопигии[17 - Стеатопигия («толстозадие») – ненормальное развитие ягодиц, наблюдающееся у некоторых диких племен Центральной Африки.], необходимый завсегдатаям премьер, любителям концертов и…
– Lectulus Dei floridus, – возгласил мистер Портьюз, – Gazophylacium Ecclesiae, Cithara benesonans Dei, Cymbalum jubilationis Christi, Promptuarium mysteriorum fidei, ora pro nobis[18 - Украшенное цветами ложе Господа, ризница церкви, благозвучная кифара Господа, кимвал, славящий Христа, хранительница тайн веры, молись о нас (лат.).]. Ваши штаны неотразимо напоминают мне литании, которые я когда-то сочинял, Теодор.
– Мы требуем технического описания, а не литаний, – сказал Гамбрил Старший. – Что такое Гамбриловские Патентованные Штаны?
– На языке техники, – сказал Гамбрил Младший, – мои Патентованные Штаны можно описать как брюки с пневматическим сиденьем, надуваемым при помощи трубки, снабженной вентилем; все вместе сконструировано из прочной красной резины, не имеет швов и заключено между верхом и подкладкой.
– Должен сказать, – заметил Гамбрил Старший тоном несколько ворчливого одобрения, – что мне приходилось слышать о худших изобретениях. Вы слишком полны, Портьюз, чтобы оценить эту идею. Мы, Гамбрилы, народ костлявый.
– Когда я возьму патент, – продолжал его сын очень деловито и холодно, – я либо продам его какому-нибудь капиталисту, либо сам займусь его коммерческой эксплуатацией. В обоих случаях я разбогатею, чего, по совести сказать, не сумел сделать ни ты, ни все остальные Гамбрилы.
– Совершенно верно, – сказал Гамбрил Старший, – совершенно верно. – И он весело засмеялся. – Да и ты не сумеешь. Будь благодарен своей несносной тетке Фло за то, что она оставила тебе триста фунтов ренты. Они тебе еще пригодятся. Но если ты в самом деле хочешь стать капиталистом, – продолжал он, – я могу познакомить тебя с одним человечком. Он страдает манией покупать тюдоровские дома и делать их еще более тюдоровскими. Я разобрал на части штук шесть полуразвалившихся домишек и снова собрал их для него – с небольшими вариациями.
– Не внушает доверия, – сказал его сын.
– Ах, но это же только его слабость. Он этим развлекается. Он занимается… – Гамбрил Старший замялся.
– Чем же он занимается?
– Да, пожалуй, всем на свете. Патентованными средствами, коммерческими газетами, товарами обанкротившихся табачников – да мало ли еще чем; он рассказывал мне о такой массе вещей. Он порхает, как мотылек в поисках меда, или, вернее, денег.
– И он их находит?
– Он исправно платит мне гонорар, покупает все новые тюдоровские дома и угощает меня завтраками у Ритца. Больше я ничего не знаю.
– Что ж, попробуем – попытка не пытка.
– Я напишу ему, – сказал Гамбрил Старший. – Его фамилия Болдеро. Он или поднимет тебя на смех, или воспользуется твоей идеей и ничего тебе не заплатит. Но если, – он посмотрел на сына поверх очков, – если ты, сверх всяких ожиданий, станешь когда-нибудь богатым; если, если, если… – и, как бы подчеркивая всю несбыточность своего предположения, он при каждом новом повторении этого слова еще выше поднимал брови и еще энергичнее размахивал левой рукой, – итак, если – на этот случай у меня есть для тебя замечательная вещица. Посмотри, какая чудесная идейка пришла мне в голову сегодня утром. – Он сунул руку в карман сюртука и, немного порывшись, извлек сложенный вчетверо лист бумаги, на котором был набросан перспективный план дома. – Для человека с лишними восемью или десятью тысячами фунтов это было бы – это было бы… – Гамбрил Старший пригладил волосы и замялся, подыскивая выражение достаточно сильное, чтобы его можно было приложить к его идейке, – пожалуй, это было бы слишком хорошо для любого толстопузого черта с лишними восемью или десятью тысячами.
Он передал лист Гамбрилу Младшему, который взял его и вытянул руку так, чтобы рисунок был виден и ему, и мистеру Портьюзу. Гамбрил Старший поднялся с кресла и, став позади, принялся объяснять рисунок.
– Понимаете, какова моя мысль, – сказал он, опасаясь, что его могут не понять. – В центре трехэтажный корпус, а по обеим сторонам одноэтажные флигеля, кончающиеся павильонами в два этажа. На плоских крышах флигелей можно разбить сады: видите, с севера их защищает стена. В восточном флигеле – кухня и гараж, в восточном павильоне – комнаты для прислуги. Западный – библиотека; его фасад – лоджия с аркадами. Над восточным павильоном вместо тяжелой надстройки – открытая ротонда на кирпичных колоннах. Видите? А вдоль всего главного корпуса на уровне второго этажа тянется балкон испанского типа; изумительная горизонталь. Что же касается перпендикуляров, то здесь имеются углы и поднятые панели. А по крыше флигелей с той стороны, где висячий сад не защищен стеной, идет балюстрада. Все это из кирпича. Это вид со стороны сада; передний фасад, с улицы, тоже будет замечателен. Ну как, нравится?
Гамбрил Младший кивнул.
– Очень, – сказал он.
Его отец вздохнул и, взяв рисунок, положил его обратно в карман.
– Постарайтесь разбогатеть как можно скорей, – сказал он. – И вы, Портьюз, и ты. Я столько лет ждал случая построить вам великолепный дом.
Мистер Портьюз рассмеялся и встал с кресла.
– И прождете еще столько же, дорогой Гамбрил, – сказал он. – Ибо мой великолепный дом будет построен не на этом свете, а жить вам осталось еще очень, очень долго. Очень, очень долго, – повторил мистер Портьюз и тщательно застегнул свой двубортный сюртук, тщательно, словно пригоняя точный инструмент, вставил в глаз монокль. Потом, очень прямо и четко, похожий не то на солдата, не то на почтовый ящик, он зашагал к двери. – Я что-то поздно засиделся у вас сегодня, – сказал он. – Бессовестно поздно.
Парадная дверь тяжело закрылась за мистером Портьюзом. Гамбрил Старший вернулся в большую комнату на втором этаже, приглаживая волосы, опять растрепавшиеся, пока он стремительно подымался по лестнице.
– Хороший он малый, – сказал он о только что ушедшем госте, – замечательный малый.
– Замечательней всего монокль, – сказал Гамбрил Младший, по-видимому, без всякой связи с предыдущим. Но его отец сейчас же уловил эту связь.
– Думаю, без монокля он не мог бы прожить. Это его символ, его знамя. Бедность невзрачна и отнюдь не прекрасна. Но с моноклем это выглядит иначе, понимаешь? Я страшно благодарен судьбе за то, что у меня было небольшое состояние. Иначе я не протянул бы. Для этого нужна сила – больше силы, чем есть у меня. – Он захватил бородку рукой у самого подбородка и на мгновение замолчал, погруженный в размышления. – У профессии Портьюза есть одно преимущество, – задумчиво продолжал он, – можно работать в одиночку, без сотрудников. Он может не обращаться ни к кому за помощью, не иметь ни с кем дела, когда ему этого не хочется. С архитектурой гораздо трудней. Она не может оставаться частным делом архитектора; раньше, чем удается что-нибудь сделать, приходится претерпевать столько всяческих мытарств с клиентами, с подрядчиками, со всей этой публикой. Просто возмутительно! Я не умею ладить с людьми. Я не люблю людей, не люблю, – с силой повторил мистер Гамбрил. – Мне трудно с ними сговариваться: это не мое дело. Мое дело – архитектура. Но так редко удается заняться ею на практике. Очень редко.
Гамбрил Старший грустно улыбнулся.
– И все-таки, – сказал он, – кое-что я могу сделать. У меня есть талант, у меня есть воображение. Этого у меня никто не отнимет. Пойдем посмотрим, что я недавно сделал.
Он первым вышел из комнаты и взбежал, шагая через две ступеньки, на верхний этаж. Он открыл дверь комнаты, которая в порядочном доме служила бы спальней для хозяев, и скользнул в темноту.
– Только не врывайся сюда, – окликнул он сына, – Бога ради, не врывайся сюда. Ты все переломаешь. Погоди, пока я не зажгу свет. Вечно эти ослы монтеры поставят выключатель где-нибудь за дверью, где его ни за что не сыщешь.
Гамбрил Младший слышал, как отец натыкается в темноте на какие-то предметы; потом зажегся свет. Он вошел в комнату.
Вся ее обстановка состояла из двух длинных столов. На столах, на камине и на полу были разбросаны, как элементы рассыпавшегося на составные части города, бесчисленные макеты зданий. Здесь были соборы, здесь были ратуши, университеты, публичные библиотеки, здесь было три или четыре элегантных маленьких небоскреба, здесь были торговые помещения, огромные склады, фабрики и, наконец, десятки великолепных загородных поместий со ступенчатыми садами, наружными лестницами, фонтанами и орнаментальными прудами и каналами с величаво переброшенными через них мостами, с причудливыми павильонами и беседками.
– Ну, не прекрасны ли они? – с энтузиазмом обратился Гамбрил Старший к сыну. Растрепанные пряди длинных седеющих волос колыхались над головой, очки сверкали, а за ними восторженно горели глаза.
– Прекрасны, – согласился Гамбрил Младший.
– Когда ты разбогатеешь, – сказал отец, – я построю тебе дом в таком вот духе. – И он показал на небольшой поселок из загородных вилл, сгруппировавшихся на конце длинного стола, вокруг собора, грандиозного и величественного, как собор Святого Петра. – Взгляни вот на этот, скажем. – Он ловко пробрался в другой конец комнаты, схватил небольшую настольную лампу, стоявшую на камине между вокзалом и баптистерием, и так же быстро вернулся, зацепив длинным проводом от лампы верхушку одного из небоскребов, стоявших перед камином. – Взгляни, – повторил он, – взгляни. – Он вставил штепсель и сказал, двигая лампу вправо и влево, вверх и вниз перед фасадом миниатюрного дворца: – Видишь, как красиво ложатся тени. Вот здесь, под этим огромным, нависающим карнизом – хорошо, не правда ли? И посмотри, какие великолепные вертикальные линии образуют пилястры. А затем – солидность всей постройки, ее размеры, ее массивная, внушительная строгость! – Он вскинул руки, он поднял глаза, точно он стоял, потрясенный, у подножья настоящего огромного отвесного фасада. Тени дико плясали по всему городу дворцов и куполов, когда он в экстазе потрясал над головой лампой. – А вот, – он внезапно нагнулся, он снова рассматривал детали и показывал их сыну, – а вот главный вход, весь разукрашенный богатой резьбой. Как великолепно и неожиданно расцветает он на голой стене. Точно колоссальные письмена Дария, точно фигуры, высеченные на оголенном обрыве в Бехистуне[19 - Бехистун – селение в Иране, знаменитое высеченными на скалах барельефами и клинописью, приписываемой Дарию I.], – неожиданные и прекрасные и такие человеческие, человеческие среди окружающей пустыни.
Гамбрил Старший откинул волосы назад и повернулся к сыну, с улыбкой глядя на него поверх очков.
– Очень хорошо, – кивнул ему Гамбрил Младший. – Но не слишком ли слепая эта стена? Для такого обширного палаццо у тебя, по-моему, слишком мало окон.
– Верно, – ответил отец, – совершенно верно. – Он вздохнул. – Боюсь, что для Англии этот проект не подойдет. Он предназначен для страны, где стараются по возможности избегать солнечного света. Окна – проклятие нашей отечественной архитектуры. Стены приходится делать как сита: все в дырках, и это очень грустно. Если хочешь, чтобы я построил тебе этот дом, переселяйся, скажем, на Барбадос или куда-нибудь еще.
– С большим удовольствием, – сказал Гамбрил Младший.
– Другое неоценимое преимущество жарких стран, – продолжал Гамбрил Старший, – в том, что человек может жить там как аристократ, вдали от всех, сам по себе. Там не приходится смотреть на грязный мир; там не нужно, чтобы грязный мир смотрел на тебя. Возьми, например, этот большой дом, смотрящий на мир несколькими темными бойницами и похожим на пещеру главным входом. Но загляни внутрь. – Он держал лампу над двором, находившимся в самом сердце дворца. Гамбрил Младший нагнулся и посмотрел. – Вся жизнь обращена вовнутрь – на прелестный внутренний двор, на это более чем испанское patio[20 - Patio – внутренний двор (исп.).]. Взгляни на эти три яруса арок, на сводчатые коридоры для прохладных задумчивых прогулок, на тритона, извергающего белую воду в мраморный пруд посреди двора, на мозаику, расцветающую на полу и по стенам, яркую на фоне белой штукатурки. А вот и ворота, ведущие в сад. А теперь иди-ка сюда, посмотри на фасад, обращенный к саду.
Держа в руках лампу, он обошел вокруг стола. Внезапно раздался треск: провод от лампы задел стоявший на столе собор. Он валялся на полу, весь обращенный в развалины, точно разрушенный землетрясением.
– Ад и смерть! – сказал Гамбрил Старший в припадке елизаветинской ярости. Он поставил лампу на стол и кинулся смотреть, насколько непоправимо несчастье. – Они обходятся страшно дорого, эти макеты, – объяснил он, склоняясь над развалинами. Он нежно собрал осколки и положил их на стол. – Могло быть и хуже, – сказал он наконец, отряхая пыль с рук. – Боюсь, впрочем, что этот купол никогда уже не будет таким, каким он был раньше. – Снова подняв лампу, он держал ее высоко над головой и стоял так, с меланхоличным удовлетворением оглядывая свои произведения. – И подумать только, – сказал он после недолгого молчания, – что все эти годы я потратил на то, чтобы проектировать образцовые коттеджи для рабочих в Блечли! Конечно, мне повезло, что я получил эту работу; но подумать только, что цивилизованному человеку приходится заниматься подобными вещами! Это уж слишком. В прежнее время эти твари сами строили свои лачуги, и получалось очень неплохо. Архитекторы занимались архитектурой, которая выражает достоинство и величие человека, выражает его протест, а не смиренную покорность. Много ли протеста можно выразить в коттедже ценою в семьсот фунтов? Самую малость, конечно, можно протестовать: можно придать коттеджу приличные пропорции, можно избегнуть убожества и вульгарности, но и только: весь протест сводится к отрицанию. Протест положительный и активный возможен лишь тогда, когда от мизерного человеческого масштаба переходишь к постройкам для великанов, когда строишь ради духа и воображения человека, а не ради его презренного тела. Образцовые коттеджи, действительно!
Мистер Гамбрил негодующе фыркнул.
– Когда подумаешь об Альберти! – И он подумал об Альберти – об Альберти, самом благородном из всех римлян, о единственном подлинном римлянине. Ибо сами римляне вели в действительности жалкую и сумасбродную жизнь внутри своей вульгарной империи. Альберти и его последователи эпохи Возрождения жили жизнью идеальных римлян. Они вкладывали в свою архитектуру Плутарха. Они брали гнусного подлинного Катона, исторического Брута и, превратив их в римских героев, учились у них и подражали им. До Альберти не было подлинных римлян, а со смертью Пиранези их раса начала снова вымирать.
– А когда подумаешь о Брунеллески! – Гамбрил Старший принялся страстно вспоминать архитектора, который подвесил на восьми изящно взлетающих ввысь мраморных опорах самый легкий и самый чудесный из всех куполов.
– А Микеланджело! Огромная мрачная апсида… А Кристофер Рен и Палладио. Когда я думаю обо всех них[21 - Филиппо Брунеллески (1377–1446) – итальянский архитектор и скульптор; считается первым архитектором эпохи Возрождения, потому что он одним из первых начал изучать памятники античного (главным образом римского) зодчества и брать их за образцы. Самым знаменитым его произведением считают купол церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции, о котором говорит Гамбрил Старший. Его последователями были Микеланджело и Леон Баттиста Альберти (1404–1472), также широко пользовавшиеся римскими образцами. Виднейшим представителем этой школы в XVI веке был Андреа Палладио (1508–1580). В Англии увлечение древнеримской и итальянской архитектурой эпохи Возрождения было особенно сильным в конце XVII – начале XVIII века; главным представителем «итальянской школы» английских архитекторов является Кристофер Рен (1632–1723), строитель собора Св. Павла в Лондоне. Джованни Баттиста Пиранези (ум. 1778) прославился своими гравюрами, изображающими знаменитые архитектурные памятники, главным образом древнеримские и итальянские (эпохи Возрождения).]… – Гамбрил Старший взмахнул руками и замолчал. То, что он чувствовал, думая о них, нельзя было выразить словами.
Гамбрил Младший взглянул на часы.
– Половина третьего, – сказал он. – Пора спать.
Глава 3
– Мистер Гамбрил! – (К удивлению примешивалось удовольствие.) – Как я рад! – (Теперь основным чувством, которое выражал голос, доносившийся откуда-то из темных глубин мастерской, было удовольствие.)
– Это я, мистер Бодженос, должен радоваться. – Гамбрил закрыл за собой дверь мастерской.
Маленький человечек в сюртуке выскочил из каньона, или, вернее, черного ущелья, образованного двумя отвесными слоистыми стенами демисезонных костюмов, и, выйдя в открытое пространство перед дверью, поклонился со старомодной учтивостью, показав при этом перламутровый череп, слегка прикрытый длинными влажными темными прядями скудной растительности.
– И разрешите мне узнать, сэр, чему я обязан этой радостью? – Мистер Бодженос лукаво посмотрел снизу вверх, склонив голову набок, так, что дрогнули торчащие кончики его нафиксатуаренных усов. Пальцы его правой руки были засунуты за борт сюртука, и он стоял носки врозь, в первой позиции классического балета. – Легкое весеннее пальто, может быть? Или новый костюм? Должен заметить, – и его взгляд профессионала окинул длинную, худую фигуру Гамбрила с головы до ног, – должен заметить, что те одежды, которые вы теперь носите, мистер Гамбрил, выглядят – как бы это сказать? – несколько неглиже, как сказали бы французы, чуточку неглиже!
Гамбрил взглянул на свой костюм. Его огорчило «неглиже» мистера Бодженоса; этот поклеп обидел его, оскорбил. Неглиже? А он-то воображал, что вид у него вполне приличный и даже элегантный (но ведь у него всегда был такой вид, даже в лохмотьях), – вернее сказать, безупречный, как у мистера Портьюза, очень подтянутый в этой черной куртке, опереточных брюках и лакированных ботинках. А черная фетровая шляпа – разве она не была именно тем иностранным, южным штрихом, который спасал всю композицию от банальности? Он рассматривал себя, стараясь увидеть свой костюм – свои одежды, как назвал их мистер Бодженос, одежды, Боже милосердный! – глазами опытного портного. Перегруженные карманы отвисали складками, на жилете было пятно, брюки вздувались пузырями, точно голые колени на рубенсовском портрете Елены Фурман в мехах, в Венской галерее. Да, все это было страшно неглиже! Он почувствовал себя угнетенным; но изысканная профессиональная корректность мистера Бодженоса несколько успокоила его. Этот сюртук, например. Он точно сошел с какой-то очень современной картины – какая гладкая, без единой складочки, цилиндрическая грудь, какая чистая абстрактная форма конуса в слегка закругленных полах! Ничто не могло быть менее неглиже. Он окончательно успокоился.
– Я хочу, – сказал он наконец, с важным видом прочищая горло, – я хочу, чтобы вы сшили мне брюки по моим указаниям. Это новая мысль. – И он вкратце описал Патентованные Штаны Гамбрила.
Мистер Бодженос внимательно слушал.
– Для вас я могу их сделать, – сказал он, когда описание было закончено. – Я могу их сделать для вас… если вам в самом деле этого хочется, мистер Гамбрил, – добавил он.
– Благодарю вас, – сказал Гамбрил.
– И разрешите мне узнать, мистер Гамбрил, вы намереваетесь носить подобные… подобные одежды?
Гамбрил стыдливо отрекся.
– Лишь для того, чтобы практически осуществить мысль, мистер Бодженос. Я, понимаете, занят коммерческой эксплуатацией этой идеи.
– Коммерческой? Понимаю, мистер Гамбрил.
– Может быть, вы хотите войти в долю? – предложил Гамбрил.
Мистер Бодженос покачал головой.
– Боюсь, мистер Гамбрил, что для моих клиентов это не подойдет. Вряд ли можно ожидать, что «сливки общества» станут носить подобные вещи.
– Вы так думаете?
Мистер Бодженос продолжал качать головой.
– Я их знаю, – сказал он, – я знаю «сливки общества». Да. – И он добавил, с непоследовательностью, которая была, возможно, только кажущейся: – Между нами, мистер Гамбрил, я большой поклонник революции…
– Я также, – сказал Гамбрил, – теоретически. Но ведь я ничего не теряю. Я могу позволить себе быть ее поклонником. Тогда как вы, мистер Бодженос, вы благоустроенный буржуа… о, только в экономическом смысле, мистер Бодженос…
Мистер Бодженос принял объяснение с одним из своих старомодных поклонов.
– …Вы были бы одним из первых, кто пострадал бы, если бы кто-нибудь начал ломку у нас.
– Разрешите мне сказать вам, мистер Гамбрил, что тут-то вы и ошибаетесь. – Мистер Бодженос вынул руку из-за пазухи и принялся двигать ею, подчеркивая жестами наиболее важные места своей речи. – Когда настанет переворот, мистер Гамбрил, – великий и необходимый переворот, по выражению олдермена Бекфорда, человек будет иметь неприятности не оттого, что он имеет немного денег, а из-за своих классовых привычек, мистер Гамбрил, своего классового языка, классового воспитания.
– Боюсь, что вы правы, – сказал Гамбрил.
– Я в этом убежден, – сказал мистер Бодженос. – Ведь ненависть вызывают именно мои заказчики, мистер Гамбрил, сливки общества. Именно их самоуверенность, их непринужденность, их привычку приказывать, создаваемую деньгами и положением в свете, их манеру считать свое общественное положение законным, их престиж все остальные люди с огромным наслаждением отняли бы у них, да не могут – ведь как раз это больше всего раздражает, мистер Гамбрил.
Гамбрил кивнул. Он сам завидовал способности своих более обеспеченных друзей игнорировать всех, кто не принадлежит к одному с ними классу. Чтобы овладеть в совершенстве этой способностью, надо с детства жить в большом доме, полном слуг-автоматов, надо никогда не нуждаться в деньгах, никогда не заказывать в ресторане более дешевое блюдо вместо более изысканного; надо смотреть на полисмена лишь как на оплачиваемого защитника от посягательств низшего класса и никогда не сомневаться в своем божественном праве делать – в границах приличия – все, что заблагорассудится, не обращая внимания ни на кого и ни на что, кроме собственной персоны и собственного удовольствия. Гамбрил вырос среди подобных блаженных существ, но сам не принадлежал к их числу. Увы? Или к счастью? Он сам не знал.