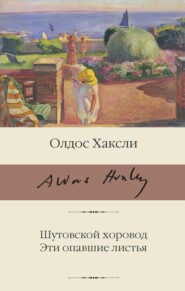скачать книгу бесплатно
– Бономелли, – сказал он, – совершенно точно. Вы – великий критик, Майра! Преклоняюсь перед вами. – Они двинулись дальше. – А это что за маскарад? – спросил он.
Миссис Вивиш заглянула в каталог.
– Судя по названию, Нагорная проповедь, – сказала она. – И знаете, мне это почти нравится. Вся эта толпа на склоне холма и единственная фигура на вершине, по-моему, это очень драматично.
– Но послушайте, – возмутился мистер Меркаптан.
– И все-таки, что ни говорите, – сказала миссис Вивиш, вдруг почувствовав себя неловко оттого, что она каким-то образом предала Липиата, – он в самом деле очень милый, знаете. Очень, очень милый! – Ее умирающий голос звучал весьма убежденно.
– Ah, ces femmes, – воскликнул мистер Меркаптан, – ces femmes![63 - О, эти женщины… эти женщины! (фр.)] Все они Пасифаи и Леды. Все они в глубине души предпочитают зверя человеку, дикаря цивилизованному существу. Даже вы, Майра, как это ни прискорбно. – Он замотал головой.
Миссис Вивиш не обратила внимания на этот взрыв возмущения.
– Очень милый, – задумчиво повторила она. – Только немного скучный… – Ее голос окончательно испустил дух.
Они продолжали осматривать выставку.
Глава 8
Критическим оком, в трюмо примерочной мистера Бодженоса, Гамбрил рассматривал себя сбоку и сзади. Надутые воздухом Патентованные Штаны выпячивались, явно выпячивались, и это придавало его фигуре изящную полноту, которая в представительнице другого пола могла бы показаться восхитительно-естественной. Но у него, вынужден был признать Гамбрил, эта полнота казалась несколько неуместной и парадоксальной. Конечно, чтобы быть красивым, надо страдать; следовательно, чтобы не страдать, надо быть некрасивым. С практической точки зрения брюки были необыкновенно удачны. Гамбрил плюхнулся на жесткую деревянную скамью, стоявшую в примерочной, а впечатление было такое, точно он уселся на эластичнейший пружинный матрац; безусловно, Патентованные Штаны не побоятся и мрамора. А сюртук, утешал он себя, будет скрывать своими полами слишком явное выпячивание. Ну, а если не будет, тогда что ж, ничего не поделаешь. Придется мириться с выпячиванием, только и всего.
– Очень мило, – объявил он наконец.
Мистер Бодженос, молча оглядывавший своего клиента с улыбкой вежливой, но в то же время, отметил Гамбрил, несколько иронической, слегка кашлянул.
– Смотря по тому, – сказал он, – что вы называете «милым».
Он склонил голову набок; тонкий нафиксатуаренный кончик его уса был теперь, как стрелка указателя, направлен на какую-то отдаленную звезду.
Гамбрил не сказал ничего, но, посмотрев еще раз на отражение своей фигуры сбоку, нерешительно кивнул головой.
– Если милым, – продолжал мистер Бодженос, – называть удобное, тогда все в порядке. А если речь идет об элегантности – тогда, мистер Гамбрил, боюсь, что я не могу согласиться.
– Но элегантность, – сказал Гамбрил, безуспешно пытаясь разыграть философа, – понятие относительное, мистер Бодженос. У некоторых африканских негров, например, элегантным считается протыкать губы и растягивать их деревянными дощечками, пока рот не станет похож на клюв пеликана.
Мистер Бодженос засунул руку за пазуху и сделал полупоклон.
– Охотно верю, мистер Гамбрил, – ответил он. – Но ведь мы, извините, не африканские негры.
Гамбрил был сражен – и заслуженно. Он опять посмотрелся в трюмо.
– Скажите, мистер Бодженос, – спросил он после небольшой паузы, – вы разве против всякой эксцентричности в костюме? Вы хотите всех нас нарядить в свой элегантный мундир?
– Что вы, что вы, – ответил мистер Бодженос. – Есть некоторые занятия, при которых эксцентрический вид – это просто sine qua non[64 - Непременное условие (лат.).], мистер Гамбрил, или даже de rigueur[65 - Обязательный (фр.).].
– А разрешите мне спросить вас, мистер Бодженос, какие занятия? Вы, может быть, имеете в виду художников? Широкополые шляпы и байроновские воротники и, пожалуй, даже вельветовые брюки? Хотя в наше время все это, пожалуй, несколько устарело.
Мистер Бодженос загадочно улыбнулся, – игривый сфинкс. Он засунул правую руку глубже за пазуху, а левой покрутил кончик уса, заострив его еще больше.
– Нет, не художники, мистер Гамбрил. – Он отрицательно покачал головой. – Конечно, вид у них бывает немножко эксцентрический и неряшливый. Но им это вовсе не требуется. Это требуется только политическим деятелям. Это, можно сказать, de rigueur только в политике, мистер Гамбрил.
– Вы меня удивляете, – сказал Гамбрил. – Мне-то как раз казалось, что в интересах политического деятеля иметь возможно более респектабельный и обычный вид.
– Да, но еще больше в его интересах, как вожака, иметь вид, отличный от других, – возразил мистер Бодженос. – Нет, не то, – быстро поправился он, – а то вы подумаете, что они всегда отлично одеваются, а это, с прискорбием должен признать, далеко не всегда бывает так, мистер Гамбрил. Я хотел сказать, отличительный.
– Эксцентричность – их знак различия, – предложил Гамбрил. Он наслаждался, сидя на Патентованных Штанах.
– Вот это да, – сказал мистер Бодженос, покручивая ус. – Вожак должен быть непохожим на всех остальных. В доброе старое время они всегда носили свои различительные знаки. У вожака была своя ливрея, как у всякого человека. Это было разумно, мистер Гамбрил. В наши дни у него нет знака – по крайней мере на каждый день; я ведь не считаю судейские мундиры и прочие костюмы для ежегодных маскарадов. Ему ничего не остается, как эксцентрично одеваться и стараться быть менее похожим на других людей по внешнему виду. Способ очень ненадежный, мистер Гамбрил, очень ненадежный.
Гамбрил согласился.
Мистер Бодженос продолжал, сопровождая свои слова аккуратными, неширокими жестами.
– Одни из них, – сказал он, – носят огромные воротники, как мистер Гладстон. Другие носят орхидею в петлице и монокль, как Джо Чемберлен. Некоторые отращивают волосы, как Ллойд Джордж. Некоторые надевают странные шляпы, как Уинстон Черчилль. Некоторые ходят в черных рубашках, как Муссолини, а некоторые – в красных, как Гарибальди. Некоторые носят усы концами вверх, как Вильгельм II. Некоторые носят их концами вниз, как Клемансо. Некоторые отращивают бакенбарды, как Тирпиц. Я уж не говорю о всяких там мундирах, орденах, украшениях, париках, перьях, коронах, пуговицах, татуировках, серьгах, шарфах, саблях, тренах, тиарах, уримах, тумимах и прочих предметах, мистер Гамбрил, которые раньше и в других частях света служили для того, чтобы отличить вожака от всех остальных. Мы знаем нашу историю, не так ли, мистер Гамбрил, и мы знаем все насчет этого.
Гамбрил скромно отмахнулся.
– Говорите только за себя, мистер Бодженос, – сказал он.
Мистер Бодженос поклонился.
– Продолжайте, продолжайте, – сказал Гамбрил.
Мистер Бодженос поклонился еще раз.
– Так вот, мистер Гамбрил, – сказал он, – смысл всего этого, как я уже имел честь говорить, в том, чтобы вожак отличался от стада по внешнему виду, чтобы его стадо могло узнать его по первому coup d’oeil[66 - Взгляд (фр.).], можно сказать. Потому что человеческое стадо, мистер Гамбрил, никак не может обойтись без вожака. Взять, например, баранов – никогда не видал, чтобы у них были вожаки; у грачей тоже. У пчел зато они есть. По крайней мере, когда они роятся. Поправьте меня, мистер Гамбрил, если я ошибаюсь. Естественная история никогда не была, можно сказать, моим «форте»[67 - Вместо fort – сильным местом (фр.).].
– Моим тоже, – оправдывался Гамбрил.
– Что же до слонов и волков, то здесь, мистер Гамбрил, мои познания слишком слабы. Насчет лам, саранчи, голубей и леммингов я тоже ничего не скажу. Зато про людей я могу говорить вполне авторитетно, простите мне, мистер Гамбрил, такую нескромность, а не так, как какой-нибудь писателишка. Я специально изучил их, мистер Гамбрил. И профессия у меня такая, что сталкиваться мне приходилось с многочисленными экземплярами этой породы.
Интересно, невольно подумал Гамбрил, на какую полочку в своем музее мистер Бодженос поставил его, Гамбрила?
– Человеческому стаду, – продолжал мистер Бодженос, – необходим вожак. И у него должны быть какие-нибудь приметы, отличающие его от стада. В его же интересах, чтобы его легко можно было узнать. При виде младенца, вылезающего из ванночки, вы сейчас же думаете о мыле Пирса, при виде седых волос, развевающихся по ветру, вы думаете о Ллойд Джордже. Вот в чем секрет. Но, по-моему, мистер Гамбрил, прежняя система была куда разумней: дайте им мундиры и знаки различия, пусть министры носят на голове перья. Тогда все будут обращать внимание на узаконенный символ вожачества, а не на отдельные особенности частных лиц. Бороды и шевелюры и потешные воротники меняются, а хороший мундир всегда остается одинаковым. Пусть носят перья, вот что я вам скажу, мистер Гамбрил. Достоинство государства от перьев возрастет, а значение личности уменьшится. А от этого, мистер Гамбрил, – с пафосом закончил мистер Бодженос, – кроме пользы, ничего не будет.
– Так, по-вашему, – сказал Гамбрил, – если я покажусь толпе в своих надутых воздухом брюках, я сделаюсь вожаком – так, что ли?
– Ах нет, – сказал мистер Бодженос. – Для этого нужно еще, чтобы у вас был талант говорить речи и приказывать. От перьев гениальным не станете; перья могут только усилить эффект от того, что уже есть.
Гамбрил встал и принялся снимать Патентованные Штаны. Он отвинтил клапан – воздух с затихающим свистом вырвался наружу. Гамбрил тоже вздохнул.
– Странное дело, – задумчиво сказал он, – но у меня никогда не было потребности в вожаке. Я не встречал до сих пор никого, кем я мог бы от души восхищаться или в кого я мог бы верить, никого, за кем я хотел бы следовать. А ведь должно быть приятно поручить себя кому-нибудь еще. Наверно, при этом чувствуешь себя тепло, уютно, одним словом, как нельзя лучше.
Мистер Бодженос улыбнулся и покачал головой.
– Мы с вами, мистер Гамбрил, – сказал он, – не такие люди, чтобы на нас действовали перья или хотя бы речи и приказания. Мы сами, может быть, не вожаки. Но зато мы и не стадо.
– Не главное стадо, может быть.
– Никакое не стадо, – гордо настаивал мистер Бодженос.
Гамбрил с сомнением покачал головой и застегнул брюки.
Теперь, когда он об этом подумал, он решил, что, пожалуй, он принадлежит ко всем стадам понемногу, в порядке почетного членства или по временам, подобно тому, как можно состоять в каком-нибудь обществе не своего университета или ходить в военно-морской клуб в те дни, когда в вашем клубе идет ежегодная уборка. Стадо Шируотера, стадо Липиата, стадо мистера Меркаптана, стадо миссис Вивиш, архитектурное стадо его отца, педагогическое стадо (но оно, к счастью, блеет теперь на своем пастбище без его участия), стадо мистера Бодженоса – он принадлежал ко всем им понемногу и ни к одному из них целиком. Никто не принадлежал к его стаду. Иначе быть не могло. Хамелеон не может чувствовать себя удобно на клетчатом пледе. Он надел сюртук.
– Я пришлю вам ваши одежды сегодня вечером, – сказал мистер Бодженос.
Гамбрил вышел из мастерской. У театрального парикмахера на Лейстер-сквер он заказал белокурую веерообразную бороду под цвет своих собственных волос. Он будет по крайней мере хоть своим вожаком; он будет носить отличительный знак, символ авторитета. И Колмэн сказал, что этот символ помогает завязывать опасные связи.
Ну конечно, теперь он на время включился в стадо Колмэна. Как все это огорчительно.
Глава 9
Веерообразная, белокурая, на тюлевой подкладке и, по уверению фирмы, неотличимая от настоящей, она прибыла от парикмахера, бережно упакованная в толстую картонку, которая была в шесть раз больше, чем нужно; к ней было приложено четверть пинты отборнейшего спиртового клея. В уединении своей спальни Гамбрил распаковал ее, полюбовался ею, погладил шелковистые волоски и, наконец, примерил перед зеркалом, придерживая ее у подбородка рукой. Эффект, сейчас же решил он, был изумительный, потрясающий. Из меланхоличного и слишком мягкого молодого человека он мгновенно превратился в нечто вроде веселого короля Генриха Восьмого, в массивного раблезианца – широкоплечего, могучего, буйно-жизнерадостного, с буйной растительностью.
Пропорции его лица удивительным образом изменились. База, расположенная подо ртом, была недостаточно массивна для внушительной колонны носа; а рассудочный антаблемент лба, сам по себе, правда, весьма благородный, был непропорционально высок. Борода восполнила недостатки ордера, и стержень колонны чувств, и воздушный антаблемент мыслей теперь, когда под них подвели крепкую базу воли, создавали впечатление более гармоничной пропорциональности. Оставалось только заказать у мистера Бодженоса подбитый в плечах американский костюм, широкоплечий и героический, как камзолы шестнадцатого века, и у него будет вид цельного человека в духе Рабле. Тонкий гурман, выносливый пьяница, неукротимый бретер, неутомимый любовник, блестящий мыслитель, творец красоты, искатель истины и пророк героического века. Во всеоружии костюма и бороды он может теперь подать заявление на ближайшую вакансию в аббатстве Телемы[68 - Из Рабле. В переносном значении – место всяческого материального изобилия.].
Он снял бороду – «поднял забрало», как выражались в добрые старые рыцарские времена; кстати, надо будет запомнить эту шутку для Колмэна. Итак, он поднял забрало и горестно воззрился на далеко не раблезианское лицо, смотревшее на него из зеркала. Усы – они были неподдельны, – казавшиеся в сочетании с произведением искусства, которое только что украшало его подбородок, такими воинственными и мужественными, теперь, взятые в отдельности, лишь подчеркивали своими свисающими концами его природную мягкость и меланхоличность.
Это было нечто жалкое, что могло бы принадлежать Морису Барресу[69 - Морис Баррес (1862–1923) – французский писатель; в юности проповедовал крайний эгоцентризм, а позднее, после империалистической войны, превратился в ярого шовиниста.] в юности, нечто безжизненно свисающее, грустно поникшее; нечто такое, что могло вырасти только на лице ревностного поклонника своего «я» и что, когда он станет постарше, будет казаться смехотворно неуместным на физиономии ярого националиста. Если бы они не гармонировали так изумительно с бородой, если бы они не становились такими неожиданно новыми в этом новом сочетании, которое он только что открыл, он немедленно сбрил бы себе усы.
Плачевный привесок. Но теперь он преобразит усы, он придаст им их лучшую половину. Мадригал Задига[70 - «Задиг, или Судьба» – сочинение Вольтера.] к возлюбленной, после того как таблетку, на которой он был написан, переломили на две части, превратился в пасквиль на короля. Точно так же и эти усы, подумал Гамбрил, осторожно размазывая клей по щекам и подбородку, – эти усы, которые в отдельности только предают меня, после воссоединения с недостающей половиной сейчас же превратятся в оружие для завоевания прекрасного пола.
Сравнение чуточку сложное, решил он, чуточку тяжеловесное. И к тому же, так как «Задига» почти никто не читает, его вряд ли можно использовать в разговоре. Тщательно, бережно, аккуратными кончиками пальцев он приладил преображение к своему липкому лицу, крепко прижал его, придерживая, пока оно не приклеилось окончательно. Врата Телемы открылись перед ним; он стал хозяином всех роскошных садов, зал и внутренних дворов, широких лестниц, поднимающихся благородными спиралями во чреве каждой из прекрасных круглых башен. И не кто иной, как Колмэн, открыл ему этот путь; Гамбрил был благодарен ему за это. Взглянуть еще раз на цельного человека, признать окончательно и бесповоротно, что Некто Мягкий и Меланхоличный, по крайней мере на время, больше не существует; и вот он уже готов пуститься в плаванье. Он выбрал просторное легкое пальто – он, конечно, не нуждается в нем, так как день нынче ясный и теплый, но, пока мистер Бодженос не подложит вату, ему придется создавать иллюзию широкоплечести именно таким способом, даже если ради этого нужно будет париться. Глупо было бы жертвовать цельностью во имя мелких удобств. Поэтому он облачился в свое летнее пальто – в тогу, как называл его мистер Бодженос, в хорошо сшитую тогу из настоящего корнуэльского шевиота. Он надел самую широкую и самую черную из своих фетровых шляп: для цельности ему необходима была прежде всего ширина, ширина в плечах, ширина полей, широта взглядов, широта эмоций, широкая улыбка, широкие жесты – все широкое. Последним штрихом была старинная массивная пальмовая трость, принадлежавшая его отцу. Будь у него бульдог, он повел бы его с собой на цепочке. Но бульдога не было. Он вышел на солнце в единственном числе.
Но он вовсе не намерен был долго оставаться в единственном числе. Эти теплые ясные майские дни – самое подходящее время для любовных приключений. И быть одному в такие дни – нечто вроде болезни. Болезни, которой Некто Мягкий и Меланхоличный страдал слишком часто. А между тем в Англии женщин на несколько миллионов больше, чем мужчин; миллионы лишних женщин. Каждый день на улицах встречаешь их тысячами; и некоторые из них очаровательны, восхитительны – единственные, неповторимые подруги жизни. Тысячи единственных и неповторимых подруг жизни в день. Некто Мягкий и Меланхоличный давал им пройти мимо – навсегда. Но сегодня – сегодня он цельный раблезианский человек; сегодня он вооружен до зубов бородой; бессмысленная игра в самом разгаре; будут возможности, и Цельный Человек сумеет их использовать. Нет, в единственном числе он не останется.
Четырнадцать платанов в сквере пылали юной незапятнанной зеленью. В конце каждой улицы золотистый муслин дымки висел, как занавес без складок, постепенно утончаясь и переходя в прозрачное ничто над мглистой линией горизонта. Смутный, точно из раковины, гул, заменяющий в городе тишину, казалось, сливался с золотистой летней дымкой, и на этом смутном широком фоне резко выделялись пронзительные крики играющих детей. «Бобер, – кричали они, – бобер!» – и еще: «Дядя, достань воробушка!» Цельный Человек с шутливой угрозой замахнулся на них своей позаимствованной пальмовой тростью. Он принял их быстрое приветствие как самое благоприятное предзнаменование.
В первой же табачной лавке Гамбрил купил самую длинную сигару, какая там только была, и медленно, раскачиваясь всем корпусом, пошел по направлению к Парку, волоча за собой тающую голубую спираль гаванского дыма. Именно там, под вязами, на берегах орнаментальных прудов, он рассчитывал найти возможности, намеревался с той великолепной самоуверенностью, которую придала ему гаргантюанская маска, использовать их.
Возможность представилась скорей, чем он ожидал.
Он только что свернул на Квинс-род и проходил мимо Уайтли с видом человека, знающего, что он имеет право на место под солнцем, пожалуй, даже на два или три места, когда заметил молодую женщину, внимательно разглядывающую последние модели сезона; в те дни, когда он был Мягким и Меланхоличным, он ограничился бы безнадежным обожанием, но Цельному Человеку она казалась добычей, созданной специально для него. Она была довольно высокого роста, но благодаря своей исключительной стройности казалась еще выше. Нет, тощей она не была, далеко нет. Это была округлая стройность. Цельный Человек решил применить к ней эпитет «трубчатая» – гибкая и трубчатая, как, скажем, укороченный боа-констриктор. Ее костюм подчеркивал эту змеиную стройность: обтягивающий серый жакет, застегнутый до самой шеи, и длинная узкая серая юбка, доходящая до щиколоток. На голове у нее была маленькая гладкая черная шляпка, казавшаяся металлической. Сбоку на шляпке красовался пучок тускло-золотых листьев.
Эти золотые листья были единственным украшением, нарушавшим строгую гладкость и трубчатость всей ее фигуры. Что же касается лица, то оно было, собственно говоря, ни красивым, ни уродливым, но сочетало элементы красоты и уродливости таким образом, что в целом получалось нечто неожиданное и, как это ни странно, неестественно привлекательное.
Делая вид, что он тоже заинтересован последними моделями сезона, Гамбрил скосил глаза поверх горящего кончика сигары и подробно исследовал черты ее лица. Лоб был почти целиком скрыт шляпкой; он мог быть вдумчивым и безмятежно высоким, он мог обладать той недостаточной высотой, которая у мужчин предосудительна, но женщинам придает своеобразную, пускай грубоватую или даже низкопробную, но, безусловно, своеобразную привлекательность. Тут ничего не скажешь. Что же до глаз, то они были зелеными и прозрачными: широко расставленные, они смотрели из-под тяжелых век сквозь разрезы, слегка приподнятые у наружных уголков. Нос у нее был с небольшой горбинкой. Рот был полный, но прямой и неожиданно широкий. Подбородок был маленький, круглый и твердый. Кожа была бледная и только на выступавших скулах окрашивалась румянцем.
На левой щеке, под самым уголком скошенного глаза, у нее была темная родинка. Волосы, выбивавшиеся из-под шляпы, были неопределенного светло-русого цвета. Кончив рассматривать последние модели сезона, она медленно пошла дальше, на мгновение задержалась перед чемоданами и наполненными провизией корзинами для пикников, целую минуту простояла перед корсетами, по каким-то причинам весьма презрительно прошла мимо шляп, но, как это ни странно, долго и внимательно рассматривала сигары и вино. Что же касается теннисных ракеток и крокетных молотков, учебных пособий и мужских носков, то на них она даже и не взглянула. Но с какой любовью она разглядывала ботинки и туфли! Ее ноги, с удовлетворением отметил Цельный Человек, отличались изяществом линий. И в то время, как все прочие ходили в шевро или хроме, она удовлетворялась лишь тончайшей кожей пятнистой змеи. Они медленно двигались по Квинс-род, останавливаясь перед витриной каждого ювелира, каждого антиквара, каждого портного, встречавшегося им на пути. Незнакомка не доставляла ему никаких возможностей; иначе и быть не могло, подумал Гамбрил. Ведь та бессмысленная игра, на которую он рассчитывал, это – летучий пикет для двоих игроков, а не пасьянс. Нормальный человек не может играть в нее без партнера. Гамбрилу придется самому создавать возможности.
Все, что было в нем мягкого, все, что было меланхоличного, с болезненной неохотой отказывалось от обязанности нарушить – с какими последствиями, восхитительными и опасными в будущем или, в случае заслуженного отпора, унизительными в настоящем? – молчание, которое возле десятой или двенадцатой витрины стало невыносимо многозначительным. Некто Мягкий и Меланхоличный тащился бы за ней до самого конца улицы; общность вкусов, лежащая в основе всякого счастливого союза, позволила бы ему разделять ее восторги перед медными подсвечниками и вилками для поджаривания хлеба, поддельной чиппендейлской мебелью, золотыми часами на браслетах и низко вырезанными летними платьями; дотащился бы до конца улицы и молча проводил бы ее взглядом, когда она исчезала бы навсегда в зеленом парке или на лишенной витрин Бэйсуотер-род; проводил бы ее, исчезающую навсегда, и отправился бы в ближайший бар – буде таковые оказались бы открытыми, – заказал бы стакан портвейна и, сидя у стойки, молча смаковал бы, окруженный алкоголиками, грязноватую лозу с берегов Дуро и свое собственное неповторимое одиночество.
Так поступил бы Некто Мягкий и Меланхоличный. Но вид его могучего бородатого лица, отраженного в поддельном хепплуайтском зеркале на выставке антикварной лавки, напомнил ему, что Некто Мягкий и Меланхоличный временно перестал существовать и что теперь не он, а Цельный Человек фланирует, покуривая свою длинную сигару, по Квинс-род, на пути к аббатству Телемы.
Он расправил плечи; в этой просторной тоге от мистера Бодженоса он выглядел дородным, как Франциск Первый. Время, решил он, настало.
Как раз в эту минуту отражение лица незнакомки, которой надоело рассматривать старый уэльский шкаф, стоявший в углу витрины, присоединилось в маленьком зеркале к отражению его собственного лица. Незнакомка созерцала поддельный хепплуайт[71 - Чиппендейл и Хепплуайт – знаменитые английские мебельщики XVIII века, каждый из которых создал свой стиль.]. Их глаза встретились в гостеприимном зеркале. Гамбрил улыбнулся. Уголки широкого рта незнакомки чуть дрогнули; как лепестки магнолии, веки медленно опустились на ее раскосые глаза. Гамбрил перевел взгляд с отражения на реальность.
– Если хотите сказать: «Бобер», – сказал он, – прошу вас.
Цельный Человек произнес свою первую речь.
– Я не хочу сказать ничего, – сказала незнакомка. Она произнесла эти слова с прелестной точностью и четкостью, слегка растягивая, как бы из желания подчеркнуть, букву «н» в слове ничего: «н-ни-чего», – это отрезало все пути. Она отвернулась, она пошла дальше.
Но Цельный Человек был не из таковских, чтобы его можно было сразить подобным ультиматумом.
– Ну вот, – сказал он, шагая с ней в ногу, – теперь я получил заслуженный отпор. Честь спасена, престиж поддержан. Теперь мы можем и поговорить.
Некто Мягкий и Меланхоличный смотрел, раскрыв рот от изумленного восхищения.
– Вы уж-жасный нахал, – сказала незнакомка, улыбаясь и взглядывая на него из-под лепестков магнолии.
– Это у меня в характере, – сказал Цельный Человек. – Не осуждайте меня за это. Против наследственности ничего не поделаешь; приходится нести бремя первородного греха.
– Можно всегда заслужить прощение, – сказала незнакомка.
Гамбрил погладил бороду.
– Безусловно, – ответил он.
– Советую вам м-молиться о нем.
Его молитвы, подумал Некто Мягкий и Меланхоличный, были давным-давно услышаны. Он сам был живым искуплением первородного греха.
– А вот и еще антикварная лавка, – сказал Гамбрил. – Как, остановимся и посмотрим?
Незнакомка взглянула на него с сомнением. Но он говорил, по-видимому, вполне серьезно. Они остановились.
– Как возмутительна эта поддельная деревенская мебель, – заметил Гамбрил. Он обратил внимание, что на вывеске было старинным шрифтом написано: «Старая Деревенская Усадьба».
Незнакомка, только что собиравшаяся сказать, в каком она восторге от этих милых кухонных шкафов в староуэльском стиле, от всего сердца согласилась с ним:
– Так в-вульгарно.
– Так ужасающе утонченно. Так утонченно и артистично.
Она ответила смехом, похожим на нисходящую хроматическую гамму. Это было увлекательно и ново. Бедная тетя Агги с ее кустарными изделиями и старой английской мебелью! Подумать только, что она принимала все это всерьез. В мгновение ока она увидела себя в облике изысканной и пресыщенной леди – мебель в стиле Людовика такого-то, и драгоценности, и юные поэты за чайным столом, и настоящие художники. В прежнее время, когда она воображала себя принимающей настоящих художников, ее апартаменты были всегда обставлены настоящей художественной мебелью. Мебелью тети Агги. Но теперь – ах нет, Боже упаси! Этот субъект, по-видимому, художник. Например, его борода; и эта большая черная шляпа. Но не бедный; одет очень прилично.
– Да, и подумать только, что находятся люди, которые считают весь этот хлам художественным. Они заслуживают всяческой жалости, – с присвистом добавила она.
– У вас доброе сердце, – сказал Гамбрил. – Очень приятно.
– Не оч-чень доброе, б-боюсь. – Она взглянула на него искоса и многозначительно, как взглянула бы на одного из своих поэтов изысканная леди.
– Ничего, с меня и этого хватит, – сказал Цельный Человек. Он был в восторге от своей новой знакомой.
Они вместе свернули на Бэйсуотер-род. Именно здесь, подумал Гамбрил, Некто Мягкий и Меланхоличный молча поплелся бы к своему стакану портвейна и к своему одиночеству среди незнакомых пьяниц в баре. Но Цельный Человек взял свою новую приятельницу под руку и повел ее на буксире через запруженную улицу. Они вместе пересекли мостовую, вместе вошли в парк.