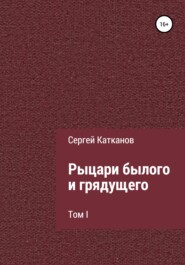 Полная версия
Полная версияРыцари былого и грядущего. I том
– Без обид, доблестный Гуго. Лишь замечу: кроме охраняемых нами паломников есть и другие группы. Если мы отпустим этих бандитов, ещё до захода солнца они нападут на других пилигримов, у которых не будет хорошей охраны.
Гуго вздрогнул и внимательно посмотрел на де Сент-Омера. Потом под ноги своего коня. Он молчал не меньше десяти секунд, которые всем показались вечностью. В разговор вмешался Бизо:
– Жоффруа, мы всё равно не сможем догнать разбойников на своих тяжеловесах.
Впрочем, Гуго уже принял решение:
– Туркополам преследовать бандитов и навязать им бой. Во что бы то ни стало удерживать этих мерзавцев и продержаться до тех пор, пока не подоспеют рыцари.
Наверно, впервые с таким блеском проявились преимущества, которые давало охранному отряду наличие маленького подразделения лёгкой кавалерии туркополов. У воинов Иакова были превосходные арабские скакуны. Иерусалимская община христиан-арабов не пожалела денег на приобретение этих скакунов для своих героев. Маленькие мохноногие турецкие лошадки разбойников без труда ускакали бы от рыцарских коней-тяжеловесов, но с арабскими скакунами эти лошадки никак не могли соревноваться в скорости. Войны Иакова быстро настигли бандитов и навязали бой вчетверо превосходящему их противнику. А сзади уже громыхали латами рыцари. Туркополы, получив мощную подмогу, теперь действовали уже не столько на поражение противника, сколько препятствовали ошарашенным бандитам разбегаться с поля боя. Схватка была жаркой, но скоротечной. Бандитов перебили всех до единого. Ни один рыцарь не пострадал. Но туркополы имели очень лёгкую защиту. Двое из них погибли, все остальные оказались легко ранены. Тяжелораненых, к счастью, не было. Гуго подошёл к Иакову и по-братски обнял его, не зная, как ещё выразить свою благодарность, впрочем, лучшей награды храбрый араб и представить себе не мог. Потом Гуго подошёл к де Сент-Омеру и поклонился ему:
– Ваша мудрость, мой прекрасный друг, может соперничать только с вашей храбростью. Если бы не вы, эти бандиты уже через несколько часов резали бы где-нибудь беззащитных, неведомых нам паломников. Я плохой христианин, Жоффруа, я не думал об этом. У меня были мысли о том, что по бандитам необходимо наносить упреждающие удары, но что толку от моих мыслей, когда тем временем гибли паломники… Я заметил, что вы принимаете решения на несколько секунд быстрее меня, а потерянные секунды это, чаще всего, потерянные жизни. Не знаю, каковы ваши планы на Святой Земле, но было бы замечательно, если бы вы и Бизо присоединились к нашему охранному отряду.
Горячка боя не стёрла с лица де Сент-Омера обычного выражения неотмирного покоя. Он улыбнулся де Пейну почему-то немного грустно:
– У меня на Святой земле не было никаких конкретных планов, у Бизо, насколько знаю, тоже. Я уже думал о том, чтобы присоединиться к отряду некоего рыцаря де Пейна, но ваше предложение опередило мои мысли на несколько секунд. Я согласен.
Любой рыцарь ответил бы на тираду Гуго встречными комплиментами, постаравшись из вежливости умалить собственные достоинства. Де Сент-Омер не сделал ни того, ни другого. Он, видимо, просто не хотел тратить слова на обмен любезностями. Гуго с восхищением смотрел на необычного юношу и думал про себя: «Ему бы командовать нашим отрядом, а не мне. Как это было бы прекрасно – подчиняться такому возвышенному, мудрому и решительному рыцарю».
***
Перед заходом солнца их караван остановился на ночлег. Стремительно холодало. Они развели костёр, немного молча посидели и уже хотели отходить ко сну, когда Бизо предложил:
– А хотите, господа, я спою вам мою новую песню? Правда она ещё не доработана, но её слова так неотступно звучат во мне… Мне надо её спеть, чтобы потом закончить.
Все были рады. Бизо запел:
Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.
Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.
Бизо на несколько мгновений замолчал, а потом продолжил:
С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел.
И до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.9
Песня всех привела в восхищение, но по лицу де Сент-Омера пробежала тень:
– Я же просил тебя, Бизо.
– Не забывай, Жоффруа, что ты обращаешься не только к трубадуру, но и к рыцарю. Рыцарь держит слово, но поэта не заставить молчать. И вот я выдумал некоего бедного рыцаря в назидание всем христианским воинам. Разве об этом не стоит петь?
Гуго и Роланд с удивлением увидели, что де Сент-Омер заметно смущён. Нетрудно было понять, что песня Бизо содержит намёк на некую тайну, которую де Сент-Омер просил не раскрывать, но сам же и указал на существование этой тайны, попытавшись одёрнуть трубадура. Самообладание странным образом покинуло столь невозмутимого Жоффруа. Гуго, деликатность которого никогда не была чрезмерной, просто спросил:
– Не расскажите ли, любезнейший де Сент-Омер, что привело вас в Святую Землю?
– Был случай… событие. В его реальность вы, мои добрые друзья, вряд ли сможете поверить. Слишком неправдоподобно то, что со мной произошло.
– Вот как… – Гуго пожал плечами. – А в моей истории нет ничего неправдоподобного. И вообще в ней нет ничего особенного. Просто я с детства мечтал о Царствии Небесном…
Гуго без затей и без подробностей рассказал про свой путь. Говорил он очень искренне, но из этой простодушной открытостью стояло вполне прагматичное желание спровоцировать де Сент-Омера на откровенность. Когда Гуго закончил, «молчаливый и простой» фламандский рыцарь не сказал ни слова, но молчание длилось недолго. Роланд тоже решил рассказать о себе:
– Мои мечты никогда не были столь возвышенными, как у нашего Гуго. Я всего лишь хотел быть хорошим братом.
Роланд так же рассказал о своих детских впечатлениях, о той войне, которую начал против него единокровный брат, об отце Роберте, о монастыре. Бизо, как истинный рыцарь-поэт слушал Гуго и Роланда с нескрываемым восхищением, но на Жоффруа де Сент-Омера эти повести, казалось, не произвели никакого впечатления. Стояла глубокая ночь, пустыня была совершенно черна и непроглядна. Они не видели даже своих часовых, хотя и знали, что те неподалёку. Костёр, догорая, сыпал искрами. Все паломники давно спали. Гуго уже хотел предложить рыцарям помолиться перед сном, когда услышал тихий и чистый голос де Сент-Омера:
– Как бы мне хотелось, дорогие друзья, от всей души назвать вас своими братьями.
– Так ведь мы уже всё решили, – без тени недоумения обронил Гуго, неожиданно оторвав глаза от костра, и очень внимательно, испытующе посмотрев в глаза Жоффруа.
– Да, брат Гуго, мы уже всё решили. Теперь мы – один отряд. Но распоряжаться своей судьбой гораздо легче, чем своей душой. Что мне делать с моей душой, Гуго?
Де Сент-Омер, виновато улыбнувшись, посмотрел на де Пейна. Казалось, Гуго напряжённо впитывает этот взгляд «сумрачного и бледного» рыцаря. Гуго всей душой ощутил – ещё несколько мгновений и его судьба навсегда сольётся в единое целое с судьбой де Сент-Омера. Каждый из них станет больше, чем он сам. Похоже, что де Сент-Омер почувствовал то же самое:
– Ты, брат Гуго, и вы, брат Роланд и брат Бизо, должны знать всё. Прости, Бизо, но я не обо всём рассказал тебе раньше. Тогда это было неважно, а сейчас пришло время.
Душа моя до самого смертного часа будет содрогаться от отвращения к самому себе и после смерти, когда меня поглотит адское пламя, думаю, будет то же самое. Ещё два года назад я был весёлым и беспечным воплощением всяческой мерзости, ни сколько об этом не задумываясь, и сейчас изменилось лишь то, что я теперь нисколько не обольщаюсь относительно самого себя. Мой отец очень богат, а я, старший сын, был наследником множества замков, полей, лесов. И крестьян. И крестьянок. Я нисколько не сомневался, что любая из них принадлежит мне, так же как и дичь в наших лесах, и рожь на полях. Да, крестьянки мне всегда казались самой привлекательной частью моей собственности. Едва став подростком, я почувствовал, что охотиться за их душами куда интереснее, чем за кабанами или зайцами в лесу. Именно за душами, а не за телами. Их молодыми красивыми телами я мог завладеть, когда мне вздумается. Тут не было охоты, азарта, преследования. Не было победы. А мне хотелось побеждать, чтобы владеть ими безраздельно.
Ещё мальчишкой, овладев первой из своих женщин, я почувствовал, что ничего особо ценного не получил. Она была молода и красива, куда более красива, чем я предполагал, и в этом смысле мои детские ожидания оказались вполне оправданы. Она была совершенно покорна и не сопротивлялась, понимая, что она – моя собственность. Но пока я был с ней, она непрерывно и укоризненно что-то шептала о Боге и о грехе. Тогда я всем своим существом ощутил, что это прекрасное создание принадлежит не мне, а Богу. Я понял, чего хочу и сказал ей: «Ты думаешь, что я твой господин? Ты ошибаешься. Я твой бог. И ты, и вы все ещё поймёте, что я – ваш бог и поклонитесь мне, как богу». Она ничего не ответила мне на эти страшные, безумные слова, только в глазах набожной девушки я прочитал невыразимый ужас. И моё желание тут же окончательно определилось. Мне надо было всего лишь увидеть у всех у них в глазах восторг и восхищение в ответ на мои слова о том, что я их бог.
Слушая рассказ священника о греховных наклонностях библейского царя Соломона, который в конце своей жизни имел гарем из тысячи наложниц и жён, я не ужасался нравственному падению великого мудреца. Я завидовал. А, впрочем, даже и не завидовал, поскольку не сомневался, что у меня будет такой же гарем. И все мои наложницы будут не просто любить меня, а обожествлять. Это была безрассудная и беспредельная претензия на абсолютную любовь, и я тогда представить себе не мог, как далеко это всё от настоящей любви.
Моё воистину бесовское желание начало сбываться так скоро, что я был ошеломлён, хотя и не сомневался в осуществление своих притязаний. Нет, легко не было. Всё было очень сложно, но до чрезвычайности интересно – просто дух захватывало. Я быстро заметил, что душа самой простой и совершенно безграмотной крестьянки – целый мир, огромная вселенная, в которой есть всё: высокое небо, ослепительное солнце, прохлада лесов, множество сумрачных закоулков. А ещё – несколько линий обороны. Они легко отдавали то, что можно было взять силой, а вот с «оборонными рубежами» их души приходилось долго возиться. Я нравился им сразу же: молодой и красивый, вежливый и властный, сгорающий и сжигающий. Но их симпатия ко мне была только началом. Вскоре юные крестьянки замечали, что я отношусь к ним совсем не так, как другие господа – грубые и торопливые, не видевшие в них ничего, кроме говорящего предмета. Девушки с удивлением понимали, что они тоже мне интересны, каждая из них рядом со мной впервые чувствовала себя человеком, душа которого – ценность. Более того, каждая чувствовала себя единственной и неповторимой принцессой, способной повелевать, но стремящейся лишь к абсолютному подчинению мне, своему божеству. О нет, я не вводил среди них никакого языческого культа, не придумывал ритуалов поклонения и не предлагал им отрекаться от Христа, но я пробуждал в этих набожных крестьянках чувства, заставляющие их совершенно забывать о Боге, обо всём, чему учили их священники. И они, и я продолжали ходить в церковь и молиться Христу, но на самом деле они молились только мне, а я – только себе.
У моих родителей увлечение сына крестьянками не вызывало никаких вопросов – дело обычное. Они не заметили, что моя душа, заражённая смертельным ядом гордыни, стала душой закоренелого язычника, который претендует не на всеобщую любовь, а на всеобщее поклонение и преклонение. Сам себе я тогда казался добрейшим человеком. Я ни разу ни словом, ни делом не обидел ни одну из своих наложниц, и ни одну из них я ни разу не обманул, никогда не давая обещаний, которые не собирался выполнять. Я был щедрым, одаривая деньгами их отцов, женихов, мужей. Семьи моих наложниц забывали о том, что такое голод и нищета. Их родственники, конечно, обо всём знали, но не подвергали сомнению права "доброго молодого господина". Это было, наверное, самым ужасным.
Вскоре я стал замечать, что девушки менялись до неузнаваемости. Они начинали вести себя высокомерно и презрительно по отношению к родственникам, хотя я никогда не был с ними высокомерен. Они становились мрачными и жестокими со всеми, кроме меня, хотя я всегда был весёлым и жизнерадостным. В них слишком явно стало проявляться то, что во мне скрывалось за внешним блеском. Я всё больше и больше разрушал свою душу, заражая их этим ядом разрушения, но судьбы рушились у них, а не у меня.
Некоторые из них стали наотрез отказываться посещать церковь. Иные замужние стали разговаривать со своими мужьями, как со скотиной. Одна зарезала серпом своего жениха. Меня это печалило, но не заставляло ни о чём задумываться, и я не придавал сколько-нибудь существенного значения странностям своих наложниц, не чувствовал трагедии. Впрочем, в моей душе тоже понемногу накапливались тоска и опустошение.
Однажды, когда я пришёл к одной из своих наложниц, её глаза горели диким радостным перевозбуждением. Я не успел её обнять. Она выхвалила из одежды отточенный обломок серпа и полоснула себе по горлу. Я не двинулся с места. я смотрел на её залитый кровью труп и понимал, что не чувствую ни капли жалости. Тогда в моей душе шевельнулось что-то похожее на понимание правды о себе. Я так же, как и царь Соломон, попросту стал игрушкой в руках дьявола. Я не был "божеством", я был рабом падшего ангела, и он наделял меня единственным, что имел – своей пустотой. Моё сердце совершенно освободилось от тепла, от света, от любви. Мне показалось тогда, что я услышал в своей душе дьявольский смех. И этот смех был моим приговором.
О нет, я не бросился в церковь замаливать свои грехи, даже мысль об этом была для меня нестерпима. Я впал в мрачное, подавленное состояние и совершенно перестал ходить в храм. Своих наложниц я тоже перестал посещать, они меня больше не интересовали. Я не знал, что со мной происходит, не думал об этом. Я вообще ни о чём не думал. Я стал живым воплощением тьмы и холода.
Внешне в моём поведении не многое изменилось: охотился, пировал, смеялся. До того, что я перестал таскаться по крестьянкам никому дела не было. Но то, что я перестал ходить в церковь встревожило моего отца, человека чрезвычайно набожного. Я уклонялся от ответов на его вопросы, отшучивался. Я вовсе не утратил способность шутить. Просто я был мёртвым. Теперь я это знал.
Случилась обычная феодальная ссора. Наш сосед, знатный барон, сжёг 2 наши деревни на границе с его владениями. Отец сказал, что мы должны жестоко наказать беззаконника. Я не возражал. Мёртвые не возражают.
Мы с отцом собрали гораздо больший отряд, чем мог выставить барон. В победе не сомневались. Едва выстроившись в боевые порядки на границе наших владений, мы с удовольствием убедились, что войско барона в два раза меньше нашего. До сих пор не могу понять, что случилось во время боя. Рыцари барона стали одолевать. Когда почти все наши пали, я отбивался один от нескольких рыцарей. К тому времени я уже много раз участвовал в подобных столкновениях и был достаточно опытных воином. Я понимал, что не смогу победить и чувствовал, что мне это безразлично. У меня не было желания ни победить, ни остаться в живых. Я просто дрался – очень грамотно и решительно, без единой мысли и без единого чувства.
Должно быть, я получил удар мечём по шлему. Шлем выдержал, но удар был страшный, я потерял сознание. Очнулся на поле боя, когда уже всё стихло. Первое, о чём я подумал: почему меня бросили здесь, а не взяли в плен, чтобы потом потребовать выкуп? Голова раскалывалась на сто частей, я с трудом встал на ноги. Шлем от удара весь перекорёжило, я еле стащил его, но по прежнему ничего не видел – веки слиплись от засохшей крови. Я стоял, едва держась на ногах, даже не пытаясь открыть глаза. Ничего в этом мире я не хотел видеть. Потом я почувствовал такую невыносимую жару, какой никогда в жизни не знал: "Так вот почему меня не взяли в плен – я убит, я уже в аду, посреди пламени,"– мелькнула вялая мысль. Когда моя душа омертвела, я не сомневался, что буду приговорён к адским мукам, но ни разу мысль об этом не вызвала у меня страха. А сейчас я почувствовал страх и даже больше того – невыносимый смертельный ужас. Всё моё безразличие ко всему на свете, все мои мысли о том, что моя душа мертва, оказывается, ничего не стоили. Моя душа была жива, чтобы вечно мучиться. Теперь мне тем более не хотелось открывать глаза, но от нестерпимого жара по моему лицу струился пот, растворивший засохшую кровь. Глаза невольно открылись.
Я увидел перед собой бескрайнюю песчаную пустыню. Никогда в жизни до этого мне не доводилось видеть пустыни. Это была уже не Фландрия. Как я потом понял, это была Палестина. Солнце пустыни стояло в зените, и это было единственной причиной невыносимой жары. Пламя ада отодвигалось на неопределённое время – это была моя первая мысль. И я почувствовал живую радость, совершенно заслонившую удивление от того, что я оказался чудесно перенесён куда-то в неведомые края. Осмотревшись вокруг себя, я увидел горы трупов. Ближе ко мне лежали мертвецы в странных, экзотических одеждах. Вам хорошо известно, как одеваются сарацины. А мне тогда их одеяние показалось сказочным. Было похоже на то, что именно я убил всех этих экзотических врагов.
Поодаль лежали трупы рыцарей, так же одетых не вполне обычно – они были в белых плащах поверх доспехов, с яркими красными крестами на левом плече. О, как пламенели это кресты! Как огненные херувимы. Тотчас я заметил, что и на мне такой же белоснежный плащ с чудесным красным крестом. На плащах мёртвых рыцарей, так же как и на моём, не было ни капли крови, ни единого пятнышка.
Я был единственным живым на поле битвы. Мёртвых рыцарей насчитывалось что-то около десятка, мёртвых врагов – никак не меньше сотни. Не успел я задуматься о том, что мне делать дальше, как увидел вдалеке, почти на горизонте… нечто.
Я бы сказал вам, что это был замок. Рыцарский замок. Или дворец. Дворец, принадлежащий самому великому императору на свете. Но мои слова не смогут передать того, что я увидел. Замок был величественно-прекрасным и совершенно неземным, это я вполне различал, несмотря на большое расстояние.
Знаете, что я почувствовал тогда? Восторг? Восхищение? Нет, господа. Я почувствовал острый голод. И головная боль в тот момент стала ещё сильнее. Но, кажется, ничто на свете не обрадовало бы меня сильнее, чем голод и головная боль. Это были верные признаки того, что я не только жив, но и не расстался со своим телом – я по-прежнему на земле. Тогда я ещё ничего не слышал о миражах пустыни, а то принял бы замок на горизонте за мираж. Впрочем, вскоре я убедился, что замок был таким же реальным, как и я сам.
Вопроса о том, что мне теперь делать, не возникло. Я пошёл к замку. Дорога оказалось очень долгой и изнурительной. Свой разбитый шлем я бросил, но кольчугу не снимал. Поверх моей кольчуги красовался теперь не весть откуда взявшийся плащ, но это не помешало железу раскалиться на солнце. Так я впервые узнал, что такое переход по пустыне в полуденный зной в раскалённой броне. Со мной не было ни глотка воды, каждая клеточка моего тела изнывала от жажды, головная боль превратилась в неописуемый кошмар, но я знал, что ни на секунду не должен останавливаться. Только что я был в аду и теперь уже не мог с легкомысленной бравадой сказать себе, что мне безразлично попаду ли я туда вновь. О нет, прекрасные братья, те, чья душа хотя бы на несколько мгновений почувствовала на себе дыхание ада, всю свою оставшуюся жизнь будут стремиться лишь к тому, чтобы никогда туда не попасть. Впервые за много времени я вполне осознавал, что моя душа жива. Я был рад испытывать страдания, они-то и доказывали, что я жив. Вы думаете, что ад – это бесконечные страдания? О нет! Ад – это бесконечная пустота. Там ничего нет, даже страданий. Человеческое слово «ужас» совершенно не передаёт того, что чувствует душа в аду. Это больше, чем ужас. Это вечная смерть.
Я не сомневался, что замок, который становился всё ближе и ближе, даст мне надежду на спасение – стоит мне до него добраться, как всё дальнейшее тотчас станет ясно. О небывалом и чудесном перенесении в таинственную землю я вообще тогда не думал. Пока я шёл в замку, этот мир был для меня единственной реальностью. Я не боялся никаких мучений, меня пугала лишь одна мысль – что если я сейчас потеряю сознание, а потом очнусь у себя на родине, на поле бессмысленной битвы?
День уже клонился к вечеру, когда замок постепенно вырос передо мной во всём величии. Жажда, казалось, иссушила каждую клеточку моего тела и болела уже не только голова – я весь превратился в сгусток гудящей боли. Человек, наверное, должен был умереть, испытав даже половину того, что испытал я. Но, сквозь страшную боль разглядывая стены замка, я вдруг почувствовал в моей душе покой. А покой – это дыхание рая.
Стены замка были идеально белыми, каким не может быть даже самый лучший мрамор. И ещё – стены были не из отдельных камней, а совершенно монолитные, без единого стыка, как будто весь замок был высечен из цельного камня невероятных размеров. Но даже не это было самым удивительным. Замок был духовно прекрасен. Описывать его высочайшие стены и множество величественных башен совершенно бесполезно. Их главное очарование заключалось в том, какое действие они оказывали на душу, для того, чтобы это передать, человеческая речь совершенно не подходит.
Казалось бы, человек, прямо из ада попавший на порог рая, должен погибнуть от одной только непереносимости этого контраста. Но мне было очень хорошо тогда у белых стен. Я вступил на мост и заглянул в ров. Там была идеально прозрачная вода – словно жидкий хрусталь. До воды было далеко, а я умирал от жажды. И вот один только взгляд на эту воду совершенно утолил мою жажду. Я не почувствовал вкуса воды, не ощутил, что мой желудок наполнился. Просто жажда исчезла. А боль вернулась в голову, которая по-прежнему обещала лопнуть, только мне до этого не было никакого дела. Стоя на мосту, я посмотрел на большие ворота из невиданного белого металла, отливавшего синевой. Ворота легко и бесшумно распахнулись в тот самый миг, когда я этого захотел. Я вошёл в маленький белокаменный дворик. Здесь всё было очень просто. Никаких украшений, никакой резьбы по камню. В самом центре дворика был фонтан. Струя жидкого хрусталя неизвестно откуда появлялась и неизвестно куда исчезала. Я подошёл к фонтану и, склонив голову, подставил её под струю. Головная боль исчезла так же легко, как может слететь пушинка с ладони от дуновения ветерка. Я почувствовал себя совершенно новым человеком.
Потом открылась небольшая дверь в глубине дворика и я понял, что мне – туда. Я шёл по гулкому пустынному коридору, как будто вернулся к себе домой, ничему больше не удивляясь. Пол был словно дубовый, но только, наверное, из дубов, которые выросли в раю. Стены – того же белого камня. По стенам без копоти и без треска горели факелы, кажется, просто висевшие в воздухе. Их свет не отбрасывал теней и пламя было необычным, ровным, хотя по цвету – таким же, как всегда. Я подошёл к одному из факелов и погрузил руку в пламя. Оно не жгло. Я знал, что так и будет, только хотел проверить. Потом я очень долго шёл по коридору. Впрочем, долго – это не точно. Время вообще исчезло. Я не задумывался о том, куда и к кому я иду, чувствуя, что надо просто идти, ни на что не отвлекаясь. Мне ни сколько не показалось удивительным, что до сих пор я не встретил ни одного человека. Здесь всё дышало присутствием высшей жизни. Наверное, это была сама благодать Божия – незримая, но совершенно очевидная. И она, эта благодать, оживляла меня, гнусного грешника, душа которого, умирая, уже, наверное, начинала смердеть. «За что мне такое незаслуженное счастье?» – в тот момент у меня не было других вопросов.
И вот наконец передо мной открылся обширный тронный зал. Здесь тоже не было никаких украшений – ни позолоты, ни драгоценных камней. Здесь не было необходимости в наших жалких земных попытках изобразить величие при помощи всяких подделок, ярких и убогих. Здесь обитал вечный свет. Не яркий, не ослепительный, а тихий и спокойный. Этот свет ниоткуда не шел. Не было ни факелов, ни свечей, ни камина. До этого зала мне казалось, что белый камень замка источает лёгкое и сдержанное свечение. Здесь всё было ещё торжественнее и чудеснее, словно уже не камень светился, а сам свет стал камнем, ради того, что бы я, человек из плоти, мог здесь находиться.
В этом обширном зале не было ничего, кроме трона из чистейшего света, а на троне – Великая Госпожа. Очень простая в своих удивительных белых одеждах без украшений, без короны, без каких-либо иных символов власти. Ей не нужны были символы, любой, увидевший хотя бы лёгкое движение её руки, исполненное простоты и величия, не усомнился бы, что перед ним Владычица Мира. Я сразу понял, что передо мной Пресвятая Матерь Господа нашего и тотчас упал перед ней на колени. Я не испытывал страха, рядом с ней не может быть страха. Я почувствовал в своём сердце такую любовь к ней… Я не думал, что такая любовь возможна, что она может уместиться в грешном человеческом сердце. А теперь я знаю, что только это и есть любовь, а всё остальное – грубые подделки. Да, мои дорогие братья, земная любовь должна быть неземной, а иначе она не имеет смысла.

