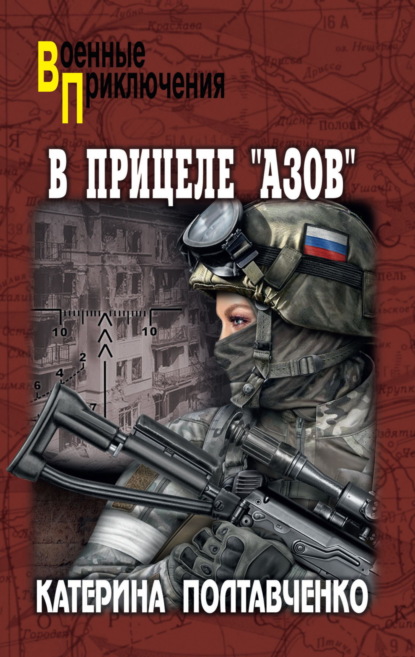
Полная версия:
В прицеле «Азов»
За Донецк Игорь Полёвкин уцепился буквально зубами – этот город стал для него окном в большой мир, выходом из замкнутого круга, по которому ходили его товарищи детства и юности. Тянул одновременно два высших образования – биологию на дневном и журналистику на заочном. Параллельно увлёкся восточной философией, подумывал об аспирантуре, но амбициозным планам помешала война. «Ничего, всё закончится, ещё наверстаю», – решил Игорь, не привыкший отсиживаться в стороне во время важных событий. И пошёл в ополчение санитарным инструктором.
К разведчикам Игоря Полёвкина занесло, в общем-то, неожиданно – добрые люди настойчиво посоветовали. Именно был тот случай, когда за человека, как говорится, судьба решает. «Скоро намечаются большие события, – вполголоса намекнул старший товарищ по службе. – Очень нужны будут люди, хорошо знающие города на той стороне. Ну, и еще умеющие стрелять».
Стрелять Игорь действительно умел. За время службы ему приходилось иметь дело с разными видами оружия, не только в своём «калаше» он мог разобраться на ощупь, во сне, под гипнозом – как угодно. С пулемётом, пистолетом, гранатомётом и даже со снайперской винтовкой он умел обращаться. Знал особенности конструкции и наших, и зарубежных стволов. Просто обожал тактическую стрельбу и практически всё свое свободное время ещё до войны проводил на стрельбище.
«С таким отношением тебе и девушка не требуется», – шутили боевые товарищи. Хотя девушек Игорь Полёвкин любил. Всех практически. Той, что любил бы больше всех, пока не встретилось.
После смерти матери и деда с бабушкой с родным городом Игоря не связывало, в общем-то, ничего. И, как ни странно, именно тогда Мариуполь и стал ему периодически сниться. Не тосковал он, нет. И не скучал особенно. Просто казался диким сам факт: «Как это я не могу приехать в свой город, если захочу? Как это по моему городу гуляют нацисты и творят, что хотят?» Поэтому, услышав, что требуются люди, именно знающие города «на той стороне», Игорь, особо не возражая, прошёл необходимую подготовку и теперь являлся стрелком-разведчиком ДРГ, отправленной в его родной Мариуполь, который от нацистов вскоре предстояло освобождать.
Вторым автоматчиком в группе был Алексей Сотников, позывной «Лис», родом из небольшого посёлка под Волновахой. Маленький, рыжий, остроносый, вечно улыбчивый, он походил даже не на взрослого лиса, а на лисёнка. Или вообще на некое фэнтезийное существо, тем более что службу нёс он, казалось, между делом, в перерывах между чтением фэнтези. Эта кажущаяся несерьёзность могла ввести в заблуждение кого угодно. При выполнении задания рыжий Алекс имел совершенно потрясающую способность даже не сливаться с окружающим пейзажем, а вообще исчезать подобно человеку-невидимке, а потом по объекту прилетала невесть откуда автоматная очередь или что-нибудь более увесистое… Товарищи, шутя, перечисляли его боекомплект: «Шапка-невидимка, сапоги-скороходы, волшебный клубок, дудочка крысолова…»
Последнее, кстати, упоминалось не зря – говорили, что там, где появляется «мелкий Алекс», действительно, выманиваются «крысы». В бою он не жалел никого, из доброго мечтательного парня, как по волшебству, превращаясь в безотказную и жесткую машину для убийства. Его автомат Калашникова в такие минуты со своим владельцем буквально сливался, превращаясь в единое целое – опасное и смертоносное.
Алекс тоже в своё время приехал в Донецк учиться, да так и застрял, из-за войны не смог вернуться обратно, да, собственно, и не захотел. Принял единственно верное для себя решение. В родном посёлке у него оставались мать и двое младших братьев. Иногда он с ними созванивался – ходил после этого грустный. Скучал. Впрочем, надолго впадать в меланхолию не позволял себе – очень скоро на лице его появлялась уже знакомая всем улыбка. Лис – он и был Лис. Долго грустить он не умел, а повод для шуток мог найти, где угодно, или придумать из ничего. За это его любили.
Пулемётчиком и его «вторым номером» в группе были братья-близнецы. Коренные дончане Роман и Иван Погодины – позывные «Дождь» и «Ветер». Как ни парадоксально, именно они, в отличие от всех «понаехавших», как называли шутя товарищей из других городов, до войны не учились в вузе. То есть собирались в будущем в технический, а до этого единогласно решили поработать на заводе, как их отец и дед, приобрести опыт, а потом, возможно, пойти на заочное, совмещая работу с учёбой. Они вообще много чего решали единогласно, с самого раннего детства были как единое существо – их мнения, вкусы и взгляды на жизнь во многом сходились. Бывало, что их путали даже собственные родители, не говоря уже о друзьях и школьных учителях.
Война несколько помешала планам братьев насчёт высшего образования, однако, как они сами считали, всего лишь отложила их на более позднее время. «Зато потом мы там всех за пояс заткнём», – не сомневались братья. Роман управлялся с пулемётом так, что любо-дорого – из двух братьев, кстати, именно он получил среди своих прозвище «пулемётчик» отнюдь не за владение оружием, а за длинный язык, подвешенный, надо сказать, в нужную сторону. Он кого угодно мог убедить в чём угодно, причём так, что человек считал это именно своей идеей и инициативой. Запасные ленты к пулемёту и сменный ствол хранились у более молчаливого Ивана, которого Роман называл «хранитель имущества» или «ростовщик». Патроны у бережливого Вани, казалось, не заканчиваются никогда, но и разбрасываться ими он не позволял – выдавал импульсивному брату, как строгие родители выдают школьникам деньги на завтраки.
Крымчанин Олег Волин, позывной «Альбатрос», был оператором квадрокоптера. Личность в группе, пожалуй, самая загадочная, не считая командира, он, казалось, жил своей отдельной жизнью под названием «полёт», хотя и вёл наблюдение, по сути, с земли, однако через дистанционно пилотируемый летательный аппарат, а значит, и сам в какой-то мере в такие моменты находился не на земле. Но при этом с командой он неизменно составлял единое целое. Спокойный, флегматичный, доброжелательный, но одновременно не выходящий за рамки служебных отношений. В Донбасс приехал в 2014‑м «по зову сердца», как сам объяснил, и больше на эту тему не распространялся – пафоса не любил. Он был постарше остальных – из всей группы второй, кроме Игоря «Философа», с оконченным высшим образованием – техническим, и единственный семейный. На родине, в Симферополе, у него остались жена и маленькая дочь.
Радист Дмитрий Зимин, позывной «Дрозд», как и братья Погодины, был родом из Донецка. Из всех, наверное, именно он больше всего нашёл общий язык с оператором квадрокоптера Олегом. В жизни Димы было две страсти, никак между собой не связанных, – техника и птицы. Дома у него кто только не жил в клетках – дрозды, синицы, канарейки, – причём клетки никогда не закрывались, и если Диминым питомцам хотелось улететь на свободу, он их никоим образом не удерживал. На место улетевших прилетали новые – зимовать или лечить раненое крыло. Он запоминал каждого и всех знал по именам.
Так же трепетно Дима относился ко всевозможным «железкам» – собирал дома то радиоприёмник, то детский игрушечный автомобиль с самодельным мотором, который потом дарил кому-нибудь из племянников. Мать ругалась, грозилась периодически повыбрасывать весь этот склад железа из Димкиной комнаты, но никогда этого не делала.
– Вот, представляешь, – мрачно предвещали боевые товарищи, – приходишь ты домой из армии, а там ничего нет из твоих поделок.
– Нет, – спокойно возражал Димка, – она только грозится. Я в «увал» недавно приходил, смотрю – хранит всё, для каждого винтика своё место отвела, пыль вытирает… Говорит, возвращайся только.
В армию Дима ушёл со второго курса физико-технического факультета в Донецком национальном – мечтал изобретать что-то посолиднее машинок и радиоприёмников. Разумеется, учёбу после войны планировал продолжить.
Ну и, наконец, единственная в разведгруппе дама – снайпер Юлия Дымченко, «Пантера». Пафосный позывной был ею выбран вовсе не из желания «повыпендриваться».
– Не кошкой же мне называться – вроде менее удобно в использовании, – поясняла Юля, хотя именно с этим животным и отождествляла себя с самого детства. Коты были её страстью. Причём в основном чёрные – те, которых не любят суеверные люди. «Меня тоже не любят суеверные люди», – смеясь, поясняла девушка. Не верящая в приметы, не признающая никаких «так положено», не отмечающая религиозных праздников, Юлия, действительно, шокировала многих у себя на родине. А приехала она из патриархальной Полтавщины.
– И что это тебя аж сюда учиться занесло? – с удивлением спрашивали Юльку. – Поближе не нашлось?
– Интересно, – пожимала плечами девушка. – Я до этого в Донецке не бывала, познакомилась с дончанами в туристической поездке, они мне все уши про здешний универ прожужжали. Ну, решила здесь поступать на филолога… русиста.
– Ещё и русиста! – окончательно офигевали собеседники. – У вас же там, на Полтавщине, наверное, все только по-украински говорят.
– Почему же, не только. Это стереотип. У нас очень многие говорят по-русски. И, кстати, русский классик Гоголь, чтоб вы знали, родом из Полтавщины.
– Ну, так ты тоже тут станешь русским классиком, – в шутку предсказывали её знакомые. – Писать ничего не пробовала?
На это Юлька отмалчивалась.
Дома у неё остались родители и серый полосатый котяра Сэм. А коты на улице до сих пор вызывали у взрослой уже барышни совершенно детский восторг.
Война сорвала Юлю из университета буквально после первого курса. Началось с баррикад в областной администрации, куда впечатлительная девушка пошла после трагических событий в Одессе, ну а потом уже, как говорится, «вела судьба».
Разумеется, на родину Юлька давно уже была «невъездная»…
* * *– Вскоре планируется освобождение наших городов, которые в настоящее время находятся под оккупацией украинской националистической власти. Мы должны будем выйти к административным границам областей, и тогда наши республики будут полностью свободны от нацистов. Ваша задача – собрать всю информацию о дислокации «Азова» в Мариуполе – фамилии, адреса, места встреч. Документация, разумеется – базы данных, инструкции какие бы то ни было… ну, мне вас учить не надо. Пройдитесь по всем этим так называемым тренировочным лагерям для подростков, добудьте их планы учебно-боевой работы, выйдите на их «тренеров», инструкторов. Эти личности нам весьма пригодятся… для недолгой, но обстоятельной беседы.
Майор Соболев криво усмехнулся, особо выделяя голосом «так называемым». Начальник отдельного разведбатальона армии ДНР с иронией относился ко всем этим «так называемым» понятиям, которыми определяли молодые республики украинские СМИ. «Они полагают, что, если возьмут нас в кавычки, мы перестанем существовать», – хмыкал убелённый сединами майор. Впрочем, презрение своё он лишний раз не выказывал. «Противника следует уважать, – считал он, – даже если он своими действиями и риторикой уважения к себе не вызывает. Расслабишься, отнесёшься к нему легкомысленно – считай, проиграл».
В этом он был прав – дураками боевики националистических батальонов отнюдь не были. И мотивация у них была, и воевать умели. Ну, а уж явно фашистская суть этой мотивации – это уже другая тема разговора…
– Физическое устранение противника не является вашей целью в данной операции, – продолжал Соболев. – Но если не будет другого выхода – не жалеть никого, спишется на разборки между своими, там их хватает. Ваша главная задача – собрать информацию, ничем не выдав себя. Только одно исключение…
Он на минуту замолчал, окинув взглядом разведгруппу. Ребята затаили дыхание, не сводя с командира внимательных взглядов. Во всех взглядах читался вопрос: «Исключение? Какое там может быть исключение? Кто?»
– По нашим данным, эта личность должна находиться в Мариуполе. Имя он мог сменить, не факт, что не сменил и внешность. Участвовал в террористических акциях в Киеве на Майдане, в Одессе, в Мариуполе 9 мая. Даже среди своих проходил под прозвищем «Поджигатель». Таких мы обычно в плен не берём, но он нам нужен живым. Обязательно живым – он о многом знает. Ваша задача – узнать его нынешнее местонахождение, но так, чтобы он не успел скрыться. И, поморщившись, как от головной боли, майор добавил сквозь зубы: – Если надо, хоть его близкими друзьями становитесь, но уйти от вас он не должен.
Глава 4
Дорога на Мариуполь и события в городе
– Ты где вообще? Откуда звонишь?
– Я в Мариуполе.
– Да ладно! За восемь лет уже и не мечталось, что такое услышу.
– Ещё и не то услышишь…
Частный разговор граждан ДНР, невъездных на УкраинуВ первый день их пути погода с утра была ясной и слегка морозной, а к вечеру набежали тучи и пошёл лёгкий густой снежок.
Разведчики помалкивали, лишь изредка и по делу перебрасывались краткими репликами и не забывали смотреть по сторонам.
В паре километров слева простиралась пустая в этот час дорога. Для рейсовых автобусов, везущих в основном пенсионеров Республики за пенсией – честно заработанными кровными еще во времена СССР, это был неурочный час. Диверсионно-разведывательная группа продвигалась по снежному полю – мешковатые и в меру грязноватые белые маскхалаты практически сливались с окружающим пейзажем. Верное боевое оружие у каждого было наготове. Тут, главное, и не прохлопать ушами в случае чрезвычайной ситуации, и не хвататься за автомат каждый раз, вздрагивая от любого шороха. Типичная ошибка неопытного вояки – однако ребята были тёртыми, и их личное оружие давно уже стало неотъемлемой частью их самих, применяясь исключительно там, где это требуется. Это уже было на уровне рефлекса – всё равно что протянуть руку, чтобы взять нужную вещь, или поднять ногу, чтобы сделать шаг.
Можно было заметить, кстати, из истории каждого члена группы, что это были люди, так или иначе связывающие свою жизнь с высшим образованием, либо уже его получившие. Это вовсе не было случайностью. И представители других военных специальностей не зря в шутку называли разведчиков «академиками». В этой профессии мало было одной сноровки и приобретённых на полигоне навыков – здесь требовался интеллект. Разумеется, каждый из членов группы подчинялся приказам командира, но при этом зачастую сам принимал непростые решения – обратная сторона свободы действий, которую праздные поборники этой самой свободы очень сильно не любят. Ведь отвечать за свои решения в случае неудачи тоже придётся самому. А неудачи в их работе просто быть не должно – слишком дорого обойдётся.
Юля шла чуть в стороне от остальных, рука привычно лежала на воронёной ствольной коробке укороченного «Калашникова». Снайпер в группе и вовсе фигура обособленная – такой себе армейский «фрилансер». Даже переводится это вроде бы понятие из мирной жизни как «вольный стрелок». Когда её так окрестил однажды Игорь «Философ», Юля даже обалдела от неожиданности – настолько чуждым казалось это мирное определение здесь, среди военной действительности. Хотя перевод этого названия свободной деятельности с английского языка она, конечно же, знала. А дело в том, что снайпер по уставу – единственная тактическая единица, которая имеет право в определённых ситуациях самостоятельно ставить себе лично и выполнять боевую задачу. Без участия командира.
Девушка повела глазами чуть вправо, на вырисовывавшийся впереди немного размытый маскхалатом силуэт боевого друга. У него, как и у всех разведчиков, на плечах висел плотно набитый рюкзак. В нескольких шагах от него шёл Алекс «Лис» – второй автоматчик. Оба выглядели так, будто в любую минуту готовы стрелять – да, собственно, так оно и было. Неожиданность могла поджидать на каждом шагу. Юля тоже не стала слишком долго на них засматриваться, хотя в часы отдыха, надо сказать, поглядывала в сторону Игоря довольно часто, и ей самой это не нравилось. Только симпатий ей тут и не хватало! Тем более, совершенно непонятно, как относится к ней сам Игорь. У него каждый раз настроение, как флюгер, – то явно флиртует, то весьма обидно насмешничает, то вообще уходит в себя и хмурится раздражённо – типа, не мешайте все. А иногда – и Юля особенно ценила эти моменты – с ним можно было откровенно поговорить буквально обо всём. Правда, временами такие разговоры прерывались неожиданно и непонятно – он вдруг прерывал девушку резким: «Ну, давай быстрее, не тяни» или «Сто раз говорила уже». Юля тогда снова замыкалась надолго и обещала себе больше с ним не говорить, но, когда он сам к ней с чем-нибудь «подкатывался», не умела долго обижаться.
– Ровно через час выйдем на блокпост, – раздался в наушнике голос Олега «Альбатроса», успевшего уже запустить вперёд свою «птичку». – Расчёт верный.
– Действуем, как условились, – сменил его как всегда ровный, негромкий голос командира. – Всем занять свои позиции. Дима, держать связь.
– Есть!
Над пригородами Мариуполя сгущалась темнота раннего зимнего вечера. Едва заметно трепетал на холодном ветру жёлто-голубой флаг над укреплением блокпоста.
* * *– Стеценко, ты это слышал?
– Шо?
– «Шо-шо»… Как вроде шото скрипнуло где-то рядом. Как кто-то тут совсем близко прошёл.
– Та то уже у тебя «глюки».
– То ты невнимательный – всё стоишь и мечтаешь. Вот смотри, прощёлкаем из-за тебя сепаров каких-нибудь…
– Шо ты трындишь? Нужны мы сепарам! Прямо так толпами тут и ходят. – Вздох. – Я бы и сам на их месте лучше сидел дома и чай пил. А ещё лучше и чего покрепче. Вон, ветрюган какой разыгрался! Оно надо вот это вот всё…
– А шо ж на своём месте не сидел, служить попёрся?
– Того же, шо и ты – грошей обещали.
– Ну, ты… Ты за меня не расписывайся! Я за идею пошёл.
– От только не надо тут строить из себя героя-добровольца! За идею он пошёл… Идея одна – погнали и не смог отвертеться. Шо, скажешь, не так?
Вздох, ещё более длинный и тяжёлый.
– Оно-то, может, и так, та ты б помалкивал… – Пауза. – Однако ж снова какие-то звуки…
– Та то ветер свистит.
– Ну хорош разговаривать – смотри в оба. Потом с нас с тобой спросят.
Ответа не последовало. В этот миг обоим собеседникам показалось, что сухое дерево слева от них заскрипело и будто бы наклонилось. Возможно, и от мороза.
Как можно было понять, часовые на блокпосту на въезде в Мариуполь отнюдь не проявляли большого энтузиазма воевать. Это были не боевики из националистических батальонов, считавшихся на Украине элитой, а простые вояки вэсэушники, заброшенные сюда, вполне вероятно, против собственной воли. Обычная в эти годы практика – призвали, заверили, что служить будет где-нибудь недалеко от дома, потом куда-то повезли, везли долго… Ну, а потом – здравствуй, Донбасс, край «немытых шахтёров и страшных сепаратистов».
Это о таких персонажах в украинских новостях беспокоились их заботливые мамаши: «Дайте нашим сыновьям новые бронежилеты – как же наши мальчики будут воевать?» Беспокоились, надо сказать, не без оснований, если оставить за скобками тот факт, что воевать «мальчики» должны с собственными же согражданами, и это обстоятельство ровным счётом никого не волновало. Но – то такое…
Ещё в начале 2014 года – собственно, до начала боевых действий в Донбассе, в украинской армии вместо «дубка», обнаружившего множество недостатков, появился пиксельный камуфляж ММ14, обеспечивающий, в общем, неплохую маскировку в условиях украинских степей и пейзажей с выгоревшей травой. Форму называли «гелетейка» по фамилии тогдашнего министра обороны. Вроде бы она была и всем хороша, однако украинцы во многом скопировали её с формы норвежской GARM от компании NFM. Скопировали довольно бездумно, не глядя, добавляя и много ненужных карманчиков и лишних деталей. К тому же ткань формы легко горела, что в условиях боевых действий было, мягко говоря, неуместным.
Правда, в 2017 году Вооружённые силы Украины получили новую форму, разработкой которой занимался специалист в этой области Константин Лесник. В ней уже было много реальных улучшений. Из главных достоинств кителя – сквозные нагрудные карманы, которыми удобно пользоваться даже с бронежилетом, высокий воротник, много элементов на липучках, вот только сам китель почему-то на молнии.
Что касается пресловутых бронежилетов, которых в 2014 году, действительно, катастрофически не хватало в украинской армии, то со временем их поставки в войска усилились. Во многом оснащение средствами индивидуальной бронезащиты осуществлялось за счёт поставок помощи из стран НАТО и волонтёрской помощи. Впоследствии к вопросу приобретения бронежилетов активно подключилось и Министерство обороны Украины. Самым массовым индивидуальным средством защиты в ВСУ стал бронежилет украинской разработки «Корсар М3», в которые и были сейчас облачены доблестные защитники украинского города Мариуполя, несущие службу на блокпосту.
Что же касается стрелкового вооружения украинских солдат, то здесь дела обстояли не очень радужно. Конечно, не то чтобы упомянутые вояки имели в данный момент один автомат на двоих, но фактически на вооружении «доблестных украинских героев» стояло всё стрелковое оружие, что смогли выгрести со складов длительного хранения, то есть, по сути, музейные экспонаты, которым давно уже следовало бы отправляться на пенсию. И на линии соприкосновения, и в тыловых частях, помимо прочего оружия, доставшегося по наследству от Советского Союза, на вооружении ВСУ до сих пор применялись такие почётные «старички», как, например, пулемёты «максим» образца 1900 года и крупнокалиберный ДШК образца 1937/44 годов. Это, конечно же, не лучшим образом говорит о состоянии дел с вооружением украинской армии.
Всевозможные попытки приблизиться к стандартам НАТО по стрелковому оружию потерпели крах по тривиальной причине – недостатка у Украины «грошей» для столь масштабного перевооружения армии. Не без того, что некоторые украинские чиновники продолжают вещать что-то на эту тему, но всё это продолжает относиться к разряду «хотелок». Правда, справедливости ради надо отметить, что наиболее массовым иностранным оружием, представленным в украинской армии, является автомат «Форт-221», собирающийся на Украине по израильской лицензии, – тот же «Тавор», но только под советский патрон, однако в войсках его можно увидеть разве что на парадах, поскольку количество единиц, находящихся в ВСУ, не превышает несколько сотен.
Но в данном случае украинские солдаты находились отнюдь не на параде, а в чистом поле, на блокпосту, обдуваемом всеми ветрами. И вооружены они были не суперсовременными поставками иностранных партнёров, о которых так много и красиво говорили по телевизору, а обычными «Калашами». Ещё у каждого имелась плохонькая рация, поддерживающая связь со сплошными помехами. Каждый, впрочем, не очень-то и жаждал общаться с высшим военным начальством и в случае чего рассчитывал ссылаться именно на ту самую плохую связь.
И, разумеется, каждый из них от души надеялся, что никаких исключительных ситуаций за время их дежурства не возникнет…
* * *Тяжесть «броника» уже практически не ощущалась, Юля только вспоминала иногда, как в начале службы ей казалось, будто он пригибает её к земле, замедляет движения, делает тяжелее сразу килограмм на сто. Да и то эти воспоминания приходили всё реже. Человек привыкает ко всему – даже к некомфортным условиям и отнюдь не радужной действительности вокруг. А в особых случаях, когда у человека всё в порядке с силой воли, даже воспринимает эту действительность с юмором.
Юля считала, что у неё силы воли нет. Она не умела воспринимать с юмором то, над чем смеяться вовсе не хотелось. Но и ныть не любила – во всяком случае, старалась не ныть. Поэтому всё больше уходила в себя, не любила лишних разговоров – по сути, потихоньку отвыкала от них вообще. Теперь уже даже и не представляла вовсе, о чём ей говорить при встрече с гражданскими – как вести беседу, какие вообще бывают темы для неё. Обсуждать в сотый раз, как всё плохо? А смысл? Нет, если от этого жизнь станет лучше, и война закончится, она готова болтать часами. Но ведь не станет, и не закончится.
Так потихоньку терялись, уходили навыки обычной жизни, и Юля не хотела думать о том, что будет, если они потом не вернутся. Потом будет потом. А пока – делай, что должно, и будь что будет.
Военная форма воспринималась уже как вторая кожа, и Юля тоже смутно представляла себе то время, когда, как в песне Высоцкого, «сменит шинель на платьице». Она и в мирной жизни не очень-то любила платьица, предпочитала «моду унисекс»: джинсы и кроссовки. А теперь, честно признаться, её вполне устраивало, что не надо было заморачиваться, что надевать каждый день. Жизни гражданских сейчас, скажем прямо, не позавидуешь – надо жить, как обычно, и выполнять те же обязанности, что и в мирное время, только всё это сильно затрудняют военные условия. Чем хороша армия – здесь обо всём подумали за тебя люди более умные и компетентные. В том числе и что тебе носить.
Да и «броник» на самом-то деле был вовсе не стокилограммовый, как казалось поначалу хрупкой девочке Юле, пришедшей служить в армию. Конечно, увеличивал массу. Конечно, стеснял движения, да и то поначалу – от неопытности и неумения использовать его. Теперь же без бронежилета и «разгрузки» девушка чувствовала себя раздетой. Даже не на задании, а просто в каких-либо двусмысленных ситуациях рука сама собой тянулась к нужному кармашку или подсумку. И если кармашка не находила, это на мгновение вводило Юлю в ступор.

