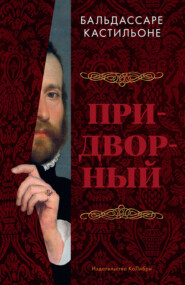скачать книгу бесплатно
– Согласен, что и одно, и другое – искусное подражание природе; но не понимаю, как вы можете говорить, что мраморная или бронзовая фигура, у которой все члены имеют объем, форму и соразмерность такими, как создает их природа, подражает природе слабее, чем картина, где видна лишь плоскость и положенные на ней краски, обманывающие зрение. Ведь не скажете же вы, будто то, что кажется, ближе к правде, чем то, что есть. К тому же я полагаю, что работа с мрамором труднее, потому что, если в ней допустишь хоть одну ошибку, исправить ее невозможно, ибо на мрамор не поставишь заплату: приходится делать всю фигуру заново. С картиной не так; ее можно хоть тысячу раз изменять и, что-то прибавляя, что-то убавляя, делать лучше и лучше.
LI
Граф с улыбкой ответил на это:
– Я говорю не в угоду Рафаэлю; и не надо выставлять меня невеждой, которому неизвестно, какого совершенства достигли Микеланджело, вы, другие мастера в искусстве ваяния; но я говорю именно об искусстве, а не о мастерах. И верно вы говорите, что и одно, и другое искусство суть подражания природе; но дело обстоит не так, будто живопись «кажется», а скульптура «есть». Ибо, хотя статуи все объемны, как живая плоть, а живопись обычно делается на плоскости, статуе недостает много из присущего живописи, а особенно света и тени, ибо одним образом свет играет на человеческом теле, а другим – на мраморе; и живописец передает это, следуя естеству, с помощью света и тени, увеличивая их или уменьшая по необходимости, чего не может сделать ваятель. И пусть художник не может сделать фигуру объемной, зато он изображает мышцы и члены тела словно имеющими объем, так чтобы они намекали на те части тела, которые не видны, из чего прекрасно понятно, что художник и их знает и берет в расчет. Вдобавок требуется еще большее мастерство в том, чтобы изображать части тела, укорачивая или уменьшая их пропорционально к видимому, в соответствии с законами перспективы, которая соразмерением линий, цветом, светом и тенью на плоскости прямой стены представляет вам расположенное на ближнем и дальнем плане, увеличивая или уменьшая, сообразно своим требованиям. Или вы считаете мелочью подражание естественным краскам в передаче тел, тканей и всего остального, имеющего цвет? Ваятель этого сделать не в состоянии, как и выразить прелестный взор черных или голубых глаз вместе с блеском тех самых «лучей любовных»[156 - Raggio amoroso. Образ, повторяющийся неоднократно в итальянской поэзии XIII–XIV вв., но в разном значении. У Данте (канцона XX) «любовный луч» озаряет весь облик возлюбленной, когда в ней возгорается ответное чувство к любящему, а Петрарка (Канцоньере. Сонет 245) говорит о «блистающем и любовном луче» взгляда улыбающейся Лауры.]. Он не может передать ни цвет золотистых волос, ни блеск доспехов, ни темную ночь, ни бурю на море, ни вспышки и стрелы молний, ни горящий город, ни пробуждение розовой зари с ее золотыми и пурпурными лучами. Скульптор бессилен изобразить небо, море, землю, горы, леса, луга, сады, реки, города и здания, зато все это доступно живописцу.
LII
Поэтому я считаю живопись искусством более благородным и обладающим бо?льшими возможностями, чем ваяние, и думаю, что в древности она достигала высшего совершенства, как и другие вещи, что можно понять по тем малым остаткам, что сохранились прежде всего в катакомбах Рима; но гораздо яснее можно представить это по сочинениям древних, где часто и с большим уважением упоминаются многие творения искусства и их авторы, из чего можно понять, как они были почитаемы великими государями и государствами.
Так, мы читаем, что Александр чрезвычайно ценил Апеллеса Эфесского – вплоть до того, что, повелев Апеллесу изобразить нагой одну весьма дорогую ему женщину и услышав, что по причине ее изумительной красоты славный художник горячо в нее влюбился, царь без колебания уступил ее ему[157 - Плиний Старший. Естественная история. XXXV, 36.]. Щедрость, поистине достойная Александра: дарить не только сокровища и звания, но жертвовать собственными желаниями и чувствами; и знак величайшей любви к художнику: царь, чтобы сделать ему приятное, не побоялся огорчить женщину, к которой был весьма привязан. Нетрудно ведь догадаться, что она была очень опечалена, сменив столь великого царя на живописца. Рассказывают и о многих других знаках благоволения Александра к Апеллесу; но он вполне ясно показал, насколько его почитает, публичным указом постановив, чтобы ни один художник, кроме Апеллеса, не дерзал изображать его.
Здесь же я мог бы сказать и о состязаниях между многими знаменитыми художниками при великом одобрении и удивлении почти всего света; и о том, с какой пышностью древние императоры украшали живописными картинами свои триумфы, как выставляли их в публичных местах, сколь большие средства тратили на их покупку и что находились даже художники, которые дарили свои творения, считая, что их не оплатить никаким золотом и серебром[158 - Такие истории рассказывает, в частности, тот же Плиний о прославленном Зевксисе (см. примеч. 154) и об афинском живописце Никии (Указ. соч. XXXV, 9 и 11).]. Поведать, сколь высоко ценилась одна из картин Протогена, если Деметрий, когда осаждал Родос и имел возможность войти в город, запалив его с того края, где, как ему было известно, находилась картина, отказался от боя, чтобы не сжечь ее, и города не взял[159 - Об Апеллесе и Протогене см. примеч. 69. Деметрий, по прозвищу Полиоркет (т. е. Осаждатель городов; 336–283 гг. до н. э.) – македонский полководец, а в 294–285 гг. до н. э. царь. Этот эпизод рассказывается у Плиния Старшего (Естественная история. VII, 38) и, подробнее, у Плутарха (Деметрий. 22). После покорения Греции римлянами картина была увезена в Рим и погибла в пожаре города при Нероне.]. И как Метродора, философа и превосходного художника, афиняне послали к Луцию Павлу, чтобы обучать живописи его детей и украсить предстоявший ему триумф[160 - Плиний. Указ. соч. XXXV, 40. Луций Эмилий Павел Македонский (229–160 гг. до н. э.) – римский политик и военачальник, под водительством которого Рим завершил завоевание Греции в ходе Третьей Македонской войны (171–168 гг. до н. э.). О Метродоре-художнике все древние источники, кроме Плиния, молчат, тогда как философ Метродор, современный этим событиям, упоминается у других авторов. Оба приведенных графом примера повторяют Леон Баттиста Альберти во «Второй книге о живописи» и Джорджо Вазари во вступлении к своим «Жизнеописаниям наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих».]. И то, что многие знаменитые авторы писали об этом искусстве, вполне свидетельствует, в каком оно было почете; но не хочу сейчас продолжать это рассуждение. Скажу лишь, что нашему придворному следует иметь познания и в живописи, поскольку она – искусство почетное и полезное и высоко ценилась в те времена, когда люди имели намного бо?льшую доблесть, чем теперь. И пусть он даже не извлечет из этого другой пользы или удовольствия, кроме того, что научится судить о древних и новых статуях, сосудах, зданиях, медалях, камеях, интальях и тому подобном, – но ведь живопись учит понимать и красоту живых тел, не только в миловидности лиц, но и в пропорциональности всего остального, как у людей, так и у любых других существ.
Итак, вы видите, что знание живописи – источник величайшего удовольствия. Пусть подумают над этим люди, которые так наслаждаются созерцанием красоты женщины, что им кажется, будто они в раю, но рисовать они при этом не умеют: ведь если бы они умели, то и удовольствие бы получали намного большее, имея более совершенное знание о красоте, рождающей у них в сердце такое наслаждение.
LIII
Мессер Чезаре Гонзага со смехом сказал на это:
– Я вовсе не художник, но точно знаю о себе, что с куда бо?льшим наслаждением смотрю на иную женщину, чем этот упомянутый вами великий Апеллес, будь он сейчас жив.
– Это ваше наслаждение, – отвечал граф, – происходит не целиком от красоты, но и от любовного чувства, которое вы, возможно, питаете к этой женщине. И, будем правдивы, когда вы впервые смотрели на эту женщину, вы не чувствовали и тысячной доли того наслаждения, которое обрели потом, хоть красота осталась той же, что и была. Из чего вы можете судить, насколько бо?льшая доля в вашем наслаждении принадлежит любовному чувству, нежели красоте.
– Не стану этого отрицать, – сказал мессер Гонзага, – но как наслаждение рождается от любовного чувства, так любовное чувство рождается от красоты; так что можно назвать красоту причиной наслаждения.
Граф ответил:
– Не только красота, но и многое другое подчас воспламеняет нам душу: например, повадка, образованность, речь, жесты и тысяча других вещей, которые в каком-то смысле также можно считать красотами; но прежде всего чувство, что мы – любимы; так что можно даже помимо той красоты, о которой говорите вы, любить весьма горячо; но любовь, рождающаяся от одной лишь наружной красоты тела, вне всякого сомнения, подарит гораздо больше наслаждения тому, кто больше ее понимает, нежели тому, кто понимает меньше. И, возвращаясь к тому, что вы сказали, думаю, что Апеллес намного сильнее наслаждался, созерцая красоту Кампаспы, чем Александр. Ибо естественно думать, что любовь и того и другого проистекала только из этой красоты и что поэтому Александр и решил подарить ее тому, кто, как ему казалось, способен более совершенным образом ее постичь. Разве вы не читали, что те пять девушек, которых выбрал Зевксис из числа жительниц Кротона, чтобы, беря нечто от каждой, составить образ совершеннейшей красоты, были прославлены многими поэтами как избранные за их красоту именно тем человеком, которому и подобало быть ее совершеннейшим ценителем?[161 - Зевксис (работал в 420–380-х гг. до н. э.) – один из известнейших греческих живописцев, родом из Гераклеи Луканской. Речь идет о его картине, изображающей Елену Прекрасную (Цицерон. О нахождении материала. II, 1, 1–2). Плиний Старший (Указ. соч. XXXV, 36, 60) считает, что эту картину художник писал для Агригента. Кротона – греческий город в Калабрии (Италия), а Агригент – на Сицилии.]
LIV
Тут снова заговорил мессер Чезаре, всем видом показывая, что недоволен и никоим образом не согласен с тем, что кто-либо другой как-либо может чувствовать то же наслаждение, какое чувствует он при взгляде на красоту женщины. Но в это время послышался стук шагов и звуки громкой речи. Все, разом повернувшись в сторону дверей, увидели, как в их проеме сначала появились отсветы факелов, и тут же в сопровождении большой и блистательной свиты вошел синьор префект[162 - Франческо Мария делла Ровере, племянник и в будущем преемник власти герцога Гвидобальдо. От отца унаследовал звание префекта города Рима при папе Юлии II.], который возвратился, проводив папу до какой-то части пути. Еще при входе во дворец он, спросив, что делает синьора герцогиня, услышал в ответ, какого рода назначена сегодня игра, и что на графа Лудовико возложена обязанность говорить о придворном искусстве; поэтому он, сколь возможно, ускорял шаг, желая успеть хоть что-то услышать.
Итак, почтительно поклонившись синьоре герцогине и дав знак садиться всем, поднявшимся с мест, когда он вошел, синьор префект и сам уселся в круг, вместе с некоторыми из сопровождавших его благородных мужей. Среди них были: маркиз Фебус да Чева со своим братом Герардино[163 - Фебус и Герардино (Джилардо) да Чева – кондотьеры-наемники из Пьемонта, в Итальянских войнах сражавшиеся то на стороне французского короля, то на стороне Империи; не меньше, чем беспринципностью, были известны жестокостью и склонностью к грабежу. Герардино покончил жизнь самоубийством, чтобы избежать казни за убийство родственника.], мессер Этторе Романо[164 - Этторе Романо, т. е. римлянин. Об этом персонаже нет точных сведений. Некоторые комментаторы без надежных оснований отождествляют его с Этторе Фьерамоска, рыцарем из Капуи, участником так называемого вызова при Барлетте (1503) – боя между тринадцатью французскими и тринадцатью итальянскими (на стороне испанской короны) рыцарями, окончившегося победой последних. Эта стычка, занимая очень скромное место в ходе франко-испанской войны за Неаполитанское королевство, в Италии вызвала тем не менее большой энтузиазм, так как поколебала распространенное в Европе мнение о невысоких боевых качествах итальянцев.], Винченцо Кальмета[165 - Винченцо Колли, по прозванию Кальмета (псевдоним, заимствованный из романа Боккаччо «Филоколо»; ок. 1460–1508) – поэт и литературный критик, выполнявший секретарские и иные обязанности при дворах крупных итальянских магнатов (Лодовико Моро, Чезаре Борджиа и др.). Служил при дворе герцогов Урбино с 1503 г.], Орацио Флоридо[166 - Орацио Флоридо, в описанную пору канцлер при герцоге Гвидобальдо, позднее был секретарем его преемника Франческо Мария делла Ровере. Взятый в плен во время войны Франческо Мария с Лоренцо II Медичи (1517), был отослан в Рим к папе Льву Х, где его, с целью выведать политические секреты урбинского двора, подвергли жестоким пыткам, но он остался верен своему государю.] и многие другие. При общем молчании синьор префект сказал:
– Господа, мой приход был бы слишком некстати, если бы я помешал столь прекрасным беседам, которые, как понимаю, сейчас велись между вами. Поэтому не обижайте меня, лишая себя самих и меня удовольствия.
Граф Лудовико ответил:
– Напротив, государь мой, я думаю, что умолкнуть будет для всех желаннее, нежели продолжать разговор. Поскольку сегодня этого труда мне досталось больше, чем другим, я уже утомился говорить, а другие, вероятно, устали слушать; ибо речь моя недостойна этого собрания и не соответствует величию порученной мне темы, в разборе которой я и сам не доволен собой, а другие, полагаю, довольны еще меньше. Так что вам, государь, повезло, что вы пришли к концу. А справиться с тем, что осталось, хорошо бы поручить кому-то другому, который займет мое место: кто угодно сделает это лучше меня, если я – при всем моем желании – буду продолжать в такой усталости.
LV
– Нет-нет, я не потерплю, чтобы вы как-либо уклонились от данного вами обещания, – отозвался Джулиано Маньифико. – Уверен, что и синьор префект не пожалеет, услышав продолжение разговора.
– Что еще зa обещание? – удивился граф.
– Вы же обещали разъяснить, каким образом должен придворный использовать те добрые качества, которые, по вашим словам, ему подобают.
Синьор префект, будучи, при всей своей молодости, более осведомленным и рассудительным, чем казалось обычным для юных лет, в каждом своем движении являл, вместе с величием духа, некую живость ума – верное предзнаменование той высокой степени доблести, которой ему предстояло достигнуть[167 - Франческо Мария в 1506 г. было шестнадцать лет. Его юношеский облик, запечатленный Рафаэлем на картине «Молодой человек с яблоком» (1505, Уффици), возможно, намеренно несколько приближен к внешности его бездетного дяди Гвидобальдо (известной по портрету того же Рафаэля), которому юноша был должен наследовать по праву усыновления.]. Он тут же сказал:
– Если об этом еще осталось сказать, то я, кажется, пришел как раз вовремя. Слыша, каким образом придворный должен применять эти добрые качества, я пойму и то, в чем они заключаются, а от этого узнаю обо всем, что говорилось вплоть до сего момента. Так что, граф, не отказывайтесь от уплаты долга, часть которого вы уже погасили.
– Мне не пришлось бы платить столько, будь наши труды распределены более равномерно. Но напрасно было давать такую власть одной слишком пристрастной синьоре, – ответил граф, с улыбкой переводя взгляд на синьору Эмилию, которая тут же отозвалась:
– Не вам бы жаловаться на мою пристрастность. Но поскольку вы безосновательно это делаете, передадим другому долю той чести, которую вы почитаете за труд. – И она сказала, обращаясь к мессеру Федерико Фрегозо: – Вы предложили игру о придворном. Значит, будет разумно, чтобы вам досталась та ее часть, где и будет дан ответ на вопрос синьора Маньифико и разъяснено, каким образом, в какой манере, в какое время должен придворный применять свои добрые качества и те умения, какими, по словам графа, ему следует обладать.
– Синьора, – начал мессер Федерико, – отделяя способ, время и манеру от самих добрых качеств и добрых деяний придворного, вы разделяете неразделимое. Ибо все упомянутое и делает добрыми качества и деяния. И поскольку граф, говоривший так много и так хорошо, сказал кое-что и об этих обстоятельствах, держа в уме заготовленным и остальное, что должен был сказать, правильно было бы ему и довести речь до конца.
Синьора Эмилия ответила:
– Вот и вообразите, что вы – граф. И скажите то, что, как вы думаете, сказал бы он. И тогда все будут довольны.
LVI
Тут заговорил Кальмета:
– Господа! Уже поздно; чтобы мессер Федерико не имел повода уклониться от изложения того, что он знает, думаю, лучше перенести остаток разговора на завтра; а то малое время, что у нас осталось, потратить на какое-нибудь простое развлечение.
Все согласились; и синьора герцогиня пожелала, чтобы мадонна Маргарита[168 - Маргарита (1487–1537), внебрачная дочь маркиза Мантуи Франческо Гонзага, брата герцогини Элизабетты, выросла в Урбино, получив замечательное образование заботами тетки. Слыла подлинным украшением урбинского двора. Получила ряд блестящих предложений, но по разным причинам ни одно из них не завершилось браком. В 1513 г. поступила в монастырь ордена кларисс, где осталась до смерти.] и мадонна Костанца Фрегозо станцевали. Тут же Барлетта[169 - Барлетта – музыкант и танцор, о котором будет еще раз кратко упомянуто во II книге (гл. 11). Больше о нем ничего не известно. Прозвище может указывать на происхождение из г. Барлетта в Апулии.], замечательный музыкант и превосходный танцор, всегда державший двор в праздничном настроении, заиграл на своих инструментах, а они обе, взявшись за руку, сначала прошлись в бассе, а затем с величайшим изяществом исполнили «руэргский»[170 - Басса, bassa danza – род танцев, которые исполняли, почти не поднимая ног над полом. Сопровождались музыкой инструментов низкого регистра.Руэргский – в ориг. слово «roegarze», больше нигде не встречающееся. Жак Колен, первый французский переводчик «Придворного», в издании 1537 г. передал его как rouergoise – «руэргский». Руэрг – древнее графство на юге Франции, в Окситании, традиционно имевшей интенсивные культурные связи с севером Италии. Речь, вероятно, идет о каком-то оживленном танце, последовавшем за медленной и степенной бассой.], доставив редкостное удовольствие зрителям. Затем, поскольку добрая часть ночи уже миновала, синьора герцогиня поднялась с места; также и все, почтительно попрощавшись с нею, отправились почивать.
Вторая книга
о придворном графа Бальдассаре Кастильоне к мессеру Альфонсо Ариосто
I
Я не без удивления многократно размышлял о том, откуда возникает заблуждение, которое, поскольку оно обычно наблюдается в стариках, можно считать их естественным свойством: почти все они расхваливают прошлые времена и порочат нынешние, браня наши нынешние поступки и обычаи и все, чего в своей молодости не делали они, зато утверждая, что всякий добрый обычай, всякий добрый образ жизни, всякая добродетель и вообще все на свете непрестанно ухудшается. И кажется прямо-таки противным разуму и достойным удивления, что зрелый возраст, который обычно, в силу долгого опыта, делает рассуждение людей более совершенным, в этом именно вопросе его настолько портит, что они не понимают одного: если бы мир постоянно только ухудшался и отцы вообще были лучше детей, мы еще задолго до нынешних времен достигли бы такой степени зла, что ему уже некуда было бы ухудшаться дальше. Однако видим, что не только в наши дни, но и в прошлом всегда существовал этот порок, свойственный пожилому возрасту, как явствует из сочинений многих древнейших писателей, а особенно комиков, которые полнее, чем другие, представляют картину человеческой жизни. И я считаю, что причина этого ложного мнения у стариков в том, что годы, уходя, уносят с собой многие удобства[171 - Перевод буквальный, в оригинале: сomodit?. Аллюзия на слова Горация (О поэтическом искусстве. 175–176): «Много с собою удобств лета, прибывая, приносят, / Много уносят, начав убывать» (пер. А. Фета).] и среди другого исторгают из крови бо?льшую часть животных пневм[172 - П????? – буквально: душа, дыхание, в христианском употреблении – дух, в т. ч. Божий (греч.). В лат. переводе: spiritus; Кастильоне использует соответствующее итальянское слово: spirto. Термин древнегреческих философов и физиологов, в разных школах имеющий различное содержание. Европейское Средневековье предпочитало следовать в его физиологическом применении или Аристотелю, или Галену, чья пневматическая теория психической деятельности существенно отличается от аристотелевской. Похоже, что Кастильоне в использовании этого термина опирается прежде всего на Гиппократа, для которого (как и для его предшественника Анаксимена) пневма – это жизненная сила, связанная с кровью, и на Галена, которому принадлежит сам термин «животная пневма».], отчего телесный состав изменяется и ослабевают те органы, посредством которых душа осуществляет свои добродетели. Поэтому с наших сердец поздней порой, как осенью листья с деревьев, опадают нежные цветы радости, а вместо светлых и ясных мыслей приходит мрачная и смутная печаль в сопровождении тысячи бед, так что не только тело, но и дух становится немощен; и он хранит лишь упрямую память о былых отрадах и образ того милого времени юности, когда, кажется, и земля, и небо, и все, что ни есть перед нашими очами, ликует и смеется, когда в нашей мысли, как в прелестном и восхитительном саду, цветет сладостная весна веселья. И может быть, полезно было бы, когда солнце нашей жизни входит в эту зиму, обнажая нас от прежних удовольствий, по пути к закату терять вместе с ними и воспоминания о них, обретая, по словам Фемистокла, искусство забвения[173 - Ср.: Цицерон. Об ораторе. II, 74: «Однажды, говорят, к нему явился какой-то ученый… и предложил научить его искусству памяти, которое тогда было еще внове. Фемистокл спросил, что же может сделать эта наука, и ученый ему ответил – все помнить. И тогда Фемистокл сказал, что ему приятно было бы научиться не искусству помнить, а искусству забывать то, что захочется» (пер. Ф. Петровского).]; ибо чувства нашего тела так обманчивы, что зачастую обманывают и суждение ума.
И представляется мне, что старики находятся в положении тех, кто, выплывая из гавани, неотрывно смотрит на берег, и им мерещится, будто корабль стоит на месте, а берег движется, тогда как все происходит наоборот. Ибо гавань, как и время со всеми его радостями, остается в своем положении, но мы на корабле смертности один за другим уходим в бурное море, поглощающее и сокрушающее все, и не дано нам снова сойти на землю, но, испытывая удары противных ветров, мы в конце концов разобьем корабль об одну из встречных скал. Таким образом, старческий дух, потеряв способность ко многим удовольствиям, не может ими наслаждаться. И как страждущим от лихорадки, когда от испорченных паров их вкус бывает нарушен, даже самые дорогие и нежные вина кажутся горькими, так старикам из-за их бессилия – при котором сохраняется, впрочем, желание – удовольствия кажутся пресными, постылыми и уже совершенно не теми, которые они помнят по опыту, хоть удовольствия – все те же. Но, чувствуя себя лишенными их, старики скорбят и порочат настоящее время как злое, не понимая, что перемена происходит сама по себе, а не от хода времени. Напротив, памятуя о минувших удовольствиях, они вспоминают и то время, когда их имели, и за это хвалят его как доброе, ибо им кажется, будто оно несет в себе аромат того, что чувствовали мы, когда оно было настоящим; ибо в самом деле наши души ненавидят все, что сопутствовало нашим неприятностям, и любят все, что сопутствовало удовольствиям.
Бывает, влюбленному дорого иной раз взглянуть на окно, хоть закрытое, потому что в нем он некогда имел счастье видеть свою любимую; видеть перстень, письмо, сад, или другое место, или что угодно, что представляется ему живым свидетелем, хранящим память о его радостях; и напротив, иногда изукрашенный чертог становится немилым тому, кто был заключен в нем как в тюрьме или испытал какое-то другое огорчение. И знаю иных, которые ни за что не станут пить из сосуда, подобного тому, в котором они во время болезни принимали нечто лекарственное. Как то окно, или кольцо, или письмо сообщает одному приятное воспоминание, столь услаждающее его, что само кажется частью пережитых им радостей, так другому комната или сосуд кажутся несущими в себе, вместе с воспоминаниями, болезнь или заточение. Та же самая причина, как полагаю, побуждает стариков восхвалять минувшее время и порочить настоящее.
II
И как обо всем, так говорят они и о дворах государей, утверждая, что те дворы, о которых они помнят, были намного более блестящими и полными примечательных людей, совсем не так, как сегодняшние. И, как заходит подобный разговор, пускаются превозносить похвалами придворных герцога Филиппо[174 - Филиппо Мария Висконти (1392–1447) – герцог Миланский; как и другие представители династии Висконти, отличался болезненной подозрительностью и жестокостью.] или герцога Борсо[175 - Борсо д’Эсте (1413–1471) – первый герцог Феррары из династии Эсте.], пересказывают какие-нибудь слова Никколо Пиччинино[176 - Никколо Пиччинино (1386–1444) – известный кондотьер-наемник, участник едва ли не всех междоусобных войн в Италии своего времени.], вспоминая, будто в те времена не было и слуху об убийствах, разве что в редчайших случаях, что не было ни стычек, ни засад, ни обманов, а лишь некая доверительная и радушная благость, надежная безопасность; будто при дворах царили такие добрые обычаи, такая честность, что придворные были точно не придворные, а сущие монахи; и что, мол, горе бывало тому, кто скажет худое слово другому или сделает малоприличный жест женщине. Напротив, в нынешнее время, говорят они, все совершенно противоположно; и не только среди придворных утрачены те братская любовь и благопристойный образ жизни, но при дворе безраздельно господствуют лишь зависть и зложелательство, дурные нравы и распущенная, полная всякого рода пороков жизнь; женщины похотливы и забывают всякий стыд, мужчины женоподобны. Бранят и одежду как бесстыдную и слишком изнеживающую. Одним словом, порицают бесчисленное множество вещей, из которых многие действительно заслуживают порицания, ибо приходится признать, что в нашей среде много людей злых и преступных и что наше время изобилует пороками намного больше, чем то, которое они хвалят.
Но при этом, сдается мне, они плохо понимают причину этих различий и неразумны в своем желании, чтобы в мире наличествовали все блага без малейшего зла. Это невозможно; ибо если зло противоположно добру, а добро – злу, то в силу самой этой противоположности и в качестве некоего противовеса как бы необходимо одному удерживать и подкреплять другое. Когда же исчезает или возрастает одно, с ним исчезает или возрастает и другое, ибо ни одно из противоположных не бывает без того, что ему противоположно.
Разве кому-то неведомо, что в мире не было бы правосудия, если бы не существовало преступлений? Не было бы великодушия, если бы не было малодушных? Здоровья – если бы не было недуга? Истины – если бы не было обманов? Счастья – если бы не было несчастий? Поэтому хорошо говорит Сократ у Платона: удивительно, что Эзоп не сочинил басню, в которой бы изобразил, что Бог, не сумев соединить приятное и мучительное вместе, соединил их краями, так что начало одного стало концом другого[177 - Платон. Федон. 60b – c.]. Ибо, как можно видеть, ни одну радость мы не принимаем с благодарностью, если ей не предшествует горесть.
Кто будет дорожить отдыхом, если прежде не почувствовал томление сильной усталости? Кто наслаждается едой, питьем и сном, если прежде не претерпел голода, жажды и недосыпания? И думаю я, что страдания и недуги природа дала людям не изначально, чтобы они им были подвержены: ибо не кажется подобающим, что она, мать всякого блага, собственным своим разумением определила дать нам столько бед. Но, создавая здоровье, удовольствие и другие блага, природа последовательно присоединила к ним недуги, горести и прочие беды. Поэтому, если добродетели явились в мир как милость и дар природы, тут же и пороки, по правилу той же сцепной противоположности, необходимым образом стали их спутниками; так что, когда одно растет или уменьшается, по необходимости растет или уменьшается и другое.
III
Поэтому, когда наши старики расхваливают дворы былых времен за то, что там не было порочных людей вроде иных из нынешних придворных, они не понимают, что те дворы не имели и таких доблестных придворных, какие есть теперь. Это и не удивительно, ибо ни одно зло не бывает настолько злым, как то, что родится от испорченного семени добра; и теперь, когда природа производит намного лучшие таланты, чем тогда, – как стремящиеся к добру поступают намного лучше прежних, так стремящиеся ко злу поступают намного хуже.
Итак, не стоит говорить, будто те, которые удерживались от зла потому, что не умели его делать, заслуживают за это какую-либо похвалу; ибо зла делали хоть и немного, но делали его больше, чем умели. А в том, что таланты тех времен намного ниже нынешних, вполне можно убедиться из всего того, что производят нынешние: как в литературных занятиях, так в живописи, скульптуре, архитектуре и всем остальном.
Порицают также те старики в нас многие вещи, которые сами по себе ни хороши, ни плохи; но они бранят их лишь потому, что сами так не поступали. И говорят, что не подобает юношам ездить по городу верхом на коне, а в крайнем случае на муле; не подобает носить зимой длинную одежду, подбитую мехом; носить мужчине берет, если он не достиг восемнадцатилетнего возраста, и тому подобное. И в этом они поистине заблуждаются, ибо такие обыкновения не только удобны и полезны, но стали привычны и всем нравятся – так же, как раньше нравилось ходить в джорне[178 - Популярная в XV в. одежда без рукавов, в виде накидки спадающая на грудь и на спину, иногда поддерживаемая поясом.], с открытыми ляжками и в полированных башмаках, или без всякого смысла, ради одного щегольства, носить целыми днями на руке сокола, или танцевать с женщиной, не касаясь ее руки, и делать многое другое, что теперь покажется в высшей степени нелепым, но в те времена весьма уважалось.
Так что пусть и нам будет позволено следовать обыкновению нашего времени, не боясь попреков от этих стариков, которые часто, желая похвалиться, говорят: «Мне было двадцать лет, и я еще спал вместе с матерью и сестрами, да и после долго не знал, что такое женщина; а теперь мальчишки, у которых еще молоко на губах не обсохло, знают больше всякой дряни, чем раньше – опытные мужчины» – и этим, сами того не сознавая, подтверждают, что в нынешних мальчишках больше смекалки, чем имели тогдашние старики.
Пусть же прекратят они порочить наши времена как полные пороков; ибо, удалив из него пороки, они удалят также и добродетели; и пусть помнят, что и среди древних, во времена, когда в мире цвели души славные и поистине божественные во всякой доблести, было много и в высшей степени порочных, которые, живи они сейчас, превосходили бы злом нынешних злых, как те добрые превосходят благом нынешних добрых, о чем свидетельствуют все историки.
IV
Но кажется, мы уже достаточно ответили этим старикам. Так что оставим эту речь, возможно слишком затянутую, но не вовсе никчемную. И, достаточно показав, что дворы нашего времени достойны не меньших похвал, чем те, что так превозносят эти старики, послушаем дальнейшие рассуждения о придворном, из которых весьма нетрудно понять, на какой ступени среди других дворов стоял двор Урбино, и каковы были те государь и государыня, которым служили столь замечательные умы, и сколь счастливыми могли назвать себя все бывшие с ними в общении.
V
Итак, когда настал следующий день, среди рыцарей и дам двора продолжались обильные и разнообразные беседы о диспуте, бывшем накануне, большей частью оттого, что синьор префект, желая узнать, о чем говорилось, расспрашивал об этом едва ли не каждого, и, как всегда бывает, ему отвечали различно. Одни хвалили одно, другие – другое, а кроме того, многие не вполне согласно между собой передавали речи графа, так как сказанное им ничья память не сохранила во всей полноте.
Так что говорили об этом почти весь день. А как только стемнело, синьор префект повелел накрыть стол и всех благородных увел с собой к ужину, и сразу после трапезы направился с ними в покои синьоры герцогини. Та же, увидев столько народу и раньше обычного времени, сказала:
– Большой же груз на плечах у вас, мессер Федерико! Велики ожидания, которым вам придется соответствовать!
– Большой груз, ну и что за дело? – воскликнул Унико Аретино, не дожидаясь ответа мессера Федерико. – Кто так глуп, если, зная, что? надо делать, не делает этого в подходящее время?
Так, обмениваясь словами, все расселись по местам в прежнем порядке, с величайшим вниманием ожидая предстоящей беседы.
VI
И мессер Федерико, обратившись к Унико, сказал:
– Не кажется ли вам, синьор Унико, что нынешним вечером мне досталось трудное дело и нелегкое бремя: показать, как, в какой форме и в какое время должен придворный проявлять свои добрые качества и заниматься теми делами, которые, как было сказано, ему приличны?
– Не вижу в этом ничего особенного, – отвечал Унико. – Думаю, достаточно, чтобы придворный был рассудителен, о необходимости чего вчера хорошо сказал граф; и если он таков, думаю, что и без других советов сможет применять то, что знает, в подходящее время и в подходящей форме. Обставлять же это подробными правилами было бы слишком трудно и, может быть, излишне; ибо не знаю, кто будет столь глуп, что захочет упражняться с оружием, когда все вокруг увлечены музыкой; или пойдет по улице, танцуя мореску, даже если прекрасно умеет это делать: или, желая утешить мать, потерявшую сына, начнет любезничать и острословить. До этого, конечно, не дойдет ни один благородный человек, если он не лишился ума.
– Вы, синьор Унико, как-то слишком впадаете в крайности, – сказал мессер Федерико. – Иной человек глуп таким образом, что сразу не распознаешь, да и ошибки бывают разные: например, он в состоянии удержаться от глупости публичной и слишком явной, вроде той, как вы говорите: идти по площади, танцуя мореску, – но не умеет удержаться от того, чтобы некстати похвастаться, проявить отталкивающую самонадеянность, отпустить подчас какую-то фразу, думая рассмешить, – но, сказанная некстати, она выходит совсем несмешной и неловкой. И часто эти ошибки бывают скрыты за неким покрывалом, не дающим их обнаружить тому, кто их совершает, если только он не всматривается в них с усердием; и хотя есть довольно причин, по которым наш взгляд мало что различает, но более всего он омрачается тщеславием. Ибо каждый любит показать себя в том, в чем, по собственному убеждению, хорошо разбирается, будь это убеждение истинно или ложно. Как мне кажется, искусство хорошо владеть собой по этой части состоит в некой осмотрительности и способности к рассудительному выбору, чтобы знать прибыль и убыток, то есть то, что поступками приобретаешь или теряешь, в зависимости от того, своевременны они или нет. И будь придворный даже вполне рассудителен и способен к такому различению, ему будет легче достигать цели, не просто придерживаясь каких-то общих понятий, но если в помощь его мыслям мы дадим несколько правил, укажем верный путь и, так сказать, точки опоры, на которых он мог бы основываться в своих поступках.
VII
Поскольку граф вчера так много и красиво рассуждал о придворном искусстве, я чувствую немалую боязнь и сомнение: смогу ли я так же хорошо, как он, удовлетворить ожиданиям благородных слушателей в том, о чем предстоит мне держать речь. Но чтобы, насколько в моих силах, разделить с ним похвалу и быть уверенным, что я хотя бы в этом не ошибаюсь, я ничего не стану говорить ему наперекор.
Соглашаясь с его мнением, в частности о желательных для придворного благородстве происхождения, телесной соразмерности, изяществе повадок, скажу так: чтобы придворный удостоивался похвалы и уважения от каждого и благоволения государей, у которых служит, ему, на мой взгляд, необходимо суметь так устроить и согласовать свою жизнь, чтобы извлекать пользу из своих добрых качеств всесторонне, в общении со всеми людьми, не вызывая их зависти. Редко кто этого достигает, что и показывает, насколько трудно это дело. Ибо, поистине, все мы от природы больше охочи порицать ошибки, чем хвалить сделанное хорошо; и многие, кажется, по какому-то врожденному злонравию, даже ясно сознавая, что? в этом деле хорошего, всячески стараются выискать в нем недостаток или хотя бы его подобие. Потому-то необходимо нашему придворному во всяком деле быть осторожным и все, что он говорит и делает, говорить и делать с осмотрительностью. И не только воспитать в себе превосходные стороны и качества, но и сам образ своей жизни распределить так, чтобы в нем все этим сторонам и качествам соответствовало, никогда ни в чем не создавая впечатления, будто он изменяет сам себе, но образуя как бы единое тело для всех этих добрых качеств. Чтобы каждый его поступок был и результатом, и совмещением всех добродетелей, – подобно тому, что говорят стоики об обязанностях того, кто мудр[179 - Например, Цицерон в трактате «О пределах добра и зла» (гл. 6–7).]. Поэтому, хотя в каждом действии одна из добродетелей является основной, все они настолько связаны одна с другой, что сходятся воедино и могут вместе способствовать и служить достижению любой цели. И мудрому следует уметь пользоваться ими, для сравнения и как бы контраста с какой-то из них подчас выставляя на обозрение другую, подобно тому, как хорошие живописцы тенью выделяют и делают виднее свет на выпуклых местах, а светом – тени на плоских поверхностях и сочетают разные цвета так, чтобы по причине их несходства оба играли ярче. Так же и размещение фигур относительно друг друга помогает художнику добиться нужного эффекта.
Например, добродушие весьма достойно восхищения в рыцаре отважном и привыкшем к оружию; и как его отвага представляется большей в сочетании со скромностью, так и скромность усиливается и делается ярче, соседствуя с отвагой. Поэтому если кто мало говорит, много делает и не хвалит сам себя за дела, достойные похвалы, но благонравно скрывает их, – это в человеке, умеющем благоразумно следовать такому правилу, делает более весомой и ту и другую добродетель. То же бывает и со всеми остальными добрыми качествами.
Итак, я бы посоветовал нашему придворному во всем, что он делает или говорит, пользоваться несколькими общими правилами, вкратце содержащими все, что мне предстоит сказать. И первое и самое важное из них напомнил нам вчера граф: прежде всего пусть избегает нарочитости. Далее, пусть хорошо обдумывает суть того, что сделает или скажет, учитывает место, где он это делает, в чьем присутствии, в какое время, помня причину, по которой он это делает, свой возраст, род занятий, не упуская из виду цель, к которой стремится, и средства, могущие к ней подвести. И с такими предуготовлениями пусть благоразумно подходит ко всему, что собирается сделать или сказать.
VIII
Здесь мессер Федерико сделал небольшую паузу. Воспользовавшись молчанием, синьор Морелло да Ортона вставил:
– Эти ваши правила, сдается мне, мало чему учат. Я и сейчас знаю обо всем этом столько же, сколько знал до того, как вы их тут нам изложили. Хотя, помнится, пару раз слышал такие правила от монахов, которым исповедовался, и они как будто называют все это «обстоятельствами».
Мессер Федерико, улыбнувшись, сказал:
– Если помните, вчера граф, говоря, что первым делом придворного должно быть военное, пространно рассказал о том, как он должен им заниматься, – и повторяться тут незачем. Однако наше правило подразумевает, например, то, что придворный, если участвует в стычке, или на поле боя, или в других подобных обстоятельствах, должен благоразумно повести себя так, чтобы выделиться из толпы и выполнять дела значительные и смелые, которые велит ему долг, сколь возможно малой командой и на глазах самых известных и важных людей в войске, а лучше всего, если возможно, в присутствии самого короля или того государя, которому служит. Ибо воистину правильно – извлечь пользу из хорошо сделанного дела. И я думаю, что как плохо искать ложной и незаслуженной славы, так же плохо и лишать себя заслуженной чести, не ища той хвалы, которая одна только и бывает истинной наградой за доблестные подвиги. Случалось мне знавать таких, которые хоть были и отважными, но в этом отношении – сущими недотепами; чтобы овладеть загоном для овец, они подвергали жизнь такой опасности, будто стремились взобраться первыми на стену захваченного города. Но наш придворный не будет поступать так, держа в памяти единственную причину, которая ведет его на войну. Этой причиной должна быть только честь.
Если же ему доведется брать в руки оружие в публичных зрелищах – поединках, турнирах, в игре с тростями или делая какое-то иное телесное упражнение, – пусть он, помня, где находится и в чьем присутствии это делает, старается не только быть защищенным доспехами, но и выглядеть в них не хуже, насыщая глаза зрителей всем тем, что, по его расчету, может придать ему изящества. Пусть позаботится, чтобы конь его был в красивой сбруе, чтобы одежда ему шла, чтобы девиз соответствовал, импреза была сочинена талантливо[180 - 18 °Составление импрез (см. примеч. 30) с девизами (последние нередко заимствовались из Св. Писания или древних авторов) требовало хорошего вкуса и эрудиции. Мастера этого дела были в высокой чести у итальянской знати и щедро вознаграждались.], чтобы все это притягивало к себе глаза окружающих, как магнит – железо. И пусть никогда не выходит на публику среди последних, памятуя, что люди, а особенно женщины, с бо?льшим вниманием смотрят на первых, чем на последних, ибо зрение и дух, алчные до новизны, вначале замечают каждую мелочь и из нее составляют себе впечатление, но затем не только насыщаются, но и устают от продолжительности зрелища. Поэтому один знаменитый древний актер в трагедиях всегда старался выходить на сцену первым[181 - Ср.: Аристотель. Политика. VII, 15, 10: «Трагический актер Феодор… никогда не дозволял ни одному актеру, даже из числа посредственных, выступать ранее его, так как зрители свыкаются с теми звуками, какие они услышали сначала» (пер. С. Жебелева). Как видим, у Аристотеля актер заботился не о собственной славе, а о том, чтобы с самого начала задать высокий уровень исполнения как для зрителей, так и, естественно, для самих актеров.].
Таким же образом, говоря в том числе и о военных делах, наш придворный будет учитывать род занятий тех, с кем беседует, и вести себя соответственно, по-разному разговаривая с мужчинами и женщинами; а если коснется чего-то, связанного с его собственными похвальными делами, сделает это прикровенно, как бы к слову и походя, со скромностью и осмотрительностью, как изложил нам это вчера граф Лудовико.
IX
Вы и теперь думаете, синьор Морелло, что наши правила не способны чему-то научить? И вам не кажется, что один наш друг, о котором я рассказывал пару дней назад, совершенно забыл, с кем говорит и зачем, когда, желая развлечь одну благородную даму, которую видел впервые в жизни, с первых слов беседы пустился рассказывать ей, сколько поубивал народу, как он храбр и как лихо орудует двуручным мечом? Он не отпускал ее, настойчиво объясняя, как отбиваться от топора, если ты вооружен, и как, если ты без оружия, и показывая различные приемы владения кинжалом; бедняжка чувствовала себя точно пригвожденной, и час, проведенный с ним, показался ей тысячью лет от страха, как бы он и ее не убил, как тех, о ком рассказывал. В подобные ошибки впадают те, кто не учитывает обстоятельств, о которых вы, по вашим словам, слышали от монахов.
Итак, я говорю, что из телесных упражнений некоторые почти всегда делаются при стечении зрителей – как поединки, турниры, игра с тростями и другие, связанные с оружием. И если нашему придворному доведется принимать в них участие, он заранее должен позаботиться о том, чтобы у него были в полном порядке конь, оружие и одежда, чтобы всего у него хватало; а если не чувствует себя полностью подготовленным, пусть ни в коем случае не ввязывается в дело; ибо, если выйдет плохо, нельзя будет отговориться тем, что это «не твое ремесло». Затем, надо серьезно думать о том, в чьем присутствии выступаешь и каковы у тебя товарищи, – ибо неприлично рыцарю почтить своим присутствием деревенский праздник, где его зрителями и товарищами будут простолюдины.
Х
Синьор Гаспаро Паллавичино заметил на это:
– В наших краях, в Ломбардии, нет таких разделений, напротив, на праздниках многие молодые дворяне день-деньской пляшут вместе с крестьянами и играют с ними, метают жердь, борются, бегают наперегонки, прыгают. И мне это не кажется зазорным, потому что при этом состязаются не в благородстве, а в силе и ловкости, в чем деревенские часто не уступают благородным. И думаю даже, что такая простота в обращении имеет в себе что-то от любезного радушия.
– Эти танцы под солнцем, – сказал в ответ мессер Федерико, – мне нисколько не по душе, и не знаю, что вам за прибыль от них. Но кому нравится бороться, бегать взапуски и прыгать с мужичьем, должен делать это, по моему мнению, испытывая себя и, так сказать, из учтивости, а не чтобы состязаться с ними. И он должен быть почти уверен в победе, а иначе пусть не берется; ибо слишком большое зло и слишком гнусное дело, оскорбляющее достоинство, – видеть, как благородного человека одолел мужик, особенно в борьбе. Так что, думаю, от подобного лучше воздерживаться, во всяком случае при стечении народа, потому что польза от победы ничтожна, а вред, если тебя победят, огромен.
Еще и игра в мяч почти всегда происходит публично; и она – одно из тех зрелищ, которым множество зрителей служит немалым украшением. И пусть, кроме упражнений с оружием, наш придворный занимается и этой игрой, и любыми другими, которые не составляют для него постоянного увлечения, чтобы не выглядело, будто он ищет или ждет за них какой-либо похвалы или тратит на подготовку к ним усердие и время, даже если играет в них превосходно, и пусть не ведет себя, как те, что страстно преданы музыке и, говоря с кем угодно, лишь только случится пауза в разговоре, сразу начинают напевать; а иные, ходя по улицам и даже заходя в церкви, всегда пританцовывают; а третьи, встретив друзей на площади или где-то еще, тут же принимаются или играть с мечом, или бороться – в зависимости от того, чем больше увлечены.
– Еще лучше поступает один наш молодой кардинал в Риме, – вставил мессер Чезаре Гонзага. – Любя показать, как он статно сложен, он ведет всякого пришедшего к нему с визитом – даже если видит его впервые в жизни – в сад, где самым настойчивым образом приглашает раздеться до жилета и посоревноваться с ним в прыжках[182 - Некоторые комментаторы, опираясь на слово «наш» и полагая, что имеется в виду один из кардиналов, родственно близких к урбинскому дому, видят в нем Галеотто Франчотти делла Ровере (ум. 1508), епископа Лукки, племянника папы Юлия II.].
XI
Посмеявшись, мессер Федерико продолжил:
– Имеются и некоторые другие занятия, которые могут быть как публичными, так и приватными: например, танец. И полагаю, что придворный должен относиться к этому с разбором; ибо, танцуя в присутствии толпы, в месте, полном народа, ему подобает сохранять определенную степенность, смягченную, впрочем, легким и непринужденным изяществом движений. Поэтому, даже если он обладает замечательной подвижностью и хорошо чувствует темп и ритм, пусть не увлекается подскоками и двойным притопом, которые, как видим, так прекрасно удаются нашему Барлетте, но, пожалуй, благородному человеку не совсем приличны. Хотя приватным образом, находясь в покоях, как мы теперь, думаю, позволительно и это, и выплясывать мореску и брандо[183 - Брандо – вид энергичных групповых танцев, представлявших собой повторение простых шагов, прыжков и притоптываний и исполнявшихся в кругу или в цепочке. В этом случае речь идет, очевидно, о танце в форме, не обработанной специально для придворного обихода. В сохранившемся, например, до нашего времени народном варианте Нижнего Пьемонта брандо – круговой танец, который исполняют, взявшись за руки, двигаясь вправо и влево, с подпрыгиваниями и наклонами.]; но на публике – разве что переодетым, и пусть даже любой его узнает, это, по крайней мере, не производит неприятного впечатления.
Выставляться же с этим на всеобщее обозрение, при оружии или без него, – в любом случае не лучший выбор. Ведь когда человек переодет, это придает некоторую свободу и вольность, которая, помимо прочего, дает принять на себя вид, ему подходящий, чтобы чувствовать себя уверенно и проявлять как максимум усердия и изощренности в главном, в чем хочется себя показать, так и некую непринужденность в том, что не важно. Очень усиливает привлекательность, если, например, юноша примет на себя личину старика, однако в свободной одежде, чтобы иметь возможность вести себя молодцевато; рыцарь – преобразится в грубого пастуха или кого-то вроде, но на прекрасном коне и в ловко сидящем, хотя и подобающем по роли, платье, ибо души окружающих сначала спешат вообразить то, что представляется очам при первом взгляде, а потом, увидев намного больше того, что мог обещать костюм, забавляются и получают удовольствие.
Поэтому государю в таких играх и зрелищах, где надевают костюмы и маски, изменяя облик, не очень-то идет сохранять собственно вид государя, ибо удовольствие, которое новизна производит в зрителях, от этого большей частью рассеется: ведь ни для кого не ново, что государь – это государь. И он сам, давая всем понять, что, являясь государем на деле, хочет еще иметь и облик государя, тем самым теряет свободу делать вещи, выходящие за рамки его сана. Если же в игры входит какое-то соревнование, особенно с оружием, люди могут подумать, будто он хочет сохранить на себе облик государя, чтобы не оказаться побитым, но, напротив, чтобы все прочие уступали ему первенство. Кроме того, если он будет делать в играх то же самое, что должен по необходимости делать всерьез, то в действительной жизни он потеряет авторитет, и будет казаться, что даже и настоящие его занятия – некая игра[184 - Мессер Федерико хочет сказать, что, если государь явится, например, при маскарадном представлении в костюме некоего мифического или исторического царя и будет изображать суд, заседание государственного совета или что-то еще, шуточно представляющее исполнение властных функций, он тем самым рискует подорвать почтение и доверие к своей реальной власти.]. Зато если государь снимет с себя царственный облик и смешается с низшими, как с равными, впрочем оставаясь узнаваемым, он, отложив одно величие, приобретет другое, большее – стремление превзойти остальных не авторитетом власти, но доблестью – и покажет, что его храбрость и мужество не превозносятся только потому, что он государь.
XII
Стало быть, и придворный во время зрелищ, связанных с оружием, должен иметь такую же осмотрительность, соответственно своему званию. Я очень рекомендовал бы ему и в скачках верхом, борьбе, беге наперегонки и прыжках уклоняться от скоплений простонародной толпы или, во всяком случае, показываться перед ней очень редко. Ибо нет на свете столь прекрасной вещи, которой невежды скоро не пресыщаются, если часто ее наблюдают.
То же касается и музыки; я не хочу, чтобы наш придворный поступал как многие, которые, где ни окажутся, и даже в присутствии знатных людей, с которыми нимало не знакомы, не заставляя долго себя упрашивать, сразу пускаются делать все, что умеют, а подчас и то, чего не умеют. Кажется, будто они пришли сюда только побахвалиться и это самое и есть их главное занятие. Поэтому пусть придворный берется за музыкальные инструменты лишь ради забавы и почти принужденно, но никогда – в присутствии простолюдинов или при большом стечении народа. И даже если хорошо знает и умеет то, что делает, пусть и в таком случае скрывает усердие и труды, которые необходимо положить на любое занятие, чтобы быть в нем на высоте, и своим поведением показывает, будто сам мало ценит в себе это искусство: если он владеет им превосходно, пусть его хвалят другие.
XIII
– Есть много видов музыки, – сказал синьор Гаспаро Паллавиччино, – исполняемой как живым голосом, так и на музыкальных инструментах. Хотелось бы услышать, какая из всех наилучшая и в какое время подобает придворному исполнять ее.
– Прекрасной музыкой, – ответил мессер Федерико, – кажется мне верное пение, по нотам, в красивой манере; но еще больше – пение под виолу, ибо все сладкозвучие – в сольном исполнении. Ведь мы с бо?льшим вниманием отмечаем и воспринимаем красивую манеру и стиль пения, когда наши уши не заняты ничем другим, кроме единственного голоса. С другой стороны, при этом лучше различима и малейшая ошибка – чего не бывает, когда несколько человек поют вместе, так как они поддерживают друг друга. Но больше всего мне по сердцу речитативное пение под виолу: оно придает словам на удивление много красоты и убедительности. Гармоничны и все клавишные инструменты, так как производят весьма звучные аккорды, и на них легко исполнить многие вещи, услаждающие душу мелодией. Не меньше восхищает игра квартета смычковых, весьма нежная и искусная. Человеческий голос добавляет немало красоты и изящества игре на этих инструментах, и пусть наш придворный хотя бы имеет о них представление, а чем более мастерски владеет ими, тем лучше. При этом пусть он не слишком увлекается теми, которые отвергла Минерва, а за нею и Алкивиад, – ибо они кажутся имеющими в себе нечто безобразящее[185 - Аристотель в «Политике» (VIII, 6, 8) приводит миф о том, что Афина, создав флейту, отбросила ее, будто бы «в гневе на то, что при игре на флейте лицо принимает безобразный вид. Настоящая же причина, – комментирует далее философ, – конечно, заключается в том, что обучение игре на флейте не имеет никакого отношения к умственному развитию, Афине же мы приписываем и знание, и искусство» (пер. С. Жебелева). Близкое по смыслу рассуждение приписывает Плутарх Алкивиаду в своей биографии последнего. Еще подростком Алкивиад отказался «играть на флейте… считая это искусство низменным и жалким: плектр и лира, говорил он, нисколько не искажают облика, подобающего свободному человеку, меж тем как, если дуешь в отверстия флейт, твое лицо становится почти неузнаваемо даже для близких друзей. Кроме того, играя на лире, ей вторят словом или песней, флейта же затыкает рот, заграждает путь голосу и речи» (пер. С. Маркиша).].
А использовать эти виды музыки я считаю возможным в любое время, когда человек находится в задушевной и дружеской компании и свободен от других дел, но прежде всего она уместна в присутствии женщин, поскольку названные ее черты смягчают души слушающих, раскрывая их перед нежностью музыки, и при этом возбуждают дух того, кто играет. Хотя, как я уже говорил, предпочтительно держаться подальше от многолюдства, а особенно от толпы простолюдинов. Но пусть приправой ко всему будет рассудительность, ибо на деле нельзя вообразить все возможные случаи; а если придворный будет справедливым судьей себя самого, то сможет применяться ко времени, зная, когда души слушателей расположены к музыке, а когда нет. Пусть не забывает и о своем возрасте: ибо, право, совсем неприлично и странно видеть человека, занимающего определенную ступень, старого, седого и беззубого, покрытого морщинами, с виолой в руках, распевающим в компании женщин, даже если он кое-как с этим справляется. Ведь при пении произносят в основном любовные слова, а любовная страсть в стариках смешна, хотя порой и кажется, что будто Амур развлекается тем, что среди многих своих чудес воспламеняет, вопреки годам, и сердца обледенелые.