
Полная версия:
Сколько волка ни корми
– Да нельзя… – вновь парень голубоглазый возразить тщится.
– Позволь мне, Сивер, решать, что мне можно, а что нельзя, – холодно Лесьяра говорит. – Ты всё правильно понял, Вран, именно этого я от тебя и хочу. Коли поможет тебе душа твоя волчья русалке этой покой хотя бы зимой обрести, ни слова тебе больше против не скажу – признаю душу твою единственную, будет вход для неё в это место всегда открыт, больше не гостьей здесь будет – равной нам, и поможем мы ей раскрыться, если захочешь ты этого. Принимаешь ли ты мои условия?
– Принимаю, – ещё быстрее Вран отвечает, чтобы никто его перебить не успел.
И вспыхивают отчаянием глаза Баи, и сплёвывает на землю в чувствах этот Сивер, и смеётся неожиданно сестра Баи, чьё имя до сих пор Врану неизвестно – и становится чуть шире улыбка великана, а Лесьяра кивает:
– Так тому и быть.
Так тому и быть…
Вот только как быть – и чему именно?
Никаких намёток великих у Врана и в помине нет.
– Никуда ты не пойдёшь, – шипит Бая, как только Лесьяра уходит. Уходит с Лесьярой великан, уходит девушка рассмеявшаяся, только Сивер в холме с Баей и остаётся.
Вран ждёт немного, взглядом спины в плащах разноцветных провожая. Расплываются эти спины в воздухе мгновенно, будто в глаз Врану что-то попало – расплывается всё точно так же и за оставшейся открытой дверью. Обычно звеняще-чист воздух морозный – а этот в туман непроницаемый превращается, и не может Вран разглядеть ничего из того, что вчера ему на глаза попадалось: ни холмов других, невысоких совсем, ни круга каменного. Только и различает он с трудом, что ещё какие-то люди за рябью этой движутся – много людей, десяток или даже два, но ни лиц их Вран не разбирает, ни одежды. Просто пятна размытые.
Отдаляются плащи, к остальным подходят – далеко они уже от Врана, теперь и вздохнуть спокойно можно.
Так Вран и делает: всей грудью воздух набирает, так, чтобы аж лёгкие заболели, – и выдыхает с шумом, наслаждением, облегчением. Ноги у него чуть не подкашиваются, в сторону его от напряжения пережитого шатает – но всё, всё уже, один шаг к победе он уже сделал, первый шаг, важный самый – согласились люты хоть на что-то, хоть и условия занятные ему выдвинули. Но что Врану эти условия? Деревенские не верили, что он и лютов найти сможет – а он смог, нашёл, он здесь, у них… конечно, не совсем «у них», на пороге застрял, но ведь где порог – там и дом весь, верно же?
– Он тебя не слушает, – Сивер цедит, тревожно себя руками за плечи обхватывая. – Насрать ему на все причитания твои, Бая! Говорили же тебе, говорили всем нам: не водись с людьми, только волком к ним выходи, да и то – если помрут они без тебя! И что теперь? Ты счастлива? Какие ему русалки? Какие ему подвиги волчьи? У него от волка только морда острая, и на ту ветер подует – пополам вместе с телом переломит! Эй, ты, Вран из Хренолесья, или как там тебя! Убирайся отсюда подобру-поздорову, забудь всё, что Лесьяра тебе сказала, и…
– Нет уж, – качает Вран головой.
– А я тебе сказал…
– А я тебе отвечаю: нет. Ты побольше сам попричитай – видимо, думаешь, что толку от этого выше головы. Ты же так многого этим добился.
Искажается лицо Сивера, дёргается он к Врану – но Бая его за плечо железной хваткой ловит.
Делает Вран ещё один вдох глубокий. Смотрит на Баю – и уже ни поддержки на её лице нет, ни понимания, и видит Вран, что сожалеет она уже обо всех словах и действиях своих, но к кому ещё Врану сейчас обратиться?
– Бая, – говорит Вран негромко, проникновенно, как можно спокойнее – а сам в это время судорожно всё, что о русалках знает, в голове перебирает. – Послушай, Бая, ну не дурак же я, знаю, на что согласился, и что делать тоже знаю. Ты на своего брата внимания не обращай, ты скажи мне лучше, Бая… Можешь ли ты еды мне какой принести, хлеба-соли, ткани чистой или, лучше, одежды женской новой?
– Одежды женской?.. – моргает Сивер. – Ты что, совсем уже головой поехал? В девицу хочешь обрядиться и по второму кругу всё это начать? И кем ты назовёшься – Правдиной из Влагополья?
– Да, теперь к тебе в лесу приду, сам уже меня к матери своей приведёшь, – огрызается Вран. – Бая, так что, сможешь всё это достать, да поскорее?
– Зачем тебе? – сухо спрашивает Бая.
Но хорошо уже Вран её изучить успел: хоть и недовольна им Бая, хоть и намерена всем его уговорам сопротивляться до последнего – но появляется в глазах её лёгкий проблеск любопытства.
А большего Врану и не требовалось.

Глава 5
Трясина
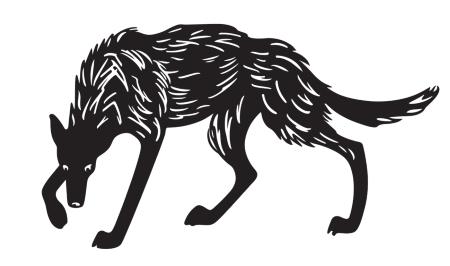
– Вы не туда идёте, – шипит Сивер отчаянно. – Не-ту-да! Ты его в лес поглубже отвести решила, Бая? Хорошая затея – но почему не в деревню обратно? Мне он тоже надоел, но не смерти же его за это предавать? Давайте-ка, разворачивайтесь – и назад!
Впервые у Врана слов не находится, чтобы описать, как надоел ему кто-то. Помнит он, что голос Сивера с голосом Ратко сравнивал, да только Ратко по сравнению с чудовищем этим назойливым – самый лучший человек на свете, самый понимающий, самый великодушный. И Войко вместе с ним, и Деян, и Латута тоже – все они замечательные, потому как говорить хотя бы устают, не способны они безостановочно одно и то же талдычить.
А Сивер уже добрый час этим занимается, ничто его не берёт – ни молчание, ни ответы язвительные.
– Я прекрасно лес этот знаю, – спокойно Бая говорит, впереди шагающая. – И место, где русалка твоя живёт, – тоже. Ужели не помнишь, как сам меня к ней водил, о помощи просил?
Вран шумно через нос выдыхает. Зря это Бая затеяла, вот вопросы этому неугомонному задавать – последнее дело, точно он от тебя после них не отстанет.
– Тебя? Тебя – водил, просил, – оживляется Сивер. – Но водил ли я туда людей, головой от бездельной юности поехавших, что телега с горы? Нет, такого что-то не припомню. А как думаешь, почему не водил? Может, упустил я что-то в правилах наших, подзабыл, как верно себя вести? Может, говорила нам Лесьяра с детства: лучший способ душе заблудшей помочь – дурака к ней кромешного привести, дурак-то точно ей понравится? Посмешить ты её хочешь? Не спорю, посмеяться может – и с тем же смехом его под лёд и утащит. Слышишь, Вран из Сухолесья? Такая судьба тебя ждёт, если не остановишься сейчас же. В прямом смысле на Белых болотах поселишься, сбудется мечта твоя – да только криво-косо сбудется, помяни моё слово!
Нет уж, его слова Вран точно поминать не станет. Ни при каких обстоятельствах.
– Да заткнись ты уже, – просто говорит он и шагу прибавляет, чтобы с Баей вровень идти. – Бая, может, отправишь ты его обратно? Посмотри на него: измучился весь уже, места себе от тревог надуманных найти не может. Позаботься о брате, а то сам головой поедет. Волнуется он очень, слышишь – уже бредить начинает, дороги знакомой не узнаёт, леса родного не понимает. Младших беречь надо, не готов он, видимо, ещё к задачам таким взрослым. Пусть домой вернётся, отдохнёт, переживаниями своими с друзьями поделится…
Дрогают уголки губ Баи в улыбке скрываемой, но качает она головой, на Врана даже не взглянув:
– Брат мой младше тебя на пару лет всего лишь, и полное право он имеет с нами идти. Его это подопечная, его это ответственность – и ничего плохого нет в том, что волнуется он и за тебя тоже. Работа это наша – о других беспокоиться. С этим ничего не поделаешь.
– Да, но не помню я, чтобы Лесьяра его обо мне беспокоиться просила, – пожимает плечами Вран, упрямо пытаясь взгляд Баи поймать. – Помню, что меня к русалке отправила, помню, что меня теперь за неё ответственным назначила. А о его участии я что-то ничего не…
– Это тебя-то она ответственным назначила? – сердито фыркает Сивер, тоже Баю обгоняя – и с другой стороны от неё идя, по правую руку. – Да отмахнулась она от тебя, как от мухи назойливой, палку в меду сладком в лес наугад швырнула – а ты за ней и полетел!
– Не помню и я, чтобы о моём участии Лесьяра что-то говорила, – замечает Бая. – Однако же я здесь.
Да. Однако же она здесь.
На это Врану возразить нечего.
Согласилась Бая принести ему всё, что он попросил, долго молчала, испытующе на него глядя, и сомнений столько было в глубине её глаз, сколько рыбы после нереста в реках не водится. Но затем решилась почему-то, и, хоть и догадывался Вран, на что она надеется, с облегчением и благодарностью её согласие принял.
Сиверу, разумеется, это не понравилось. Вспыхнул он сразу же, как только Бая своё благословенное и короткое «ладно» произнесла и руку за сумкой Врана протянула. Распалялся Сивер всё больше и больше, пока Бая Врана к двери в лес вела, мигом в стене холма нарисовавшейся, перебивал Баю своими речами невозможными, пока Бая Врану ждать снаружи наказывала. Закрылась за Враном дверь, задрожал воздух, растворился в этом дрожании холм мгновенно, в прежнюю чащу леса превратившись, – но чудилось Врану, что слышит он всё ещё голос этот въедливый, Баю отговаривающий.
Вран понимал: не из веры в него Бая ему своё согласие подарила. Не от убеждённости в том, что он успеха добьётся. Не поверила Бая его сказкам о дружбе с русалками, никто из лютов не поверил; красноречие – это, конечно, хорошо, но на нём одном далеко не уедешь. Решила просто Бая малой кровью обойтись: сделать так, как просит он, отвести туда, куда послали его, а потом дождаться, пока не получится у него ничего, может, и русалка к нему никакая из воды не выйдет, и говорить с Враном никто не станет. И скажет Бая ему тогда спокойно: «Что ж, вот и всё». И действительно – конец это будет.
У Врана было время об этом подумать. Он отчаиваться не привык – да и отступать тоже. Всегда что-то придумать можно, выкрутиться, выход найти – вот как с лютами получилось. В конце концов, Вран знает, как принято у девок деревенских русалок задабривать, и до сих пор из их деревни ни одну девку, вроде бы, за подарки русалки к себе не утащили.
– А Лесьяра – это, значит, главная у вас? – спрашивает Вран у Баи.
Лес зимний проснулся давно, насколько это зимние леса вообще умеют: летние-то жизни полны, через край она бьёт, птицы на рассвете щебечут, звери в кустах суетятся, а зимой только снег под ногами по-особенному звонко скрипит да солнце в сугробах мягко искрится. Солнце уже за облаками скрылось, не сообразишь даже, сколько времени толком: то ли утро позднее, то ли к полудню поближе. В полдень Вран, честно говоря, очень бы не хотел с нечисткой встречаться. Сильны они в полдень – почти так же сильны, как в полночь.
– Значит, главная, – отвечает Бая.
Множество вопросов Врану хочется задать. А почему женщина-то у вас главная? А муж её разве не против? И как частое это для вас явление, что вожаками волчьими не мужчины становятся? Как только племя целое на это соглашается? Неужели все голоса свои за Лесьяру эту поотдавали?
Но опасные это вопросы. Тем более что Бая – дочь родная Лесьяры.
Поэтому Вран спрашивает только:
– А отец твой тоже старейшина, правильно я понял? Почему-то молча на меня смотрел, ни слова не сказал, всё улыбался. До этого они с матерью твоей переговорили, что ли?
Бая останавливается.
– Отец мой?.. – переспрашивает она озадаченно. – Это ты когда отца моего увидеть…
Озаряется её лицо пониманием – и вдруг делает она то, чего совсем Вран от неё ожидал: хохотать во весь голос начинает.
А Сивер, уже рот открывший со своей опостылевшей Врану миной презрительной, так со ртом распахнутым и застывает и таращится на Баю молча, словно в воздух она у него на глазах взлетела, а не рассмеялась.
– Умора, – выдыхает Бая. – Отца увидел… Вот с этого тебе и следовало разговор с матерью моей начинать, вмиг бы ты её увлёк! Со способностью мёртвых видеть к ней точно ещё не приходили…
О.
«Мне очень жаль», – сказал бы Вран, да не выглядит Бая особо расстроенной. Должно быть, очень давняя это потеря.
– А кого увидел тогда? – спрашивает он, виновато улыбаясь. – Кто за спиной её стоял да уши грел? Просто старейш…
– Да нет у нас старейшин, дубьё ты стоеросовое, – перебивает его Сивер раздражённо. – Заело тебя на них? Лесьяра – глава рода нашего, единственная глава, и другие нам не нужны. А ты, Бая, зря смеёшься: вполне он мог отца нашего видеть, хоть по десять раз на дню, когда они праздник свой очередной недоумочный отмечали. Живо они тело отца нашего к себе уволокли да кожу с него содрали, а теперь «старейшины» их в ней по кургану нашему расхаживают да ножом его, наверное, любуются.
Исчезает улыбка с лица Врана. Стремительно перестаёт улыбаться и Бая.
– Ну всё, достаточно, – сухо говорит она.
Но Сивер не успокаивается.
– Что такими глазами на меня смотришь, Вран из Сухолесья? – спрашивает он зло. – Скажешь, не знал, что деревня твоя как волка павшего увидит, сразу его к себе на раздолье тащит? Сколько у вас шкур – с дюжину, наверное, а то и больше, на каждого из ваших старейшин хватит? И всё-то вы уже для этого придумали: побольше ям, ветками со снегом укрытых да кольями утыканных, нароешь, вот тебе и новая шкурка волка священного, а название-то какое хорошее – «волчья яма», сразу ясно, для кого делали. А уж если ножик потом какой в лесу с одеждой сложенной находят, то и его сразу в дом несут – красивые же у нас ножики, кто из вас, беспомощных, такой себе сделает? А можно и по-другому: волка серого о милости перед входом в лес битый час просить, весь воздух своей чушью испоганить, а потом, когда заблудишься в трёх соснах, а он тебе на помощь выйдет, с перепугу его десятью стрелами прошить и сочинить потом сказку красивую, как нашёл ты его уже мёртвым в лесу, как забрели сюда, наверное, охотники из общины соседней, волков совсем не уважающие. Вот ведь гулять они любят, диву можно даться, правда? Вот ведь далеко как забираются!
– У нас так…
– Ты мне об этом говоришь? – сверкает глазами Сивер. – Я все эти разговоры собственными ушами слышал. В деревне вашей, видимо, особо о таких вещах не поговоришь, везде уши любопытные – а лес этих разговоров полон, невинная ты моя душа. И не надо мне такие рожи корчить – гнилой каждый до единого в вашей деревеньке мерзкой, на словах одно, на деле другое, а на уме и вовсе третье, и ты такой же, не обмануть тебе меня: весь уже как пить дать этим духом пропитался, выкрутиться, обмануть, глаза честные сделать, руки от крови за спиной вытирая, – вот чем вы живёт…
– Я третий раз повторять не буду, – прерывает его Бая. – Я сказала: достаточно. Я не для того тебе со мной пойти позволила. Ещё раз начнёшь – домой отправлю.
С нескрываемым вызовом на неё Сивер смотрит, и кажется Врану: не выдержит сейчас, сорвётся, до конца договорит.
Но нет. Передёргивает плечами Сивер, на Врана взгляд последний неприязненный кидает – и с места трогается, влево сворачивая и отрывисто через плечо бросая:
– Так короче.
Не даёт Врану покоя речь его гневная, горячая. Молча Бая за Сивером устремляется, молча и Вран за ней следует, а про себя всё думает: да нет же, нет.
Нет, не могут так себя деревенские вести. Ямы волчьи – они потому волчьими называются, что волки туда добычу приводят, людям помогая, а не сами в них проваливаются. И не посмеет никто ни разу в волка выстрелить, не то что десять стрел в него пустить. Не было дыр никаких на шкурах обрядовых ни от кольев, ни от стрел – Вран шкуры эти видел, Вран бы заметил…
…хотя дыры и подлатать можно, а к изнанке Вран и не приглядывался особо…
Вран рассеянно по спине Сивера глазами блуждает, пытаясь взглядом в узорах рубахи его затеряться да от мыслей дурных отделаться. Сивер плащ серо-коричневый причудливо через плечо перекинул, и узоры как на ладони эти: странные, пёстрые, угловатые и разноцветные уж слишком – в деревне-то Врана если хоть два цвета на рубаху наскребётся, то выходная эта рубаха, не на каждый день. А у Сивера – цветов пять, если не больше: тут тебе и основной, коричневый, и чёрный, и желтоватый, и льняной, как плащ, и голубой даже.
Голубой…
Глаза волка на ноже Врановом, отцом в честь его рождения сделанном, тоже голубыми были. Блестели в них два крошечных камешка, уж откуда их отец взял, загадкой всегда для Врана оставалось. Думал Вран, что из-за надежд, на него возлагаемых, отец так расстарался, на богатства какие эти камешки чужеземные обменял и в нож приладил. Только всегда недоумевал Вран: а почему они голубые-то, глаза эти? У волков глаза же другие совсем, тёплые, янтарные. Никак не голубые.
Никак не голубые, Вран думал. Никак не такого цвета прозрачного, как у Сивера, например.
Не холодно сейчас в лесу, не замёрз Вран, как накануне, – но почему-то чувствует холодок в груди.
– Знахарь наш рядом с Лесьярой стоял, если так уж покоя тебе это не д… – нарушает молчание Бая.
Но Вран одновременно с ней говорить начинает:
– А как нож отца вашего выглядел?
Замолкает Бая на полуслове. Косится на Врана Сивер через плечо, но, как ни странно, никакими колкостями бросаться не начинает – видимо, слушается он Баю всё-таки.
– Вран, брату своему сказала и тебе скажу: не для тебя разговоры эти, – говорит Бая, и понимает Вран по голосу её ровному, что бесполезно с ней спорить. Иначе Врана быстро к деревне развернут. – Принято у нас за собой в первую очередь следить, а не на других оглядываться.
– Других не суди, на себя погляди, – понимающе говорит Вран.
– Да, – кивает Бая. – Именно так. Что бы в деревне твоей ни делали, как бы люди там ни жили – нас это не касается, у нас свой дом есть, и не в наших правилах в окна чужие заглядывать, чтобы жизнь чужую обсудить. Шкуры, ножи – оставь всё это на чужой совести, пусть она с содеянным разбирается, а ты о своих делах думай. И под ноги смотри: болота начинаются.
Видит Вран в её глазах грусть лёгкую, видит он, что, может быть, в глубине души не так равнодушна она ко всему этому, как ей хотелось бы. Видит, нет, надеется Вран, что, не будь здесь Сивера, не будь здесь брата её младшего, за которого она явно ответственность чувствует да в верную сторону направляет, может быть, с одним Враном она совсем по-другому говорила бы.
Не говорил ведь толком Вран с ней – о ней. О себе все уши ей прожужжал, всю подноготную свою поведал, и то – полуправду вперемешку с ложью, а о ней он и не знает ничего, кроме законов её племени волчьего. Зачем из дома по ночам убегает – разрешают ей или своевольничает? Почему брат родной на неё так посмотрел, когда смеяться начала – неужели правда рассмешить её здесь никто не может? Что делает она при свете дня, когда не следит украдкой за Вранами всякими, что есть любит, что пить, знает ли, какой дивный сбитень можно из мёда с клюквой сделать, или, как сказала Лесьяра, пчёлки с птичками мёд с ягодами собирают, а не волки?
– Вран, смотри под ноги, – повторяет Бая, и Вран в себя приходит. Опять он в глаза её, как дурак последний, загляделся.
Да, лучше и вправду сейчас под ноги смотреть: выводит их Сивер туда, куда никогда бы Вран в здравом уме не сунулся – ни зимой, ни летом.
Становятся всё реже деревья, голыми кольями к небу пасмурному поднимающиеся, а потом и вовсе расступаются. Знает Вран местечко это – издалека его завидев, всякий раз в сторону сворачивает. Необъятная череда болот, одно в другое перетекающих, с тропками извилистыми обманчивыми, которые так и зовут тебя, так и приглашают: ну, давай же, чего боишься ты, чего медлишь, надёжны мы, пройдёшь по нам так далеко, как захочешь, всё хорошо будет.
Но нет – не будет. Тропки эти легко в трясину превращаются, обычной землёй притворяющуюся, а зимой и вовсе всё коркой ледяной и снегом покрывается, и не разберёшь уже, где болото открытое, а где ловушка сокрытая. Это сейчас и произошло: побелела топь, горками снега уродливыми на многие вёрсты вперёд раскинулась, под мрачным сизым небом затаилась, безмолвная, огромная, голая, лишь изредка где-то деревце хрупкое встретится или куст от мороза облысевший.
– За нами идёшь, – Бая Врану говорит. – Ровно за мной по следам моим ступаешь, ни шагу в сторону, иначе лёд проломишь. Тонкий он этой зимой.
Вран послушно кивает. Ни за каким человеком он бы сюда не пошёл, даже самым опытным, лес наизусть знающим, но люты лес не просто знают, они – часть его, и очень Вран надеется, что чутьё их волчье на тропы самые безопасные выведет.
Идёт впереди Сивер, идёт уверенно, быстро, не оглядываясь; нет в Сивере ни тени сомнения, не боится он топи, как по дому родному ходит, и Бая тоже. Вран зубы крепче стискивает, чтобы ни один выдох испуганный из его рта не вырвался. Нельзя показывать, что уже не по себе ему. Твёрдым шагом надо до русалки этой дойти – а затем так же твёрдо действовать. Даже если и не придумал он их ещё, действия эти.
Поначалу Вран дорогу на всякий случай запомнить пытается, но потом быстро от этой затеи отказывается: беспорядочно на взгляд незнающий Сивер с Баей двигаются, нет в их перемещениях закономерности хоть какой-то, через надёжные, казалось бы, места перепрыгивают, на подозрительные наступают. Кажется порой Врану, что вот-вот Сивер ошибётся или ошибся уже, что, может, сам он кочку нехорошую и миновал, но Вран-то точно на ней не удержится – но запрыгивает на кочку эту Бая, и чуть спокойнее Врану становится. Рубаха Баи белая со снегом болотным сливается, волосы её тёмные цветом редкие деревца напоминают; смотрит Вран на её спину, смотрит и смотрит – и совсем о русалке думать перестаёт.
Не лучшее это место для прогулок, конечно. Вран как только от братца её отделается, сразу же ей десяток других покажет – возможно, и сама Бая о них знает уже, самой ей они нравятся…
Останавливается Сивер вдруг как вкопанный. Чутко замирает и Бая – а Вран в последнее мгновение тормозит, чуть в лопатки её не врезавшись, очертания которых он всё под рубахой её углядеть пытался.
И дрогает воздух опять, и хочется Врану снова муть какую-то с глаз сморгнуть; это он и делает, моргая растерянно.
И видит.
Нет, наверное, слышит сначала.
Вой Вран слышит. Не человеческий вой, но и не волчий; весёлый и тоскливый одновременно, и так тоска это веселье мнимое душит, что тошно становится. Завывала так ведунья в деревне иногда, в травках своих ночью копаясь, в мысли какие-то свои уходила – да на всю деревню песню свою жуткую заводила, песню бодрую и в тот же час унылую, и доносилась эта песня ночью до самых дальних изб, детей малых будила, а старшим заснуть не давала. Приходилось спешно к бабке собираться, через всю деревню идти, чтобы в чувство её привести – а то начинали пугливые самые думать, что нечистка какая за частокол пробралась.
– На месте стой, – цедит Сивер через плечо. – И не делай ничего, пока я не разрешу. Рыжка! Рыжка, это я, друг твой! Рыжка, узнаёшь меня?
Кричит Сивер и ещё что-то – Вран слушает было, а потом внезапно как в колодец голос Сивера ухает. Приглушаются все звуки у Врана в ушах, приглушаются даже завывания русалки – потому что наконец разглядывает её Вран, и сердце его в пятки уходит.
Не от страха, нет. От неожиданности.
Русалка явно не в себе, это точно: на Сивера она внимания не обращает, на имя своё не откликается, да и занимается непонятно чем. Раскидан снег вокруг неё, даже лёд местами проломился – и прыгает русалка по этим прорубям, явно собой же и проделанным, и кружится вокруг них бешено, на льду голом поскальзываясь, то ногой, то всем телом в воду ледяную угождая, по пояс в неё проваливаясь, хохочет, смех свой мгновенно под песню подстраивая, выбирается на лёд обратно – и заново всё начинает. Покрыты инеем волосы её рыжие да лоно такое же рыжее, на обнажённых сосках уж сосульки образовались, кожа бледно-зелёная вся в корке изморози потрескавшейся, одержимые огни какие-то в глазах её ярких, зелёно-коричневых мечутся, которые по Врану равнодушно мажут.
Знает Вран глаза эти. Знает и волосы эти рыжие, и грудь эту, и лоно даже – видел Вран всё это своими глазами совсем недавно, предлагали ему всё это, красовались перед ним, а потом очень обиделись, когда Вран ответный шаг сделать отказался.
– Латута, – выдыхает он неверяще.
И русалка резко петь перестаёт.
– Нет, нет, нет, – Сивер быстро к Врану поворачивается, но не замечает Вран даже выражения его лица. Только на русалку Вран смотрит. – Не та это, кого ты увидел, слышишь меня? Никакая это не Латута, мы пришли к русалке, на русалку ты поглядишь и домой пойдёшь. Не… Бая! Почему пояс твой на неё не действует?
– Латута, – повторяет Вран, вперёд слепо шагая.
И мигом его Сивер плечо перехватывает – но Вран хватки этой и не чувствует почти.
Замирает русалка, ни в какую прорубь больше не прыгает. Смотрит на Врана глазами до боли знакомыми, губы пухлые такие же знакомые приоткрывает – и внезапно ошарашенность на лице Сивера, вплотную к Врану подскакивающего, появляется.
Потому что русалка медленно, неуверенно за Враном повторяет:
– Латута…
Дёргается Вран, из пальцев Сивера вырываясь – и почему-то легко у него это получается, не сопротивляется Сивер. Наверное, от растерянности. Не знает Вран, чем растерянность эта вызвана. Да и нет ему дела до Сивера сейчас.



