
Полная версия:
Сколько волка ни корми
…и соображает: не девка это деревенская, вряд ли горячие поцелуи хоть в щёку, хоть в губы красные оценит. Девки деревенские от такого алеют да хихикают, от себя ладонями отталкивают, а взглядами назад тянут – а вот Бая едва ли так делать будет.
– Гм… Спасибо тебе, Бая, – смущённо говорит Вран. – Век этого не забуду.
– Век сначала прожить надо, – отвечает Бая, странно как-то в глаза ему глядя.
– Да, – говорит Вран. – Это точно.
Никогда ещё он так близко к Бае не стоял – и ворожба её неведомая, чары её волчьи, кажется, от близости такой сильнее становятся только: чудится Врану, что видит он в глазах её отблески янтарные, что чувствует он от волос её запах чудной, не зимний совсем – летний; пахнет от Баи травами душистыми, ягодами сладкими, но с кислинкой, и ведёт от этого запаха и взгляда странного у Врана голову, и ведёт, ведёт, ведёт…
– В моих глазах проход в мой дом не откроется, Вран из Сухолесья, – насмешливо говорит Бая. – Спешить нам надо, если до рассвета хотим ко мне попасть. А я бы на твоём месте очень этого хотела – хоть времени мне немного выгадаем, чтобы я с главой переговорить успела.
– Да, – повторяет Вран, моргая и приходя в себя. – Да, конечно. Сделаем всё в лучшем виде, Бая. Я быстро хожу, какой там рассвет – до сумерек утренних управимся.
Бая смотрит на него с лёгким сомнением, но ничего не говорит.
И из рук его почему-то опять не вырывается – второй раз уже.
– Дай мне руку, – почти шепчет Бая, поворачиваясь.
– Что?.. – рассеянно Вран переспрашивает.
Он уже и забыл, что за Баей следует, а не сам по лесу бродит – так долго они идут, так молчаливо, так быстро. Одно дерево другим сменяется, один сугроб в другой перетекает, один хруст их шагов слышится да дыхание Врана прерывистое. Безветренно в лесу, даже снег с неба не падает, да всё равно кровь в жилах от холода стынет – ног Вран уже почти не чувствует, как инородное что-то внизу туловища движется, одной волей ведомое. Пальцы Врана тоже замёрзли уже, никакие перчатки не спасают, никакие разминания – а Бая ни слова ни роняет, по-прежнему вперёд птицей резвой летит, птицей дикой и ко всем этим условиям привычной. Улетают птицы обычно на зиму в края тёплые, в земли, для живых недоступные – и выходят, видимо, на смену им другие птицы, птицы волчьи, птицы зимние. Этим птицам никакие морозы не страшны – Бая будто в них и родилась, из них и вышла, и они – часть её, а она – их.
Вот такие мысли нелепые всё это время в голове Врана и роятся.
– Руку мне, говорю, дай, – нетерпеливо повторяет Бая. – Да не в перчатке, зачем мне твоя перчатка? Её я, что ли, в дом свой приглашать должна?
Вран наконец соображает, чего от него хотят, и торопливо перчатку зубами с правой руки стаскивает, ладонь Бае протягивая.
Тёплая у Баи ладонь, до боли тёплая – Вран морщится, когда тепло это колючими иголками его коже передаваться начинает.
А Бая только руку его крепко сжимает и говорит:
– Со мной.
И падает перчатка у Врана из зубов.
Потому что лес перед его глазами вдруг с ума сходить начинает, с ног на голову переворачиваясь.
Дрожит воздух морозный, рябит – и отступают в стороны деревья, непроницаемым узором в дикую чащу сросшиеся, и тают на глазах сугробы, до середины стволов доходящие. Холмы какие-то из-под земли вырываются, большинство – пологие почти, едва над снегом заметные, расчищается вдали за ними поляна причудливая, камнем по кругу обнесённая – но, едва Вран приглядываться к ней начинает, мигом перед ним самый крупный холм вырастает, высокий-высокий, голову задрать приходится, чтобы вершину его рассмотреть.
И не знает Вран, стоило ли ему вообще смотреть. Потому что видения продолжаются: как из-под земли две тени на холме этом появляются, человеческие тени, юношеские, самые, вроде бы, обычные – только тоже без тулупов, без плащей зимних, как Бая. Одна и вовсе, Врану кажется, босиком на холме стоит.
– Замолчали оба, – быстро Бая приказывает, прежде чем юноши успевают рты открыть. – Сама обо всём, кому нужно, расскажу, если увижу, что вы хоть шаг отсюда сделали – носы пооткусываю.
– Бая… – начинает один из юношей.
– Тихо! – шикает на них Бая.
И Врана за собой тащит – к новому чуду, из ниоткуда ему явившемуся: грубой двери деревянной, прямо к заснеженной земле холма прилаженной.
Распахивает Бая эту дверь, Врана вперёд проталкивает – и тут же её за собой захлопывает.
Черным-черно в темнице этой земляной, Вран хоть что-то видеть мигом перестаёт, и запах ему тотчас на голову обрушивается – сырой, как в погребе недавно отстроенном, но почему-то тёплый, нагретый и приятный.
– За границей нашла, к границе подвела, на границе сейчас стоит, а я его дальше приглашаю, – бормочет голос Баи рядом, и совсем уже ничего Вран не понимает: сдёргивает Бая с него шапку, споро тулуп расстёгивает, штаны из онучей вытаскивает. – Глазам разрешаю я: видьте, – её пальцы торопливо мажут по его векам – хорошо хоть Вран их прикрыть догадался, – ушам разрешаю я – слышьте, – тот же приём с ушами, – губам разрешаю я – говорите, рукам разрешаю я…
Рукам Бая разрешает «трогать», ногам – «ходить», животу почему-то – «есть и пить», хотя едят и пьют обычно ртом, даже позволяет сердцу «биться», а жизни – «по всем членам его струиться»; Врану становится слегка не по себе. А что, если бы они без всех этих разрешений обошлись, ничего из этого он бы делать не смог?..
– Какой у вас обстоятельный подход, – говорит он с усмешкой вымученной. – А как же мой нос? Я им дышу. Ты не забыла включить это в мои возможности?
Бая не отвечает – слишком сосредоточена. Вран понимает, что, возможно, попросту ей сейчас мешает, – но ничего не может с собой поделать.
– Бая, – зовёт он её напряжённо. – Бая, объясни мне, что ты…
– Я же тебя не спрашивала, зачем ты кусты целовать побежал, когда в лесу выругался? – перебивает его Бая, и голос её недовольством отдаёт. – Вот и ты ко мне сейчас с расспросами не приставай. Должна я это сделать, чтобы всё хорошо было.
– Не спрашивала, но смеяться начала, – замечает Вран.
Бая бормочет что-то уже совсем невнятное, и Вран чувствует, как нечто туго обхватывает его талию – ни дать ни взять, пояс её собственный.
– Ну, смейся, если хочешь, – говорит Бая и добавляет уже громко: – Верой своей подпоясываю, поддерживаю, подкрепляю; пусть столько этот пояс держится, на сколько гость задержится, такова воля моя.
– Пояс-то маловат мне будет, – говорит Вран.
– Нет, это я его так затянула, – отвечает Бая, наконец со своими пришёптываниями закончив. – Всё. Теперь спать ложись, как надо будет – я тебя разбужу.
– Спать?.. – растерянно повторяет за ней Вран.
Прямо здесь? В глубине холма земляного, на «границе» какой-то? Бая же его вроде «дальше пригласила». И где же оно – это загадочное «дальше»?
– Спать, спать, – подтверждает Бая. – Здесь тепло, не замёрзнешь. Если придёт к тебе кто – ты спящим дальше притворяйся, не станут к тебе приставать, в покое оставят. Не разговаривай ни с кем, на вопросы не отвечай, любопытство чужое не подпитывай. Всё понял?
– Нет, – мотает головой Вран. – Послушай, зачем мне спать сейчас? Я не хочу. Пойдём вместе, куда ты там собралась, я там полезнее буду, чем здесь.
– Вот уж позволь мне решать, где ты полезнее будешь, – фыркает Бая. – Сказала – здесь сиди, значит, здесь сидеть и будешь. Или забыл ты уже все слова свои красные? Меня ты должен слушаться, а не свои желания мне навязывать. Навязал уже одно – пора и успокоиться.
– Но если я правда…
Вран не видит, слышит: удаляется от него Бая быстро, не успевает он и договорить. На несколько хвостов волчьих в мгновение ока относится – и бьёт ему в глаза синева снега ночного на миг, когда Бая через другую дверь выскальзывает.
А затем всё вновь чёрным становится.
Разумеется, подскакивает тут же и Вран к двери этой – да только нащупывают его руки не дерево шершавое, а землю. Обычную землю, если бы такой тёплой не была.
Вран и другую дверь немедля проверяет, первую, – и её нет.
Вот это уже совсем увлекательно становится.
Нет, не могла, не могла Бая его вокруг пальца обвести, на веки вечные в этой темнице сырой… ну ладно, не такой уж и сырой… не могла она тут его навсегда запереть – без еды, без воды, только с теплом волшебным, из какого-то неизвестного источника исходящим. Не могла же? Зачем ей это? Уж тогда бы в лесу его бросила – просто и сердито, и смерть бы к нему быстрее пришла…
Вран сглатывает.
– Бая, – говорит он. Сводит горло от волнения, слова чуть ли не карканьем выходят. Вран откашливается – быстро, судорожно. – Бая! Бая!
Ни ответа, ни привета. Вран бьёт кулаком по земляной стене – больше от бессилия, чем с какой-то целью.
Надо думать о хорошем. Если бы уже проворачивали люты с кем такое, наверняка бы здесь следы этих несчастных остались – кости, по крайней мере… Да уж, очень хорошие мысли – о костях чужих… Может, и лежат они где-то здесь, в уголке укромном, непроглядном? Зрение-то Враново всё равно к темноте никак привыкнуть не может. Но разве люты так с гостями своими поступают? Не слышал Вран ни одной истории подобной, ни одного предупреждения: не связывайся с волколаками, не приставай к ним с просьбами своими, не любят они, когда навязчиво их о чём-то просят…
Только вот откуда взяться им, предупреждениям этим? От кого?
– Бая, – повторяет Вран упрямо, ногтями в землю впиваясь. – Ба…
Он резко замолкает: открывается снова отверстие прямоугольное, две головы в него просовываются: одна – спереди, вторая – за плечом у первой маячит.
Вран сразу в них тех двух юношей опознаёт, которые на холме с Баей заговорить пытались.
– Чего кричишь? – шепчет один из юношей. – Ты кто вообще?..
– Всё, хватит, – мигом его второй обрывает. – Тебе сказали: заткнись и стой. Что мы вообще сюда попёрл…
– Сам заткнись, – щерится первый. – Что он тут орёт, словно его железом пытают? Ну-ка, давай-ка…
– Сбрендил совсем? Нет, нет, не пойд…
Первый ловко второго за шиворот хватает, перед собой проталкивает – и сам внутрь к Врану заходит, а дверь так открытой и остаётся.
– Ты кто? – повторяет первый тем же громким шёпотом. – Что здесь делаешь? Беглый, что ли? А все остальные где?
Кто – беглый, откуда – беглый, что за «все остальные»? Много вопросов у Врана, но облегчения ещё больше: если пришли эти юноши странные сюда, значит, никто его заживо хоронить не собирается, значит, не в обычае лютов это всё-таки.
– А ты кто? – спрашивает Вран, чтобы время выиграть.
Похожи эти юноши чем-то друг на друга, и в то же время – разные совсем. Оба невысокие, крепкие, никакой стройной изящности Баи в них нет, никаких скул точёных – простые у них лица, но в целом приятные. Один на Врана голубыми глазами смотрит, другой – зелёными. У одного волосы светлые, отросшие, взъерошенными вихрами на лоб спадающие, второй тёмный, коротко остриженный, и как-то с дюжим подозрением Врана взглядом исподлобья сверлит. Явно не его это была затея сюда идти.
– Я?.. – озадаченно переспрашивает первый. – Ну Верен я, допустим. А что?
– Ты зачем ему своё имя…
– Кому верен?..
Улыбается первый юноша вдруг, и понимает Вран, что молод он совсем, хотя и в плечах широк уже. Лет четырнадцать-пятнадцать, не больше – а вот второй старше выглядит, может, оттого и подозрений у него больше.
– Имя у меня такое – Верен, – поясняет первый бесхитростно. – А это – Нерев, брат мой.
– Мать лесную, хватит именами нашими…
– В дозорные нас сегодня поставили, – хвастливо продолжает Верен, не обращая внимания на шипение брата. – В первый раз, между прочим. И сразу что-то началось – как знал, что спокойно не простоим. А ты из какого племени? Я что-то запах твой никак угадать не могу, издалека ты, что л…
– Да неужто не чувствуешь – не пахнет волком от него? – сердито перебивает его Нерев. – Человек это, навозом от него шмонит да молоком коровьим – что, думаешь, в скотоводы стаи дальние подались?
– Человек?.. – моргает Верен. – А зачем Бая сюда человека привела?..
– Откуда я…
– Ну и как это понимать?
Распахивается и вторая дверь, резко, словно пнули её, – и видит Вран Баю на пороге. Недалеко ушла, видимо. Может, и вообще никуда не уходила.
– Бая, – говорит Вран быстро, все слова её гневные опережая. – Я всё сделал, как ты сказала: спать лёг, спящим притворялся, но тут они пришли, и…
– Не спал он! – возмущённо хмурится Верен. – Звал тебя так, что вся граница ходуном ходила, я подумал, может, плохо ему, и проверить решил!
Бая сужает глаза. Снова этот взгляд её недобрый – снова Вран поражается, как многолика она может быть. Не весёлая девушка из леса перед ним уже стоит, а волчица настоящая, с которой все шутки плохи – вот только беда в том, что все втроём они уже пошутили, и не очень удачно.
Смотрит Бая на Верена, смотрит на Нерева. Ледяной этот взгляд, не укоризненный, не возмущённый – просто со свету тебя потихоньку выстуживающий. Ни слова она не говорит, но и не нужно ей это; Верен сглатывает, явно все свои оправдания куда подальше отправляя, Нерев сообразительнее оказывается: тут же пятится и Верена за собой утаскивает.
Хлоп – и как ни таращится Вран на дверь закрывшуюся, никуда она у него на глазах не испаряется.
– Я… – начинает он, на Баю покосившись.
– Ещё одно слово – и с деревьями говорить будешь, вдоволь наговориться сможешь, – прерывает его Бая. – Деревья тебя с удовольствием выслушают, терпеливые они – а у меня терпение на исходе.
Вран хочет было ей вслух ответить, но быстро спохватывается. Кивает только.
Кивает и Бая – и опять исчезает.
Вран без особой надежды в тьме кромешной к двери подходит, руку к ней протягивает.
Земля. Всё такая же тёплая.
Не знает Вран, что и думать по этому поводу. Но в одном уверен: Баю лучше не злить, и так она им не слишком довольна. Велела спать лечь, значит, хотя бы попробовать надо.
Никогда Вран ещё на земле голой заснуть не пытался – бывало, конечно, валялся на траве у реки, когда солнце уже с неба уходило, но это же совсем другое было. И вокруг ты оглядеться можешь, и встать всегда с травы этой, домой пойти да куда душа пожелает по дороге зайти – а здесь таким себя побаловать нельзя, назвался груздем – полезай в бочку, назвался волком урождённым – полезай, получается, в дыру какую-то, в холме вырытую, и не перечь.
Земля, впрочем, такой же тёплой оказывается, как и летом у реки – если глаза закрыть, то представить можно, что просто вечер глубокий уже, а тебе всё лень с места подниматься и двигаться куда-то. Бывало у Врана и такое – с последующими выволочками от старейшин, конечно.
Одна перчатка Вранова так на земле заснеженной возле холма и валяется – Вран о ней вспоминает, когда руку под голову подкладывает. Барабанит пальцами по земле задумчиво – и те как-то сами собой к поясу тянутся, который Бая на нём оставила.
Мягкий пояс этот, кожа хорошо выделана, искусно. Проводит по ней Вран подушечками и вдруг на пряжку натыкается. Большую, явно очертаниями своими во что-то определённое складывающуюся. Ощупывает Вран пряжку внимательнее, угадывает очертания – и улыбается.
Волк. Ну конечно. Кто ещё может на поясе Баи быть?

Глава 4
Договор
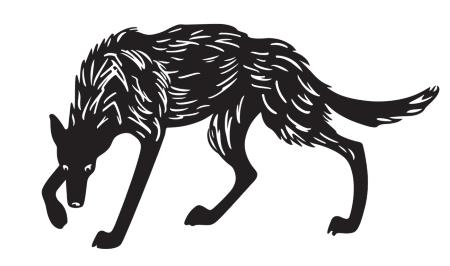
Дрёма вязкая Врана быстро в объятья свои затягивает, тяжесть стремительно на всё тело наваливается, к земле пригвождая, но толком забыться не позволяя.
Беспокойно Вран спит. Спит – и понять не может, сон ли это или чудится ему что-то от дня непростого.
Кажется Врану, всю ночь кажется: разговаривает с ним кто-то.
Только вот кто, никак Вран не смекнёт.
– Перчатку ты свою обронил, – шелестит у его уха голос женский, не то девичий, не то старушечий – смешивается всё в этом голосе и звонкость юности, и дрожь старости. – Перчатку я тебе твою принесла. Хорошая перчаточка, красивая. На такую перчаточку грех не посмотреть. Что же не глядишь ты? Что же очи свои не откроешь? Ты посмотри, посмотри: я её узорами расшила, мехом оточила, чтобы тепло тебе было да приятно. Любишь подарки ты? Любишь, любишь, кто же их не любит. И поговорить ты любишь – слышала я, как говоришь ты, нравится мне слог твой, ладно ты слова складываешь. Сложи и мне что-нибудь – а я тебе перчаточку отдам.
Тяжёлое тело у Врана, но веки удивительно лёгкие – и язык с губами ничего не сковывает. Так и хочется глаза распахнуть, проморгаться, морок ночной от себя отогнать, может, слова какие верные прошептать, за нож под подушкой, что с младенчества там лежит, от нечисток защищая, успокаивающе схватиться…
Нож…
Оставил свой нож Вран дома, забыл о нём совсем. Как из леса после первой встречи с Баей вернулся, взбудораженный, ни о чём, кроме волколаков, думать не способный, засунул нож этот под подушку обратно – да и вылетел он у него из головы на сутки целые, хотя никогда раньше Вран с ним не расставался. Отец сам этот нож сделал, особенный нож, на рукояти – голова волка, грубоватая, и на волка-то не похожая, но зато отцовскими руками выкованная, хоть и не искусен был отец в деле кузнецком. Но всех сыновей своих ножами одарил.
– Ножик хочешь? – мурлычут Врану на ухо хрипловато. – Вижу, вижу, прекрасный ножик – но больно далеко. Я бы с радостью за ним сходила – ты только попроси. Ты скажи: иди, подруга, за ножиком моим в хату мою, в дом мой, иди, да, может, себе чего пригляди. Покажи мне дом свой ещё раз. Дивный домик, крепкий, деревянный – давно я в таких домиках не была…
Гладит Врана что-то по голове – не то ногти неряшливые, длинные, нестриженные, не то просто коряга, из-под земляной стены холма торчащая. Ворочается Вран, жарко ему, воздух уже не тёплым – спёртым становится, затхлость какая-то в нём чувствуется, ветерок несвежий, больно на зловонное дыхание похожий. Ворочается Вран и понять не может: правда ли тело его хоть как-то движется или это тоже кажется ему? Не страшно Врану почему-то, не жутко, не боязно – как бояться того, что то ли есть, то ли нет? Как бояться не сна, не яви – чего-то промеж них, предложения тебе в уши шепчущего и исчезающего вместе с шёпотом своим через мгновение, как и не было его?
– Тонкие пальцы, длинные… – Теперь уже по руке его что-то скользит, кожу нежно поцарапывая. – Не грубые совсем. Работаешь мало, работать не любишь? И правильно – пусть работают те, кто при свете дня родился, а ночным такого не нужно, ночные для других вещей созданы. А перчаточка-то как влитая сядет – неужто примерить её не желаешь, неужто увидеть её не хочешь? Холодно здесь, замёрзнешь ты, не чувствуешь – снег идёт?
«Какой ещё снег?» – чуть не спрашивает Вран: удушающая жара продолжает его с ума сводить, стекает пот струйками по спине и по лбу, только и руки он поднять не может, чтобы вытереться хотя бы.
– Снег тебя уже наполовину укрыл, милый, – оживляется голос, и становится отчётливее в нём хрипотца возбуждённая, предвкушающая. – В овраге ты лесном лежишь, а я тебя тут и нашла. Завела тебя волчица твоя далеко-далеко, голову тебе задурила, мысли твои перепутала – а я тебя нашла, помочь тебе хочу. Такому молодцу как не помочь? Ох, туча какая надвигается – с ног до головы тебя снегом засыплет, околеешь ты здесь, замёрзнешь до смерти, ты только посмотри…
Что за бред она несёт? Какой снег, какие тучи? Раскрыть Врану глаза раздражённо хочется, на «овраг» этот посмотреть – и глазам-то раскрыться совсем не сложно, не то что рукой пошевелить или головой, и хоть оглядеться Врану до судорог охота, но…
Теребят эти не то ногти его, не то коряги лесные дальше, ниже – спать-то он прямо так завалился, ни тулуп, Баей во время её обряда распахнутый, не поправил, ни штаны обратно в сапоги не заправил, и ощупывают его эти прикосновения колкие, изучают. По рукаву тулупа пробегают, по рубахе шерстяной скользят, до пояса Баи добираются, его процарапывают – и вдруг в сторону отшатываются, на пряжку железную наткнувшись.
– Снять бы тебе это, да поскорее, – далёкий теперь голос замечает. – В жару такую разве в тулупах да рубахах шерстяных ходят? Зажаришься ведь, в жару собственном задохнёшься, лето на дворе, уснул ты под лучами полуденными, а от такого и умереть недолго…
«Лето? Только что зима же у тебя была», – вновь почти вылетает из Врана, но тут новая странность происходит: лёгкими-лёгкими его руки становятся, невесомыми почти, словно приглашают его, разрешают ему: давай, можно, можно, стяни ты пояс этот глупый, ненужный тебе совсем, только тулуп на тебе такой же бесполезный держащий.
Сказала Бая ему: не разговаривай ни с кем, ни на какие вопросы не отвечай, мол, донимать тебя не станут, в покое оставят. И вот это – «донимать не станут», так это у местных называется? Вран-то простодушно полагал, что о лютах Бая речь вела, их в виду имела, Верена этого с Неревом, например, – а она, оказывается, к нечистке его в гости запихнула?
Возмущается Вран, но чуть-чуть, лениво – слишком сильно его под себя истома горячая подминает, никаким чувствам места не оставляет. Только глазам, губам да рукам теперь волю даёт.
– Лето быстро зиму сменяет, моргнуть не успеешь, как год пройдёт, – объясняет ему голос услужливо и громче уже: снова приблизилось. – Зимой под снегом полежал, весной водицей залило, летом солнце подкоптило – лежишь уже тут, бедный, месяц за месяцем идёт, солнце с луной местами меняются, а тело твоё гниёт, гниёт, гниёт… Бедные руки твои, бедные пальцы твои – во что превратились, костьми белыми стали, а кости эти посерели, скоро совсем уж лес тебя заберёт, да не волком по нему бегать будешь, а мертвецом злым, потерянным – потерял ты свою перчаточку, а я тебе её принесла, ты возьми её, возьми…
Гладят руку Врана ногти острые, уже не так ласково гладят – требовательно, с нажимом, почти в кожу его впиваясь.
– Возьми перчатку, – цедит голос. – Возьми перчатку! Ужели думаешь, мамка я твоя, чтобы всю ночь тебя упрашивать? Плачет по тебе мамка, глаз не смыкает, высохла вся, ножик твой в руках крутит – возьми перчатку, меня поблагодари, да домой к тебе пойдём, мамку твою утешим. Единственного сына потеряла, мучается, места себе найти не может – сына единственного надо вернуть…
«Не единственный я сын», – вяло думает Вран.
Нечто совсем в бешенство приходит:
– Онемел ты, что ли? Коли есть тебе что сказать мне, так скажи, а не с мыслями своими разговаривай! Тут я, здесь я, Бая пред тобой стоит, пришла я с матерью своей, будем судьбу твою решать! Зайцем ты, говорил, стать хочешь? Или хорём острозубым? Ответь Бае с матерью её, ждать нас не заставляй!
Зайцы, хори, Бая с какой-то матерью, которая почему-то должна судьбу Врана решать… Голос и впрямь на голос Баи похож становится, да только не трогает это Врана уже: совсем уж он чушь городит, совсем в склочно-крикливый превращается – не верит Вран, что способна Бая таким голосом на него визжать.
– Ах так? – зло выплёвывает нечто, и дёргается Вран от боли: ногти, нет – когти, когти настоящие в его руку впиваются и кожу злобно раздирают. – Не говорит так, значит, Бая? А что ты знаешь о Бае? В глаза её заглядываешься, волос её запах вдыхаешь – осмелишься ли всё это при муже её повторить? Третьего волчонка от него уже родила, сильного волчонка, складного, век в лесу волком свободным проживёт, а не гнить там будет, как…
Руки Врана всё ещё легки – этим Вран и пользуется. Выкручивает руку, выгибает кисть стремительно – и вслепую пряжкой железной в сторону голоса тычет, лишь бы не слышать больше тарабарщины этой бессмысленной.
Шипит голос, снова его куда-то от Врана отбрасывает – и ещё большая тяжесть на Врана рушится, ещё больший жар по телу его разливается, и кажется Врану, что горят глаза его, грудь горит, что выжжет это нечто его сейчас дотла, если Вран нужное ему не выполнит – но Вран лишь упрямо зубы стискивает и глаза крепче зажмуривает.
И внезапно в настоящий сон проваливается.
– Как у себя дома развалился, – презрительно говорит голос вдруг.
Вран вздрагивает, едва глаза от неожиданности не открывая, но вовремя спохватывается.
Гудит голова, отвратительно рубаха со штанами к телу прилипли, как после затянувшегося кошмара в летнюю ночь – да только ночь зимней была. Ерошит волосы ветерок свежий, морозный, на веки как будто свет дневной падает. Изменило нечто свой подход явно: не жаром его брать теперь решило, а прохладой блаженной, солнцем несуществующим дразнить, да и голос поменяло: не женский он теперь, мужской, молодой, но какой-то… неприятный. Сразу он Врану по душе не приходится. Чем-то голос Ратко напоминает.
– Хоть бы оделся, – добавляет голос ещё недовольнее. – Или род людской сейчас таким не заморачивается?
Понятно – старая песня о главном. Сейчас «перчаточку» предлагать начнёт.
– Шапка набекрень, штаны из сапог торчат, пряжку твою всю обляпал, – не успокаивается голос. – Где ты его откопала? Такое даже в болото не пустят, там у всех одежде под сотню лет, а всё равно приличней…



