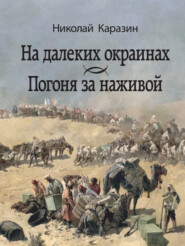
Полная версия:
На далеких окраинах. Погоня за наживой
Кара-тюркмены отважны до самозабвения. Их сила в этой безумной отваге.
Случалось, что караван, в котором было до сорока и более проводников, отдавался без боя пяти-шести страшным наездникам, с пронзительным свистом налетавшим из-за поросших саксаулом барханов.
Под Зара-Булаком два черных тюркмена изрубили наших раненых в четырех шагах от батальона. Они поодиночке подскакивали к самому фронту, и часто ударом штыка отбивалась тонкая, гибкая, как хлыст, бамбуковая пика.
Музафар, начиная войну с нами, посылал им всегда почетные приглашения, называя их «любимым войском великого пророка»[18].
Немного подальше от воды раскинулись киргизы, подвластные хивинскому хану. Некоторые пришли даже со своими семьями.
Между сделанными наскоро тростниковыми шалашами виднеются две или три желомейки, покрытые черными, прокопченными дымом кошмами3. Слышен плач ребенка и женские голоса.
Тесною кучею лежат полусонные верблюды, лениво протянув на песке свои косматые запачканные зеленоватою пеною морды. Неуклюжие седла и изодранные кошемные попоны никогда с них не снимаются. Спины под этими седлами покрыты кровавыми ссадинами, и бедное животное тяжело стонет и пронзительно ревет при каждой нагрузке.
Малорослые, стреноженные ремнями лошади бродят поблизости, скусывая жалкие остатки сгоревшей от солнца степной флоры. Большая половина лошадей тоже под седлами.
Едва дымятся там и сям разложенные костры, с плоских котлов сбегает беловатая пена и шипит, сползая по чугунным ножкам треноги. Здесь варится баранья похлебка (шурпа).
На свежесодранной шкуре два широкоплечих киргиза потрошат только что зарезанную овцу. Красная, подернутая жиром туша дымится.
Большинство спит в шалашах, из-под которых виднеются ноги, обутые в желтые и зеленые сапоги с острыми, обитыми железом каблуками.
В тени от желомейки сидит еще не старая, смуглая, как дубленая кожа, киргизка, с необыкновенно развитыми грудями, и чинит кожаные панталоны; толстая, изогнутая игла проворно шевелится в костлявых пальцах. Два совершенно голых ребенка, с отвислыми животами и полуобритыми головками, общими усилиями гложут большую кость, по-видимому, конскую.
Где-то поблизости пахнет падалью.
Тощие, поджарые борзые собаки, пождав хвост и опустив свои острые морды, высунув от жара языки, уныло бродят по лагерю.
На самом припеке, покрытый с головою серою кошмою, стонет кто-то, ежась и всхлипывая: это – киргиз, которого вчера раздавило упавшим верблюдом. Это один из употребительнейших способов лечения: больных кладут на солнце и покрывают кошмами, где они потеют, пока не отправятся к предкам.
Собственно говоря, закон Магомета воспрещает присутствие женщин в военном лагере, исключение допускается только для пленниц. Но… где мы не встречаем этого удивительно растяжимого «но»? А вообще киргизы считаются не совсем хорошими мусульманами.
Раздвигая камыш, показалась атлетическая фигура: она едва движется, тяжело ступая по солончаку босыми ногами; большой кожаный турсук4, в несколько ведер объема, нагнул ей широкую спину; через лоб перетянут ремень, а на лбу крупною сеткою вздулись багровые жилы. Черная, густая, вьющаяся, как барашек, борода доходит до половины груди, грязный пот струится по обнаженному телу. Это раб – шиит5.
У самой желомейки он снял тяжелую ношу, тихонько опустил он ее на землю, а иначе может лопнуть тонкая козлиная шкура – и тогда на бедную спину посыпется град ременных нагаек.
Давно уже оторван он от далекой родины, он даже почти забыл ее. От своих хозяев он слышал в продолжение тридцати лет одни только понукания. Впрочем, его кормили почти ежедневно. Он уже совсем привык к этому, и кажется ему, что иначе быть не может. Никакой протест тут немыслим. Ведь он с виду только человек, а на деле он только вьючное животное. Жаль, что он не научился ржать, а упорно помнит свой звучный персидский язык и даже выучил дикие наречия своих хозяев. Ведь вот несообразность!
Раздался пронзительный крик: тюркмен-чодор6 пырнул своим изогнутым ножом в бок какого-то хивинца. Раненый с криком присел на землю и корчится, кровь брызнула сквозь прижатые пальцы. Его обступило несколько товарищей по роду. Полное равнодушие на их плоских, скуластых, желтых, как охра, лицах. Они собрались потому, что все-таки новость, хоть какое-нибудь развлечение.
Чодор обтер свой нож, оправил свое узорное седло, с острою, как шпилька, передней лукою, и садится на горбоносого степняка. Один из хивинцев поддержал ему стремя.
Может ли быть какой-нибудь суд или разбирательство, когда всякий имеет полное право сам постоять за себя? Постороннее вмешательство в этом случае совершенно лишнее, да и кому какое дело до частных «недоразумений»?
В лагере, между прочим, были и беглые сарбазы[19] бухарского эмира. Вольную, хотя и исполненную лишений жизнь они предпочли коронной службе у бухарского владыки, а при постоянных поражениях, которые терпели бухарские войска, так много представлялось случаев к бегству, почти невозможному в мирное время.
Вот на разостланной узорной кошомке сидят двое из этих сарбазов. На них суконные красные куртки со стоячими широкими синими воротниками и обшлагами того же цвета, они не бросили еще своего регулярного платья, да и как бросить, когда под куртками только своя собственная кожа! Они едят изрезанную ломтиками дыню и запивают чаем из одной маленькой зеленой чашечки, тут же стоит медный кунганчик, закоптелый снизу.
Худая, изморенная донельзя лошадь, одна на двух, стоит, понуря свою лысую голову, на сбитом, гноящемся крестце роятся зеленые мухи.
Много еще разного народа стоит на берегу. Далеко сквозь камыши виднеются то люди, то лошади, то длинная верблюжья шея, даже на той стороне Аму поднимаются высокие столбы черного дыма, ясно говорящие о присутствии человека на этих в обыкновенное время мертвых, безжизненных берегах.
Зной дня приходил к концу. Багровый шар спустился к горизонту. Спокойная поверхность Амударьи вспыхнула красным заревом. Вся степь стала гораздо рельефнее: каждый бархан, каждая незначительная возвышенность бросали от себя длинные, синеватые тени; размытые водой трещины резко обозначались на солонцеватой почве; стебли камыша и его пушистые метелки горели как вызолоченные. Лошади, верблюды, сами владельцы их как-то ожили. Воздух наполнялся всевозможными звуками.
Все, казавшееся мертвым, оживила вечерняя прохлада.
На пологом возвышении разостланы большие пестрые и полосатые ковры. Вокруг тесно уселось многочисленное общество, те, кому не удалось попасть в первый ряд, сидят сзади, глядя через плечи передних, остальные стоят позади, не спуская глаз с центра круга.
Там стоит ребенок…
Ребенок ли это? Большие черные глаза смотрят слишком выразительно, в них видно что-то далеко не детское: нахальство и заискивание, чуть не царская гордость и собачье унижение скользят и сменяются в этом пристальном взгляде. Это глаза тигренка, но в то же время и публичной женщины. Красиво очерченный рот улыбается, показывая яркие белые зубы. На этом ребенке одна только, доходящая до земли, красная рубашка; ноги и руки до локтей обнажены. Он стоит совершенно неподвижно, опустив руки вдоль корпуса; из-под вышитой золотом красной шапочки спускаются почти до колен длинные, черные косы, скрашенные золотыми погремушками и граненым стеклом.
Заходящее солнце облило его красным светом, и вся фигура кажется огненною.
Этот ребенок – батча7. Имя ему – Суффи. Это имя известно за несколько сот верст в окружности.
В переднем углу, немного выдвинувшись вперед, сидели четыре музыканта. Перед ними стояли два чугунных горшка, на которых натянуты были бычачьи пузыри. Музыкант бил по ним тонкими длинными палочками, это слегка напоминало наши литавры. У двоих были медные рожки с дырочками на кронах, по которым перебирали пальцами, эти рожки издавали резкий, надтреснутый звук и, казалось, очень нравились слушателям. Трубачами оказались те самые два сарбаза, о которых мы уже говорили. Затем, у четвертого музыканта в руках был большой бубен, весь обвешанный цветными лоскутками и крошечными металлическими бубенчиками.
Музыканты разом ударили в свои инструменты. Суффи встрепенулся и медленно, как будто скользя, пошел по кругу.
Мотив пляски состоял из одного музыкального такта, повторявшегося бесконечное число раз, иногда темп ускорялся, иногда замедлялся, и слышны были только мерные удары в бубен и глухая дробь котлов. Потом вдруг раздался оглушительный рев рожков, которому вторили грубые голоса самих музыкантов.
Сначала танец заключался в плавном движении рук и головы: босые, стройные ноги едва ступали по мягким коврам, потом движения стали все быстрее и быстрее, круг уменьшался спирально, и наконец Суффи снова очутился в центре. Музыка затихла. Суффи, не сдвигая с места ног, сделал всем корпусом полный оборот и вдруг перегнулся назад, почти касаясь земли своею головою. Все тело изогнулось дугою, черные косы рассыпались по коврам, все изгибы груди, живота и бедер резко обозначались сквозь тонкую ткань рубашки.
Вся толпа оглушительно заревела. Музыканты грянули дикую ерунду. Суффи медленно приподнялся и, слегка покачиваясь, отирая пот рукавом, медленно вышел из круга. Когда он проходил сквозь толпу, на него со всех сторон сыпались самые цветистые комплименты, десятки рук хватались за него, его руки ловили на ходу и целовали их, целовали даже полы его рубашки.
В стороне лежал небольшой коврик, на который и сел отдыхать торжествующий батча, едва переводя дух и сняв свои накладные косы.
Усталого плясуна сменили двое других, звезды значительно меньшей величины. Потом Суффи снова появился на арене, и снова раздались оглушительные крики восторженных зрителей.
Когда совершенно стемнело, громадные костры из камыша, разложенные в разных местах, вспыхнули высокими огненными столбами и осветили все вокруг себя мерцающим пожарным светом. Быстро сгорел высохший камыш, пламя опадало, на несколько мгновений становилось темно, и потом все озарялось от подкинутых на огонь свежих вязанок.
На темном небе высыпали мириады звезд. Над рекою поднялся жидкий, словно кисель, туман. На воде расходились большие круги, слышались звучные всплески: какие-то большие рыбы подходили к самому берегу, привлеченные ярким светом разложенных костров.
Везде было шумно и, как кажется, весело, только на песчаной косе, где стояли кара-тюркмены, было по-прежнему тихо: едва мерцали небольшие огоньки, фыркали и жевали ячмень гордые жеребцы, и медленно двигались человеческие тени.
Долго еще не утихало в лагере. Днем успели все выспаться и пользовались прохладою ночи. Только к рассвету заснули самые неугомонные, и затихло уснувшее прибрежье.
Гайнула, хивинец, подложил себе под голову пук камышовых стеблей, случайно не попавших в костер, в этом пуке вдруг что-то зашуршало и сильно завозилось, отчего Гайнула проснулся и вышвырнул из-под головы беспокойный пучок.
Маленькая головка отделилась от камышового снопа, длинное тонкое тело извилось спиралью, быстро поползло дальше и скрылось под седло, валявшееся поблизости.
– Ишь ты, змея, – подумал Гайнула и вдруг показалось ему, что из степи словно донеслось далекое ржанье.
– Эй, Бабаджак! – крикнул хивинец соседу.
– Эге, – отозвался Бабаджак, не поднимая головы и лежа врастяжку.
Яснее послышалось ржание коня, да и не одного. Вот протяжно заревел верблюд, другой, третий. Далеко, но все ближе и ближе раздавались эти звуки: усталые, измученные продолжительной жаждой животные, видно, прибавили ходу, почуяв близость воды, и ревом выражали свое удовольствие. Вот и человек гикнул: пронзительный свист прорезался уже совсем близко.
– А ведь это наши, – сказал Гайнула Бабаджаку.
– Наши, – отвечал Бабаджак. – Это Кулдаш свистит.
Оба хивинца встали, подтянули пояса и пошли навстречу приближавшимся нашим.
– Эй! Какого там дьявола по ночам носит? – кричит кто-то, едва успев подобрать свои босые ноги из-под копыт наехавшего коня.
– Осторожней: видишь, человек лежит! – кричит другой.
– Заспались, кобыльи подхвостники[20], – произнес всадник, пробираясь между спящими.
Мало-помалу прибывают всадники, ехавшие вразброд, поодиночке. Вот на светлом фоне утреннего тумана приближаются сбитые в кучу верблюды… Где-то костер раскладывают… Еще в нескольких местах вспыхивают яркие огни. Растет и растет светлая полоса на востоке…
– А Урумбай где? – спрашивает Гайнула у одного из прибывших.
– Зарезали твоего Урумбая.
– Ишь ты, собака, а лошадь его где?
– Лошадь с собою привели. А тебе что?
– Да он мне сорок коканов8 должен…
– Это кто с вами? – спрашивает батча Суффи, подъезжая верхом на красивой лошадке.
– Где?..
– А вот, я видел, лошадей проваживает: одна лошадь из-под русского, должно быть?
– Это джигит-батыр, от русских из-за Дарьи бежал.
– То-то я его прежде никогда не видал, – заключает Бабаджак, приглядываясь сквозь дым костра к Юсупу, тихонько и совершенно спокойно проваживающему своих коней. Казалось, что ему положительно ни до чего не было дела: он был сам по себе, он приехал как будто бы к себе домой, он только случайно держался поблизости того верблюда, с которого снимали Батогова. Он говорил ближайшему джигиту:
– И что такого особенного в этих русских?.. Ишь как окружили, словно какую невидаль. Я довольно-таки нагляделся на эту дрянь.
– Ну, а другому и разу не пришлось видеть, – резонно отвечал джигит.
– Да, кто любит сидеть под кошмою, у себя в кибитке, тому, кроме своей бабы, ничего не видеть.
– Какие новости? – спрашивал один из прибывших старика в кольчуге, седлавшего лошадь.
– Да что, пока ничего не разберешь.
– Из Бухары не присылали?
– Присылали, да что толку: разве с нашими сговоришь? Если бы Садык был с ними, ну, тогда дело другое, а то каждый врозь.
– Вот наш подберет их.
Джигит кивнул на белую чалму, мелькнувшую вблизи.
– Кто… Аллаяр-то?.. Не такого нужно…
– Кто хочет к Казале идти, кто к Заравшану… Тюркмены сегодня хотели уйти, да у них что-то тихо, там, на косе-то.
Подошло еще человек пять: азиаты очень любят разговоры о политике.
– Старик Осман говорил, чтобы пока не сметь русских за Дарьей тревожить, – сообщил киргиз из адаевцев.
– Кому это говорил Осман?
– Кому? всем, когда уходил к Каршам. Он же еще говорил хивинским: вы, мол, если у вас уж очень руки чешутся, у бухарцев по кишлакам пограбьте…
– Тоже добру учил твой Осман – у своих грабить!
– Какие же они свои?
– Правоверные…
– А нам чем жить-то?.. Вот весь прошедший год у Музафара служили, сколько народу у нас перебили русские, а что получили?.. Наобещал горы, а не дал ни чеки[21].
– Ну, у вас-то немного попало под русские пули, тоже осторожность наблюдаете: близко-то не любите подъезжать.
– А под Зара-Булаком?..
– То не вы, а тюркмены.
– Мы тоже с ними были.
– Далеко ишаку до жеребца.
Два киргиза с трудом волокли на веревке большого сома, аршина в два с половиною – мокрое, лоснящееся тело громадной рыбы оставляло на песке широкую полосу.
– Где вытащили?
– А там, за косою. Всю ночь сторожили крючья. Два раза срывался, – отвечали рыболовы, едва переводя дух.
Несколько человек возились с лошадью, у которой одну ногу раздуло, как бревно, и животное понурило голову и смотрело неподвижно мутными от боли глазами, из ноздрей тянулась зеленая материя.
– Должно быть, змея укусила?
– Змея.
– Ну, сдохнет.
– Там, на косе, каких два жеребца вчера околело!
– Эй, сбирайся все к зеленой кибитке: Аллаяр говорить будет! – кричало по лагерю несколько голосов.
Толпа хлынула в ту сторону, где за верблюдами, уложенными в ряды, виднелась верхушка зеленой азиатской палатки. Там слышались литавры и рожок, маленькая медная флейточка наигрывала бойкие трели.
Когда взошло солнце, все было уже на ногах и на своем месте, только на косе уже не видно было угрюмых тюркменов. Кучки холодной золы, конский помет и остатки корма пестрели на влажном от утренней росы песке. Всадников как будто и не существовало.
К вечеру два приехавших в лагерь киргиза говорили, что перед восходом солнца они встретили черных тюркменов в десяти ташах (восьмидесяти верстах) от береговой стоянки.
Кто угоняется за этими степными орлами, которые на своих ветрах-конях не знают, что такое расстояние?
Я слышал, что перед началом наших войн с Бухарою в 1868 году партия черных тюркмен прошла от Дерегуша (на персидской границе) к Чарджую (на Амударье) в двое суток. Тюркмены шли, конечно, одвуконь. Да они, впрочем, редко ходят иначе.
IX. Суматоха
Дикий крик Юсупа, чужая лошадь, прижавшаяся вплотную, выстрелы сзади и гуканье наездников придали откормленному, флегматическому по своей натуре Бельчику и энергии, и силы. Быстро влетела эта оригинальная пара на вершину обрыва и, словно сросшаяся, понеслась по дороге к городу.
Юсуп успел только на одно мгновение обернуться и взглянуть вниз: ему показалось, что Батогов прорвался из этого круга, а значит, через секунду будет вне всякой опасности, разве пуля догонит его Орлика, а уж никак не эти усталые кони барантачей (Юсуп, еще в первую минуту атаки, успел заметить, что лошади неприятеля были значительно изнурены). Это было то мгновение, когда Батогов, ринувшись на разбойников, пытавшихся заскакать наперерез Марфе Васильевне, опрокинул ударом своего коня одного из них и, казалось, открыл себе этим выход. Но это только казалось. Печальной развязки свалки под карагачами не видел уже верный джигит и занят был исполнением последнего приказания своего господина: «Спасай марджу!»
Еще раз оглянулся назад Юсуп. Далеко позади тянулась дорога, ничего на ней не было видно, только клубы пыли, поднятые ногами скачущих лошадей, расползались по ветру и медленно оседали на густую темно-зеленую листву тутовых деревьев…
– Где же тюра? – думал джигит и тоскливо оглядывался на пустую дорогу.
Марфа Васильевна, бледная, испуганная донельзя неожиданной развязкой своей утренней прогулки, в первую минуту забыла обо всем: забыла о Батогове, забыла о Брилло, так неожиданно и так некстати появившемся со своим спутником, секундантом… Ей чудились только кругом страшные, скуластые рожи, длинные пики, ей слышались сзади выстрелы и дикие и яростные вопли, и рев преследователей. А между тем преследования не было никакого.
Юсуп схватил ее за талию (на всякий случай: «Все крепче сидеть будет», – думал джигит). Марфе Васильевне показалось, что ее уже срывают с седла. Она взвизгнула и судорожно уцепилась за гриву Бельчика.
Вдали, много впереди их, белелся китель доктора, прежде всех позаботившегося о своем спасении.
Навстречу, не спеша, ехал всадник, по-видимому, ничего не знавший о происшедшем. Увидев беглецов, он остановил свою лошадь и озадаченно смотрел, стараясь сквозь пыль разглядеть скачущих.
Перлович был у себя на даче эту ночь, он сводил счеты и писал накладные для отправки своего товара на передовую линию. Захо и другой какой-то купец из маловажных только что вышли из сада и садились на лошадей, они приезжали к Перловичу посоветоваться о каком-то особенном торговом обороте: им хотелось поприжать туземных купцов, учинив один из замоскворецких фортелей, и они думали втянуть сюда Перловича, да только тот не мог ответить им ничего более или менее определенного, не потому, чтобы хотел уклониться от предложения, а просто потому же, почему у себя в одной из накладных он машинально написал вместо «для отправки в Яны-Курган – двести коробок сардин малого формата; четыре ящика мадеры № … и т. д.» – «ведь связала же судьба с…» Но тут же спохватился, разорвал испорченную накладную и посмотрел на гостей такими глазами, в которых самый недогадливый мог бы ясно прочитать: «А не пора ли вам по домам, гости почтенные? Мне теперь совсем не до торговых оборотов и замоскворецких фортелей».
– Ты ничего не заметил? – спрашивал Захо своего товарища, тяжело влезая на седло и умащиваясь.
– Это насчет чаю-то?
– Нет, не то, а совсем другое… Мне вот уже второй день кажется, что, судя по некоторым признакам, Перлович или рехнулся, или близок к этому.
– Ну, вот!
– Да, так. У Хмурова тогда: он думает, что его не видели, а…
– Это под окошками-то?
– Да.
– Это действительно странно. Да вот и теперь: чай готов, посуда подана, Шарип и вина принес: потому, немного понатерся уже и знает, что нужно, три часа сидели, а он и не предложил…
– Да ты бы сам налил.
– Неловко.
– А счет-то хмуровский как подмахнул.
– Как?
– Вверх ногами.
– Гм, смотри, скоро подмахнет где-нибудь «Фердинанд восьмой»1 – ну, и баста.
– Диковинное дело!
Едва только уехали купцы, Перлович бросил свою работу и посмотрел на часы.
– Половина третьего, никак уже светать начинает, – подумал он. – Черномазый дьяволенок! – произнес он громко.
– Эге! – отозвался Шарип, показываясь до половины в двери.
– Что тебе нужно?
– Тюра звал сейчас.
Перлович махнул отрицательно рукой и стал наливать себе чай в стакан.
– Неужели они его задержали? – думал Перлович наполовину про себя, наполовину вслух, – это было бы скверно, станут допытываться… не хотелось бы…
– Тюра, – начал опять Шарип у дверей.
– А?
– Самовар… – показал рукою сарт.
Перлович забыл завернуть кран, вода бежала на табурет, с него лилась на ковры и по сакле распространился беловатый пар.
– Эй, эй! – донесся из-за садовой стены сиплый детский крик.
Перлович быстро вышел из сакли, сбежал с лестницы и направился к калитке.
Маленькая фигурка сидела на корточках, как раз у самого порога, и скалила зубы.
– Отнес? – спросил его Перлович, придержав на всякий случай за ворот.
– Отнес.
– Ну что?
– Бить хотели, да я убежал… Акча давай2, ты говорил, много акча давать будешь…
Перловичу хотелось удостовериться, дошла ли его записка действительно по назначению.
– А какой тюра взял у тебя бумагу? – спросил он.
– Там два тюра был: красный и черный, у красного голова завязана, черный – Малайку по морде бил…
Сартенок взялся за щеку и начал жалобно хныкать.
– Акча давай, Малайка спать пойдет, – ревел он все громче и громче.
Перлович сунул ему что-то и выпустил ворот рубашки, за который во время разговора придерживал сартенка, тот подрал по дороге, кувыркаясь по временам через голову и засунув за щеку полученную мелочь.
– Они его там накроют теперь, – думал Перлович.
– Тюра спать будет? – спрашивал его Шарип, когда Перлович шел обратно садом.
– В шесть часов утра…
– Что тюра говорит?
– Чем все это кончится?.. Господи!..
Изумленно глядел Шарип на Перловича, странно ему казалось, – с кем разговаривает тюра? И зачем это он так руками делает?..
– Когда взойдет солнце, чуть только вон там над стеною покажется, – говорил Перлович, теперь уже глядя в упор на своего слугу, – лошадь чтобы была готова, слышишь?
– А теперь Шарип спать пойдет?
– Ступай.
Через минуту Перлович, загасив фонарь, висевший над столом, лег на свою кровать и закрыл глаза. Прошло часа два не то сна, не то какого-то томительного забытья, в котором больная фантазия смешивалась с действительностью; посторонние звуки, храп Шарипа, шелест насекомых, падение на землю переспелых плодов и тихое пение погасавшего самовара ясно и отчетливо поражали слух, только значение этих звуков изменялось и они принимали фантастическое участие в болезненных грезах спавшего. Яркий свет озарил сперва вершины деревьев, потом зубчатую вершину стен, лег полосою на плоской крыше и светлым лучом проник во внутренность сакли. Перлович проснулся.
Часы показывали пять. Пора было ехать. Шарип за стеною шаркал скребницей, отскабливая от шерсти чалого присохшую грязь.
– Куда это он так рано? – рассуждал Шарип, придерживая стремя, пока Перлович садился.
– Нагайку подай! Собаку держи, чтобы за мной не убежала.
Шарип прихватил за ошейник желтого сеттера, который начал визжать и рваться: он привык всегда сопутствовать своему господину и огрызался на удерживающего, пытаясь куснуть его за руку. Перлович поехал шибкою рысью.
Бойко бежал чалый и скоро донес Перловича до триумфальной арки. Здесь всадник повернул влево и поехал шагом. Он набирался стороною, словно не хотел, чтобы его видели, и скоро выбрался на пустыри, лежавшие близ узкого переулка.
Здесь он остановился и слез с лошади. Большие груды кирпича и разного мусора совершенно закрывали его со стороны проезжей улицы, а сзади тянулись кусты, еще не вырубленные для очистки места. Перлович привязал чалого и осторожно пошел пешком, направляясь к стене, за которою чернели две закопченные печные трубы. Он отыскал сквозную трещину, приставил к ней свой глаз и увидел внутренность небольшого двора, в котором, под навесом, стоял на привязи совсем оседланный дамским седлом хмуровский Бельчик.

