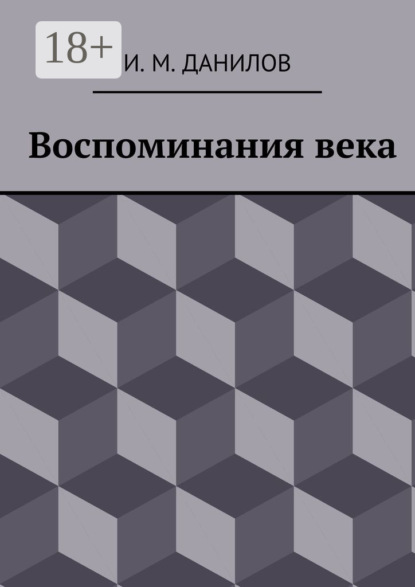
Полная версия:
Воспоминания века
Со второй ступени – 5—7 классы, у нас были организованы «ячейки». Сами мальчишки и девчонки объединялись в группку по 4—5 человек по взаимным симпатиям и интересам. Поощрялось совместное приготовление уроков, и главное предполагалось, что ячейки прививают будущих строителей коммунистического общества к коллективизму, взамен буржуазному индивидуализму личности. Правда, как в ячейках, так и за партами, мальчики были отдельно, девочки отдельно. Исключение в части парт, составляли две пары, пришедшие в нашу группу только в 5 классе. Это были брат и сестра Карповы – Сережа и Оля, а так же брат и сестра Вишневские – Шура и Саша. Сейчас я могу точно сказать, даже в каком ряду они сидели. Но многое и забылось. Когда в 1976 или 1977 году произошла у нас на Кастанаевской первая встреча с несколькими школьными и университетскими друзьями, тогда я еще мог назвать имена и фамилии, а также кто, где сидел за школьными партами.
Хотя, мы, мальчишки нашей группы, не были драчунами, но сильных ребят особенно уважали и старались с ними дружить. В нашей группе таким мальчиком был Сережа Карпов. Он жил где-то на 2-й Тверской-Ямской улице, и пару раз я бывал у него дома в гостях. В группе Ласи, на год младше нашей, Лася познакомил меня со своим товарищем, самым сильным из двух параллельных групп мальчиком Борисом Клевером. В школе его звали Боб. Он был красивым, белокурым стройным мальчиком, немец но национальности. Будучи у Ласи дома, мы часто играли втроем, потому что Боб жил в соседнем Печатниковом переулке. После войны мне как-то Лася рассказал, что судьба Боба сложилась трагически. Подробности малоизвестны, родители были перед войной репрессированы, в первые послевоенные годы Боб оказался в Сибири рабочим в геологической партии, заблудился на охоте в тайге, был найден с обмороженными ногами и умер от гангрены в больнице.
В шестом классе в нашу группу пришел «новенький» Игорь Блюм. Это был худенький мальчик, блондин с кудрявыми волосами, говорил, слегка заикаясь, но необыкновенный умница, с литературными задатками, очень культурный и начитанный. Вместе с родителями жил в одном из хороших, сохранившихся до сих пор, домов на Тверском бульваре, ближе к Никитским воротам. Несколько раз я ходил к нему домой за книгами. С разрешения классного руководителя, Игорь и еще несколько ребят один год выпускали рукописный литературный журнал (так его мы называли), были там какие-то рассказики, стихи. Но Игорь мне особенно памятен тем, что он был первым, кто познакомил меня со стихами Блока и заставил меня выучить наизусть свое любимое стихотворение Блока:
Ночь, улица, фонарь, аптека.Бессмысленный и тусклый свет.Живи еще хоть четверть века —Все будет так, исхода нет… и т. д.И еще нельзя забыть Блюма хотя бы потому, что в седьмом классе он принес в школу томик «Декамерон» Боккаччо и в тайне, после уроков, мы собирались группкой и читали вслух некоторые новеллы достаточно скабрезные и фривольные. Легкое заикание Игорю прощалось, его любили все – и учителя, и ребята. Впоследствии его родители были объявлены врагами народа, все дальнейшее мне неизвестно.
Хороший мальчик, который мне тоже нравился, и к которому я не раз заходил домой, был Андрей Володин, сын Андрея Петровича Володина, нашего учителя рисования. Володины жили в маленькой пристройке к школе прямо на школьном дворе.
Пока я учился в школе, то больше всего дружил с мальчиками, живущими в нашем переулке – Яшей Мезивецким, Сережей Кабановым, Витей Цейтлиным. С Сережей мы просидели вместе на одной парте с 3-го по 5-ый классы, с Витей в 6-м и 7-м классе. После многих лет нам удалось снова увидеться. А было это так. В конце 70-х годов я случайно услышал по радио, что в один из дней начала лета проводится встреча всех выпускников школы №110 по такому-то адресу, причем адрес был моей родной школы №3. И я, не дожидаясь дня встречи, поехал по указанному адресу. Точно – моя школа. Захожу в знакомую учительскую, сидят женщины, одна из них сразу обращается ко мне – «вы, наверное, хотите записать ребенка в первый класс, мы очень рады». Оказалось, что в предвоенные годы, соседнюю школу №10 перевели в здание моей школы, а все семилетние школы были закрыты, в том числе и моя. Только вместо №10 школа стала №110, да еще с углубленным изучением испанского языка (отголоски дружбы с Кубой). Два года подряд я ходил на такие встречи и никого из «наших», увы, не встретил. Зато как приятно было снова походить по таким милым и знакомым коридорам, классам, заглянуть в спортзал, даже физический кабинет с поднимающимися вверх рядами стульев с пюпитрами оставался без изменений. Каждый, из приходивших на встречу, записывался у организаторов на листах с указанием Ф. И. О., адреса или телефона и время обучения в школе. По этим спискам я пытался найти знакомые фамилии, но все безуспешно. Но на второй встрече я обратил внимание, что на одном из листов, рядом с женской фамилией была запись, что в приблизительно мои годы она училась в школе №3, а дальше в №110 и адрес с телефоном. Созвонился с этой женщиной, объяснил ей кого ищу, назвал несколько фамилий своих соучеников, и вдруг на фамилии Модель она мне говорит, что ее подруга замужем за Моделем, который когда-то учился в третьей школе, и дает ее телефон. Звоню туда и попадаю не к Яше Моделю из моего класса, а к его младшему брату Арону. С его помощью и нашел постепенно некоторых старых друзей.
Еще несколько воспоминаний о школе, которые сохранились достаточно отчетливо.
Почему-то, скорее всего это было в четвертом классе, несмотря на то, что мы не были не драчунами, ни маленькими хулиганами, меня стали мальчишки упрекать, что я побоюсь хотя бы раз с кем-нибудь подраться или, как у нас говорили, «стыкаться». Подговорили из параллельного класса Андрюшу Козырева, и на большой перемене мы, совершенно не имея претензий или неприязни друг к другу, устроили драку. Это была первая моя драка, она же и последняя. Поколотили друг друга основательно, были разбиты носы, «общественность» присудила ничью, а классный руководитель сделал запись в дневнике для родителей.
Немного став постарше, я стал испытывать чувство стыда за наше поведение на уроках пения. Учитель пения Иван Петрович был тихий, незлобный человек, всячески старался привить нам любовь к песне и к народной и к классической. Он аккомпанировал сам на пианино, девочки стояли по одну сторону и усердно пели, мальчики по другую, и добрая половина при этом только раскрывала рот, нам казалось это очень умно и интересно. И. П. замечал это, обижался, укоряя нас, стыдил, а нам было как с гуся вода.
В школу и из школы я обычно ходил вместе с Сережей Кабановым. По дороге туда иногда повторяли устные уроки. А когда весной возвращались по Никитской домой, по мостовой вдоль тротуаров бежали ручьи. Мы клали щепку или чей-то окурок в воду и соревновались, у кого быстрее и дальше проплывет его лодочка.
Попросил как-то у мамы рубль и купил на него ровно 100 конфеток-леденцов, назывались они «прозрачные». После уроков группкой человек десять мы дошли до начала Тверского бульвара, где уже был воздвигнут памятник Тимирязеву (кажется так), и там я разделил поровну конфеты. Сели на скамейку, стали сосать и вдруг на нас напали мальчишки из расположенной напротив школы. Мы с позором бежали.
И еще одно обстоятельство, так же из времен младших классов. Мой старший двоюродный брат Ося Луговской (не путать с соседом Осей) уговорил меня приезжать хотя бы раз в неделю на пионерские собрания. К тому времени Ося был комсомольцем и руководил пионерами из числа младших ребят. Вообще это был интернат для беспризорных детей с производственным обучением, при интернате была типография в качестве учебной базы. (Не очень твердо знаю все обстоятельства, но Ося первый ушел от отца – дяди Моисея, и жил в интернате). Хотя интернатские ребята мне казались очень чужими, непонятными, они были плохо одеты, ругались, но ездил я туда помню охотно. Сборы бывали примерно в 18 часов, садился я на трамвай «А» у Никитских ворот и ехал, проезжая Страстную (ныне Пушкинскую) площадь, Петровские ворота, Трубную площадь, Сретенку, Чистые пруды до Покровских ворот. Помимо денег на трамвай (15 коп) мне давали 6 коп на конфеты. В те годы (1924 год) на каждом углу, во всяком случае, у нас в центре, стояли женщины с маленькими лотками с конфетами. Конфеты выпускал «Моссельпром» (Государственный трест Московской сельской промышленности. Здание Моссельпрома, тогда одно из самых высоких в Москве, и теперь стоит в переулке напротив кинотеатра Художественный), а продавщиц так и называли «моссельпромщицы». На 6 копеек я покупал или «Мишка косолапый», или в серебряной обертке шоколадную бутылочку, наполненную внутри чем-то вроде рома. Можно было за 5 коп. купить пару больших сливочных ирисок, или за 3 коп. пару ирисок маленьких. Наверное, в 1925 году меня в Осином отряде приняли в пионеры. Не знаю, как было в других классах, но в нашем, во всяком случае, в обоих параллельных классах 4 А и Б, я был первым пионером, чем очень гордился. Спустя некоторое время, девочка Шура Тулякова стала второй пионеркой. В то же время, я твердо помню, что в школе, даже к моменту ее окончания в 1929 году, пионерской организации не существовало.
Я уже писал, что учился фактически безобразно, в пятом классе преподаватели видимо не выдержали и маме сказали, что, наверное, я мало делаю уроки, а много время трачу на поездки в отряд. На этом моя пионерская эра закончилась.
Все же если вернуться непосредственно к школьным предметам, мне и сейчас непонятно, почему же у меня была такая низкая успеваемость. Никаких настоящих знаний по орфографии, физике, химии и математике я в школе не приобрел, это точно. Прошло после окончания семилетки два года, начались занятия на двухгодичных курсах по подготовке в ВУЗ, удалось кончить только первый год, потом курсы закрылись, поступаю на вечерний рабфак МАИ на второй курс трехгодичного обучения, заканчиваю рабфак – и там и там прекрасные отметки, отличная успеваемость, на последнем дневном курсе повышенная стипендия, хорошо сдаю вступительные экзамены на мех. мат. МГУ летом 1934 года (мне уже 20 лет).
И, под конец, хочу с любовью и уважением вспомнить нашего классного руководителя с 5 по 7 класс – преподавателя русского языка и литературы Ивана Ивановича Зеленцева. Было ему в ту пору, наверное, лет пятьдесят, ходил всегда очень скромно, может быть даже бедно одетым, в черной толстовке, худой и невысокого роста, в пенсне, с седой бородкой клинышком и усами, с седой пышной шевелюрой на голове, таким венчиком, потому что на темечке была лысина. У него я занимался, полагаю, что хорошо. Например, когда мы проходили всякие подлежащие и сказуемые, глаголы, падежи, прилагательные и существительные, суффиксы и прочую премудрость – все это я и понимал и знал. (Правда, позднее забыл начисто). Мы часто уроки по русскому делали вместе с Витей Цейтлиным у него дома. Почему-то при этом, я припоминаю, что сидим мы с Витей в его комнате, нарочно берем томик Тургенева, а у Тургенева находим специально фразу не меньше, чем на полстраницы, и делаем разбор фразы по частям речи, или по частям предложения.
Но особенно хорошо и интересно проходили уроки литературы. И. И. давал глубокие знания, мы изучали творчество Пушкина и Гоголя, Чехова и Толстого, Шекспира, все и не упомню. Писали много сочинений на самые разнообразные темы. Например, проходя Бориса Годунова Пушкина, я выбрал себе темой сочинения «Английский театр эпохи Шекспира». Наверное, И. И. проводил какое-то сравнение трагедий Шекспира и трагедией Пушкина, как иначе объяснить появление такой темы.
К сожалению, у меня не было способности, прочитав и обдумав заданное произведение, написать самому сочинение на заданную тему. Но уже в 6—7 классах я прекрасно умел, пользуясь каталогами, находить в библиотеках русскую или иностранную критику произведения, это могла быть статья в журнале или целая книга о жизни и творчестве данного писателя, и с помощью такой литературы писал сочинения, не два-три листочка, а бывало и целую тетрадку.
Сейчас это кажется удивительным, но тогда моя основная библиотека находилась на нижнем этаже… теперешнего ресторана «Прага» и вход в нее был тот же, что и теперь в ресторан, прямо с Арбатской площади, точно напротив кинотеатра «Художественный».
Сам И. И. был прекрасным чтецом, иногда он часть урока занимал чтением особо важных для понимания сути дела отрывков из произведения, мы слушали с большим удовольствием, наверное, это делалось для того, чтобы заинтересовать нас, чтобы мы обязательно прочитали полностью нужное произведение.
В пятом классе заболел кто-то из учителей, и И. И. решил заполнить перерыв между уроками, он пришел с томиком Толстого и прочитал нам рассказ «Вурдалаки». Почему он выбрал именно этот рассказ, я не знаю, но было так интересно и так страшно, что мы два урока просидели, можно сказать, не шелохнувшись, до сих пор помню это.
Вспоминаю еще, что когда писал о театре Шекспира, я дома впервые взял с полки именно как английского писателя томик Диккенса. Это оказался роман «Замогильные записки Пикквикского клуба». Начал читать, и не мог оторваться. Такой блестящий юмор и так живо и интересно написано, два тома я быстро проглотил, и тут же начал читать «Жизнь и приключения Николоса Никльби», деля время между сочинением с обильными цитатами из некоей книги Миллера о театре времен Шекспира и его трагедиях и так полюбившемся мне Диккенсом. Потом я прочел, наверное, все основные романы этого писателя, его повести и рассказы, и любовь к нему сохранилась навсегда.
Когда мы в каком-то классе изучали фольклор, И. И. нам объяснил, что одним из непременных условий стихотворного построения баллады является первоначальное отрицание того, что последует дальше. Я вспоминаю об этом потому, что один из наших «литературных» мальчишек сочинил тогда такие стишки, нашедшие необыкновенную популярность в классе:
То не конь бежитПо земле сырой,Не земля дрожитПод его ногой.То Ван-Дик* стучитТолстой книгою,На ребят кричит,Тычит фигою.* Про себя в шутку мы звали так И. И. за его прическу и вздыбленные волосы, и переводилось как «Ваня-Дикобраз».
Еще один маленький, но незабываемый штришок, связанный с И. И. В седьмом классе, в первый день занятий после летних каникул, И. И, настоял, чтобы часть мальчишек сели за парту вместе с девочками. Кто отнесся к его просьбе спокойно, а кто стал протестовать. И. И. тогда сказал: «подождите и вспомните меня потом, когда вы сами будете с удовольствием сидеть за одной партой с девочкой».
В заключение скажу, что на упомянутых уже посещениях школы в дни встреч выпускников прошлых лет, мы, пришедшие на встречу, осматривали интересную экспозицию школьного музея. Музей размещался в одном из освобожденных для этой цели классе, были выставлены старые дипломы об окончании школы, снимки директоров и преподавателей, краткие биографии некоторых бывших учеников, ставших учеными, литераторами и т. п. И там был вывешен в рамке большая фотография Иван Ивановича Зеленцова.
И еще, хочу сказать, что в первый год войны, в августе или в сентябре 1941 года в Москве, в Колонном зале, проходил всесоюзный митинг интеллигенции, посвященный привлечению интеллигенции в помощь фронту. В «Правде» прочел, что с яркой речью на митинге выступил учитель московской школы И. И. Зеленцов, вот так!
Летом 1929 года, получив аттестат об окончании семилетнего курса обучения, со школой было покончено, оборвалась и школьная дружба.
Каким-то чудом, из немногого сохранившегося после бомбежки, уцелела единственная школьная фотография, снимок сделан на школьном дворе.
Глава III. 1922—1929 гг. Семья, летние месяцы, внешкольные дела
Однако, если обращаться в прошлое, то кроме непосредственно школы, было еще и многое другое, о чем хочется рассказать.
Итак, папа, как уже я писал, служит управляющим или финансовым директором в частной фирме двух владельцев Моисея Этингера и Дунияха.
Когда мы все вернулись из Крыма, дядя Моисей нанял автомобиль и нас, детей, повезли куда-то на окраину Москвы, показали производство, где выпускались канцелярские товары из бумаги и картона. Несколько раз мы с Леной бывали в фирменном магазине в самом центре около ГУМа, что-то покупали там, что-то нам дарили. С большой гордостью дядя Моисей показал нам большущую вывеску-рекламу магазина, что была прикреплена к внешней стороне белокаменной стены Китай-города на углу Лубянской площади и Театрального проезда. Вход по ступенькам в само здание магазина, ставшего впоследствии продуктовым, сохранился до сих пор. Фамилия Дунияха запомнилась по одной только причине: как-то на террасе дачи в Покровско-Стрешнево родители с Этингером и Дунияхой играли до позднего вечера в карты, а Дунияха приехал к нам на своем велосипеде, оставил его около террасы, который, естественно, в темноте украли.
Продолжая «взрослую» тему, коротко расскажу о дальнейшей судьбе Этингеров. Когда примерно с 1927—1929 гг. НЭП стала сворачиваться, частники – нэпманы торговцы и производители подверглись гонениям и облагались огромными, разоряющими их налогами, семья Этингеров переезжает в Ленинград. В эти же годы папе финансовые органы предъявляют какие-то жуткие требования по уплате налогов за время работы в фирме. Это был первый удар по нашей семье, и, увы, далеко не последний. Около 11 ночи Лена, я, родители возвращаемся с какого-то представления из театра эстрады на Тверской около телеграфа (теперь там театр имени Ермоловой), пьем чай, приходят люди с ордером, описывают мебель и что-то еще за мифические долги, через несколько дней остаемся в пустой квартире. Как долго это продолжалось, не помню, но через суд папа сумел доказать абсурдность требований финансовых органов, т. к. он был не совладельцем фирмы, а наемным служащим. Деньги за конфискованное и уже проданное имущество нам вернули, а из Ленинграда, с помощью Этингера, он привез еще лучшую обстановку.
Дядя Моисей где-то и кем-то служит в госучреждении в Ленинграде, иногда бывает в Москве в командировках, всегда заходит ко мне навестить (я живу один, родители в Сегеже, Лена в лагере), во время блокады умирает его жена, после войны жениться вторично, дети уже взрослые и живут самостоятельно, получает первый инфаркт. Во время моих частых поездок в Ленинград 1949—1957 гг. в связи с работой в судостроительном КБ, всегда навещаю дядю Моисея и его супругу в маленькой квартирке на Невском. В один из приездов узнаю, что по делам дядя Моисей отправился в район Московского вокзала, переходя оживленную площадь, упал, случился второй инфаркт, и был сбит проходившим трамваем со смертельным исходом.
Возвращаюсь по времени назад.
Уроки французского закончились, мы с Леной занимаемся музыкой. Дома отличное пианино одной из лучших немецких фирм «Шредер». Занятия два раза в неделю ведет молодая женщина, окончившая консерваторию по классу знаменитого музыканта и педагога профессора Генриха Нейгауза (она так гордилась этим, что мне потому и запомнилось эти имя и фамилия). Она же дает одновременно уроки Ласе и Симе Этингеру. У нас у всех дома телефоны и мы узнаем таким образом, что если по какой-то причине Валентина Николаевна не приехала к Ласе (первый урок с ним), значит, ее не будет и у нас, что вызывает бурную радость, и это не смотря на то, что занимаемся совсем не из под палки, как говорится. Лена, как более взрослая, играет лучше меня и более сложные вещи, например, вальсы Шопена, мои вещи попроще. Конечно, задаются упражнения – гаммы, арпеджио, ганоны и пр.
В принципе, играть мне нравилось, дядя Давид говорил, что Лена играет лучше, но «души» в музыке больше у меня. Правда, ноты я всегда разбирал трудно, играть прямо с листа не мог, но наизусть запоминал хорошо, какие-то кусочки мог бы сыграть и сегодня. Тем не менее, в 5-м классе я так плохо учился в школе, что родители решают, что с музыкой надо заканчивать, потому что она отнимает слишком много времени.
Зимой мы с Ласей видимся не так уж часто, зато многое время проводим с соседом Осей. Когда были поменьше, играли до одури в солдатики, их было много самых разных и у него и у меня. Очень оба любили, став постарше, ходить или в музей Революции на Тверской, или в Исторический музей и, особенно, в Политехнический. Не могу сейчас объяснить наше с Осей увлечение посещением больших магазинов типа «Пассаж» и ЦУМ на Петровке, и Военторг на Воздвиженке. Мы ходили по всем этажам, смотрели товары в разных отделах, начиная от игрушек и кончая часами или посудой и спорттоварами, или останавливались у витрин магазинов, что выходили на улицы, и поочередно, показывая на понравившийся предмет говорили одну только фразу «чур мое». Почему мы находили удовольствие в таком дурацком занятие?
В погожие не зимние дни, до отъезда на дачу, страшно любили обходить вокруг Кремля, держась как можно ближе к кремлевским стенам. Особенно привлекал нас своей таинственностью грот, что находится и теперь недалеко от могилы Неизвестного солдата. Путь наш обычно начинался с входа в Александровский сад. Там стояли с тележками мороженщики, из цилиндрического бочка, поставленного в набитый льдом деревянный ящик, они ловко доставали металлической полукруглой ложкой порцию мороженого, и клали между двумя круглыми вафлями. В зависимости от цены порции были большая и маленькая. Помимо того, что само мороженое было необыкновенно вкусным, очень привлекательно было и то, что на вафлях были выдавлены всякие имена – Петя, Нина, Ваня и пр. Возвращаясь с такого похода через Красную площадь, мы с Осей обязательно осматривали Лобное место на предмет обнаружения тайного хода. Дело в том, что в одном из номеров приключенческого ежемесячного журнала «Всемирный следопыт», был опубликован рассказ о захоронении библиотеки Ивана Грозного и что поиски его надо вести в одном из подземелий Кремля, а путь туда ведет через Лобное место. В существование лаза и подземного хода мы тогда, конечно, верили.
Еще одно любимое занятие у нас с Осей было катание по тротуарам колеса. Для этого дела лучше всего подходил деревянный обруч от бочонка. Кусок подходящей проволоки выгибался так, что колесо было, как бы обнято проволочной петлей и не могло упасть на бок, но легко катилось вперед. С таким «снарядом» мы совершали большие походы по Тверскому бульвару или ближайшим переулкам, то бегом, то идя шагом.
В возрасте 12—15 лет мы заново открыли для себя лыжи. В Охотном ряду останавливался трамвай №6, который довозил нас с Осей до площади, где теперь станция метро «Сокольники». Рядом была расположена лыжная станция ЦСКА. В залог пальто мы подбирали себе лыжи со специальными ботинками, палки и отправлялись в путь в район теперешнего Богородского часа на три. Там протекала Яуза с невысокими берегами, мы катались с горочек. По возвращению на базу, пили в буфете горячий сладкий чай, который казался нам куда вкуснее домашнего.
По воскресеньям выдавали нам по 15—20 коп., и мы ходили в кино. Для нашего возраста было много картин, в основном заграничных, типа нескольких серий Тарзана, Знак Зорро со знаменитым Дугласом Фербенксом, комедии с участием любимых комиков того времени – высокого худющего длинноногого Пата и коротышки толстенького Паташона – звезд Америки. Смотрели Макса Линдера и Бестера Китона, Гарри Пиля и пр. и пр. Из наших советских фильмов вспоминаются комедии с Игорем Ильинским, какие-то фильмы о стачках, революционерах – нам все было интересно. Но действительно глубокое впечатление оставил фильм «Медвежья свадьба». Уже не так давно его в порядке ретроспективы показали по телевидению, мы с Валей смотрели, и я понял, что это действительно глубокое и захватывающее произведение.
Совсем анекдотичный случай, связанный с кино, был как-то у нас с Ласей. Мы отправились в кинотеатр около дома Роднянских на Сретенке, мне было тогда лет 11—12. Как сейчас помню, попадаем на картину под названием «Правда жизни», наш советский бытовой фильм о том, как надо беречься, чтобы не заболеть самому и не заразить семью … сифилисом! Конечно, поняли мы мало, и неинтересно все это было нам. Когда же мы поделились в Ласиными родителями своим разочарованием от увиденного, они, естественно, пришли в ужас и смеялись одновременно.
Не помню, кто нас научил первым ходам и правилам, но мы с Осей охотно играли сначала в шашки и поддавки, потом увлеклись шахматами. Обычно мы ложились или садились на ковер в спальне моих родителей и там играли долгие партии. Через какое-то время в книжном магазине на Тверской я увидел в витрине книгу Левенфиша «Первые уроки шахматной игры». Мама дала деньги, и эта книга позволила нам понять шахматы гораздо лучше. Из предисловия мы узнали, что автор – наш советский гроссмейстер, книга дала понятия о дебютах, основных пешечных и ладейных окончаниях, о ценности фигур, давала разбор ряда турнирных партий и т. д. и т. п. Будучи в 6-м и 7-м классах, мы стали ходить в Парк Культуры им. Горького, где по выходным дням проводились сеансы одновременной игры за 30—40 досках известными шахматистами. Как и большинство участников этих сеансов, мы проигрывали свои партии, но это нас нисколько не смущало. Даже теперь с некоторой гордостью могу сообщить, что однажды, именно с Левенфишем, мне удалось свести свою партию в ничью!

