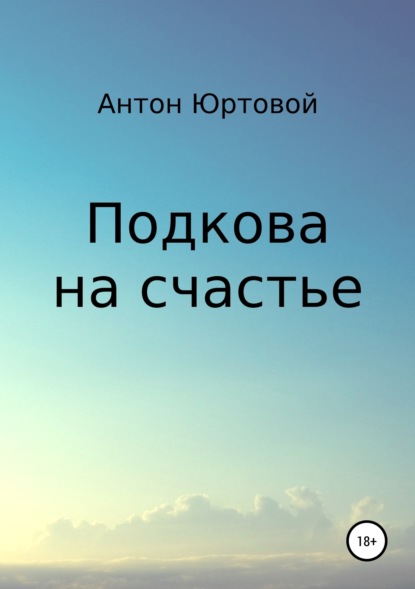 Полная версия
Полная версияПодкова на счастье
Изо всех запахов, какие здесь возникали, мне казались неповторимыми любые, но, конечно, памятью особенно тщательно фиксировались те, какие исходили из приготовленных яств, и в первую очередь из тех, которые задвигались в жар или только в «дух» истопленной пе́чи и дразнили аппетит, дававшие о себе знать уже, бывало, и оттуда, как, например, борщ на молодой крапиве или на ква́шеной капусте, приправляемый свежей курятиной, когда в пе́чи ему полагалось выстояться; будучи же оттуда изъят и когда с чугунка снималась прикрывавшая его крышка, он буквально истрёпывал запахом терпение любого, будто какою глыбою приникая к обонянию и чуть ли не к самим сердцам усевшихся за столом, пока наконец блюдо не разли́то по чашкам, но – запах и после окончания трапезы никак не может сойти на нет, распространённый по всей избе, а когда из-за жары открываются се́нные двери и створки окон, то и – снаружи её, да не может он отстать, кажется, и от чугунка, пусть уже и пустого, даже, прополощенного и выставленного на поло́к для просушки…
Я уж не говорю о чём-то сугубо мясном, а, стало быть, возможном только где-то в холодном сезоне. Что-то истлевшее на своём жире на протвине буквально терзало ноздри своей неустранимой, настойчивой пахучестью, и только то, что к нему недоставало хлеба, что обходиться с ним, совмещать его приходилось с капустой, варёной картошкой или, в лучшем случае, с кашей из кукурузной крупы, только это несколько убавляло восторга и сладкого чувства удовлетворения при его неудержимом, жадном каком-то употреблении, часто с завистью к сидящему рядом или напротив, успевшему принять чуть больше твоего…
Причиной, побуждающей к такому экспрессивному восприятию тогдашней вкусной пищи, можно было бы считать витавший надо всеми и основательно изматывающий каждого голод, когда что бы ты ни съел, а насыщение никак не приходило, так что будь перед тобой поставлено точно то же и столько же, насыщение оставалось бы также неосуществлённым, но, думаю, что в отношении ко дню сегодняшнему говорить можно да и следовало бы об очень важном другом – о нашей ностальгии, печали по прошлому, такому в некоторых случаях прекрасному, что с ним не сравнимо даже наступившее в новой эпохе изобилие, из которого чуть ли не сплошь выставляются на вид пищевые суррогаты, изобретённые в условиях бесчестной погони за наживою и – с расчётливым пренебрежением к тем, кого называют потребителями.
В той сфере продовольственного предложения, какая была привычна в теперь уже почти далёком прошлом, честность ещё воспринималась как что-то стабильное, где никому не было позволено выдавать обман за основу предпринимательского успеха. Она, такая честность, ушла из обихода уже, возможно, вся целиком и – навсегда…
Звуками и непрестанными укусами, как и запахами, также выражалось особое состояние избы, как незаменимого жилища в бедствовавшей деревне. Незначительная шумливость от животного поголовья, которому давался тут приют, – это, конечно, только мелочь; невозможно, размещаясь посреди природы, устраниться от комаров, мух, всякого рода жуков и бабочек, залетавших сюда как будто с полным правом на постоянное здесь пребывание.
Комары начинали досаждать уже с конца апреля, когда проходили первые весенние дожди, и они жалили с каким-то изощрённым остервенением, будучи в полном своём выросте уже сразу с превращением из личинки в крылатое кровососущее насекомое, а забираться в избу они умели, казалось, не только через малейшие прощелины, но и – сквозь сами её стены, да и внутри избы им было где разводиться – для этого годилась и принесённая от колодца вода, и пойло для скота, его остатки, которые предусмотрительнее было сберечь, приготовив с вечера на утро, когда все торопились по своим делам и времени на сборы у каждого было в обрез, так что жужжание этих назойливых сожителей здесь можно было слышать почти постоянно, днём и ночью, разве только чуть менее в полуденные, самые жаркие часы, но уж непременно – всё лето, иногда вплоть до заморозков, и как только удавалось выдерживать их натиск, этого объяснить, пожалуй, не взялся бы никто.
То же, впрочем, касалось и клопов, блох и вшей: человек попросту был вынужден терпеть их укусы; кто-нибудь из улёгшихся спать если немного и поворочается и даже досадливо поворчит на обидчиков, но без сна-то не обойдёшься, и тогда уж те берут своё, а жаловаться принято не было, даже детям, знай терпи – кусают не тебя одного, без разбора.
Мухам избяное пространство тоже хорошо подходило для обитания. Они стаями перелетали с одного места на потолке или стенах на другое место, если на них замахнуться рукой или тряпкой, принципиально же ничего не менялось. Стойкое их жужжание держалось в воздухе всё световое время; ночью же, в темноте, они предпочитали отсиживаться, но – скученно, слегка пошевеливаясь; зажжённая лучина или светильник разом их возбуждали, они вспархивали, сшибаясь на лету, но быстро рассаживались по своим позициям. Настоящей угрозой для них могла быть только паутинная сетка, задев которую муха сразу оказывалась обречённой; как она ни дёргалась и ни билась, будучи пойманной, – спасти её уже ничто бы не смогло.
Небольших пауков, развешивавших сети, дома почитали как добрых помощников. Водились они небольшим числом, видимо, хорошо усвоив правила конкуренции при захвате пространства. Хотя паутина не лучшее украшение жилища, но, учитывая пользу, её не смахивали не только где-то посреди го́рницы или кухни, но порой и в уголках, там, где паукам любо отсиживаться, наблюдая за своими сплетениями.
Колония мух пополнялась постоянно – за счёт прилетавших снаружи, проникать же в избу им удавалось так же сноровисто, как и комарам; особенно много заводилось их в пределах сарая и примыкавших к нему навозных куч, да и всюду вокруг – на улице, в огороде, во дворе – они чувствовали себя в своей стихии, находясь там, что называется, при месте.
В избу их могла привлекать её неповторимая, насыщенная запахами атмосфера, и она, как мне казалось, была предпочтительной лишь для одного вида мух, необыкновенно подвижных и чутких к любой для них опасности, но небольших, представлявших, может быть, свою стаю или отдельный рой и сумевших каким-то образом заявить здесь о своих исключительных правах на поселение неким иным видам и претендентам. Из избы же прогнать их не удавалось никаким способом, а потравить было нечем. Они здесь жили, умирали, засыпали на зиму, чтобы, где-то прячась, возродиться в том же невероятном количестве к очередной весне.
Нечто схожее являли собой и тараканы. Они водились вблизи плиты, где могли рассчитывать на поживу, но были не прочь постранствовать по полу и стенам подальше от неё, забирались и на печь, к лежаку и на при́печь, и даже в духовку, если та остывала или была долго не разогретой.
Тараканы имели цвет чёрный до блеска, бегали шустро́ и не мешая друг другу; останавливаясь, загадочно поводили усиками или лапками, уточняя правильность предпринятого передвижения. Днём они прятались и вели себя скрытно и очень тихо, как, впрочем, и ночью, когда в темноте, находили лакомство или делились им со своими собратьями; особо шуметь они также не старались, издавая лишь лёгкий, какой-то прозрачный и в высшей степени осторожный, будто не их, шорох, отнюдь не лапками или усиками, как можно было бы думать, а своими боками, тесно соприкасаясь ими с соседями.
Неожиданная вспышка света, какой бы малой она ни была, мгновенно нарушала их затаённую скрытность. Тут для них наступала некая неразбериха, при которой следовало убегать куда угодно, то только непременно – с места, где кого вспышка заставала.
Шорох, а если точнее: шелест был теперь как будто взрывным, слышался в полном своём тараканьем звучании, когда в нём узнаётся бег о́собей, не только чем-то напроказивших, но и прятавшихся, где-то даже в дальних своих углах, при этом создаётся впечатление, что в шелестении обозначаются действия чем только можно – усиками, боками, даже подбрюшьями или челюстями.
Промчавшись сплошным потоком по потолку и по стенам, шелестение через какие-то секунды разом прекращается. В остаток выпадает разве что отчаянное барахтанье о́соби или нескольких о́собей в посудине с чем-нибудь жидким, куда те сорвались при разбеге и теперь пытаются оттуда выбраться…
В общем звуковом ансамбле незваных приживальщиков исключительную роль играл сверчок. Его чистым, без помех, стрёкотом изба наполнялась как-то всегда неожиданно, и как он ни заходи́лся в своих, неизменно свежих, хотя и не так чтобы очень богатых вариациях, претензий к нему никто не имел. Стрекочет, ну и ладно.
Слушая его мелодии, очаровываясь ими, я почему-то представлял, что когда на время он так же совершенно неожиданно замолкал, то это было ему очень нужно: он, отдыхая, мог, видимо, продумывать, как бы, при новом его стрёкоте, в нём, следующем звучании, не убыло неповторимой чистоты и ясности, а то даже он мог немного и поспать и во сне улетать куда-нибудь в траву или в иные свежие заросли, на вольное пространство, которое из-за чего-то ему надо было оставить, тайно пробираясь к избе и в неё проникая, прячась в ней и только давая о себе знать музыкой, верной и обаятельной, может быть, в силу того, что исполнение здесь ограничивалось и приобретало наивысшую выразительность как ущерблённое в свободе, поверженное…
Мне здесь приходило в голову, что вероятно и мои полёты по эфиру во сне должны обязательно иметь некий особый, сокровенный смысл и что я начинаю его постигать, хотя и медленно и лишь частью, но именно той, которую постичь всего труднее, связанную с моим желанием, с необходимостью знать, в чём проявляется моя свобода, не пробую ли я через такое желание усложнить свой собственный мир искусственно, дополняя его сферой, куда я проникаю легко и где мне удаётся легко сознавать, что мне там по силам справиться с любым непредвиденным препятствием или обстоятельством, чего, по моей болезненности, мне не было дано на земле, въяве…
Тайна сверчка, как я понимал, основательно завораживала меня, но она усиливалась ещё и тем, что я никак не мог уяснить, стрекочет ли он один, или, может, в избе, кроме него, находится кто-то ещё из их, сверчкового семейства, ведь звучал-то всегда только один, единственный, индивидуальный по тембру и отчётливо мною различаемый, переливчатый в отдельных, немногочисленных ступенях голос и – в самых разных местах, в го́рнице ли, на кухне или в сеня́х, а как в этом во всём разобраться, я не знал, да и не стремился к этому, из-за того, видимо, что я как бы сочувствовал певцу, – всё лето он был моим одомашенным лёгким и светлым кумиром, с его трогательной и увлекающей тайной, почти вплотную смыкаемой с моею…
Разумеется, я не мог бы считать себя вправе говорить о звуках, лишь тех, какие названы мною только что. Голоса наши, членов семьи, они ведь были прямым продолжением нас самих. В избе, в её внутреннем пространстве, им надлежало занимать господствующее положение. То есть это было то естественное, без чего она попросту не представлялась бы – как общее жилище.
С особым удовольствием и даже с волнением я вспоминаю, что если в гамме наших голосов лишь небольшую долю занимали вскрики, пение или смех, что отражало сущности нашего скромного и нищего, заморённого житья, то преобладающим был самый обычный, нешумный, ровный и почти всегда неторопливый и даже по-особенному тихий говор.
Довольно скупы мои наблюдения за тональностью речевого общения в семье, имевшей место ещё при отце, но что касалось мамы, то она умела быть верным охранителем того бесценного, что может собой представлять внутрисемейная сдержанность и толерантность.
Го́лоса, как бы она ни была подавлена, огорчена или раздражена, она повышать просто не бралась да, кажется, и не умела делать этого, равно как в любой обстановке он мог у неё звучать не интонированно, без ударений и акцентов на каком-либо слове или слоге, и, на мой взгляд, в этом было то её высочайшее достоинство и та её искренность, которые всё в ней очищали и украшали её, как мать, призванную защищать свою семью от ненужного внутреннего насыщения морализаторством и лукавыми назиданиями.
Её обращения к кому-либо из нас или даже к кому-то из чужих строились ровно и непосредственно; там не было ничего лишнего, – короткою фразой она обозначала всё, что нужно, не рассчитывая продолжать говорить сверх того, что уже было сказано. Благодаря такой особенности изложения речи, в сказанном ею по-своему торжествовала житейская логика: она понималась неумолимой, когда, например, по отношению к нам, детям, становились совершенно неуместными те же назидания или выговоры.
Что́ от нас матери требовалось, – в виде поручения, просьбы или простого напоминания о чём-либо, – того нам сразу и становилось достаточно; исключались напрочь укоры в непонимании, тугом восприятии и ином подобном, что в других семьях используется издавна и укоренённо, с прибавлением некой всё подавляющей досадливости, сводя тем самым на нет ту целостную массу доверия и доверительности, без которых нет и полноценного совместного проживания за одними стенами.
Стиль ни в чём и нигде не прописанного домашнего общения очень быстро и очень хорошо усваивался нами. Я не припомню ни одного случая, когда бы не только мы со средним братом, ещё малолетки, но и старшие нас имели повод не прислушиваться к словам матери и не соглашаться с ними и с нею, что, впрочем, не могло меняться и позже, когда мы подрастали, взрослели и все становились другими.
Ни одного выяснения отношений через намеренное повышение голоса, через обижающие резкие взаимные наскоки. То есть ничего из того, что используется в житейских или бытовых ссорах. Я это понимал так, что даже не следовало затевать выяснения отношений по такому сомнительному образцу или сценарию. Я здесь говорю не о той гордости, которая даже от пустяка уязвляется в чувствительной детской натуре и может вести к серьёзным затяжным срывам, к непоправимой порче детского характера.
Мой детский опыт, насколько я сам могу судить о нём, имеет значение в том смысле, что мне претило домашнее воспитание, сопровождаемое капризами, когда этим капризам нужно было угождать, тем самым провоцируя уже и соответствующее поведение – с постоянными капризами, какие порой могут выражаться в узорах полнейшей раскованности, нелепостей и абсурда, сопровождаемые истошными криками, визгом, передёргиванием смысла только что услышанного от того, на кого теперь направлено неприятие и неудовольствие, и проч.
Горе той семье, да, пожалуй, в данном случае можно говорить и о стране, о государстве, где потакание капризному и вздорному, взба́лмошному дитяти ведёт к безудержному скатыванию книзу, к худшей черте, за которой воспитание, какие бы официальные методики к нему ни прилагались, исчерпывает само себя, обрекая целые генерации на блеклую и бесстыдную бездуховность.
Произнесённое слово, как средство общения, должно, поэтому, стоить того, чтобы знать, как оно способно служить не во вред, а к пользе, как употреблённое с толком и мерой, с достаточной мерой его ограничивания – путём неиспользования, если хотя бы в чём его неограниченное использование может приносить вред, как тому, кому оно адресовано, так и его произнесшему.
Нет, полагаю, бо́льшего удовлетворения, чем от сознания, что твоя жизнь в семье, а также всех её других членов, не омрачалась неуклюжим использованием средств общения, и тобой, и остальными, включая в первую очередь, конечно, родителей.
Нам, нашей фамильной ячейке, безусловно, очень повезло, что ставшие во главе её наши родители, отец и мать, какой бы малой и недостаточной была их грамотность и образованность, находили в себе возможности понять силу языкового общения в её какой-то почти не тронутой естественности и в таком бесценном виде передали этот дар нам, оставшимся верными их благодатным, искренним и незаметным со стороны попечениям.
С той далёкой поры смущённо гляжу я теперь, как свобода слова, понятая всеми совершенно превратно, хотя и привела к обогащению словарей и ускоренному движению информации, но одновременно исказила языки предвзятым истолкованием их сути, якобы предназначенной быть выраженной каждым как ему вздумается, не умалчивая даже о срамном. Перед прежним, давним употреблением языка в домашнем общении, в нищей деревенской избе, людьми простыми и не стремившимися ко многословию и тем самым – к излишнему и совершенно там неуместному умствованию, по-настоящему, может быть, даже не знавшими, к чему бы они предпочли обратить свои скромные амбиции, и – определённо не знавшими о таинственной мере естественного ограничивания себя перед возможностью открыть через произнесённое слово шлюзы к его болевому воздействию на других, а тем оберечь также и себя, свою совестливость – как не расположенную к нарушению всевластного естественного, хотя и не писаного всеобщего закона, предназначенного к восприятию и неукоснительному исполнению каждым без исключения, – перед таким использованием языка в обиходе, где людям пристало говорить о насущном, то есть – уклоняясь в том числе и от пустяков, я бы сейчас замер в восторге и в трепете, как перед святыней, почти как сознательно отторгаемой в пустоту и рассеиваемой, потерянной, может быть, навсегда…
Говоря об этом, я, разумеется, не обращаю претензий ко всей массе населения; нет; она, эта масса, как раз и желала бы лишь того, чтобы сфера естественности в общении продолжала быть господствующей, но – дело в том, что, доверяясь и будучи искушаема, она испытывает на себе постоянное, эскалационное воздействие новейших проявлений культуры, тех проявлений, где не обходится без использования языковых средств, без словаря; будучи заражена фено́меном свободы творчества и не имея интереса к его компетентному постижению, культура строит свои кредо, уже опираясь на те «ценности», какие сама успела внедрить в массовые представления; вовсе нередко она такие «ценности» попросту навязывает, выдавая их за чистейшую истину в последней инстанции, якобы исходящую из самих глубин общественной, даже больше того: народной жизни, откуда, мол, она, культура, черпает своё…
В таком понимании своей роли особенно усердны деятели сценических видов искусств, кинематографического и театрального, когда коллизии, выражаемые в спорах, в семье ли, на этажах ли корпораций, чуть ли уже не с ходу излагаются в тональности необъятной и ничем не сдерживаемой ссоры или грязной склоки, причём, что ни дальше, то всё более насыщаемой угрюмой и беспощадной злобою и о́ром, так что вскоре кто-нибудь из действующих лиц, схватываясь, устремляется к двери и, убегая через неё и не переставая орать во всё горло, ею, дверью, многозначительно и сильно хлопает, в то время как кто-то другой из остающихся участников действа, возопив о своей чертовской измученности этою обстановкой тотального, уже давно ни для кого ни на сцене, ни в зале не остающегося новостью, разлада, падает в обморок или же сразу и умирает; третьему также ничего не остаётся, как выказать свою крайнюю уязвимость вовсе не улаженной, а как бы взвихрённой, в том числе и им самим, продолжающей пылать ссорою, выворачивающей в душах и лицедеев и зрителей, кажется, последние остатки возможного – понимания степенного и достойного разрешения в общем-то заурядного, незначительного конфликта, и тут как раз у этого самого третьего появляется в руке нож или пистолет, непременно, к случаю, заряженный, и как им, тому или другому, быть тут использованным в отношении следующих присутствующих, кроме уже «помеченных» своими вздорными показушными поступками, всем также хорошо известно – потому как ничего иного не сулилось самою склокою, превращённой в символ будто бы справедливого разрешения конфликта…
Да, разумеется, играющие на сцене хорошо знают, что показанной ситуацией изрядно пощекочены нервы зрителям; как бы с полным правом они воспринимают и положенные им аплодисменты, может быть, даже – горячие и даже вполне искренние, как дань традиции, усвоенной смотрящими из зала, конечно, во вред себе, поскольку это была хотя и культура, но не в её всегда желательном, интригующем очаровании и блеске, а – как её досадный, отупляющий суррогат…
С момента, когда я стал понемногу поправляться, начиналось использование меня, как трудоспособного члена семьи, в делах самого разного рода, как собственно домашних, так и общинных, то есть – колхозных.
Домашних набиралось, как это принято говорить, через край.
Тут и нескончаемые, вслед за течением сезона, работы на огороде, и пастьба коровёнки, телка или хрюшки, и чистка сарая, с раскладкой в нём свежей травяной или се́нной подстилки; теребление кукурузных початков или шляпок подсолнухов; наполнение кормом или пойлом корыт во дворе и в сарае; натаскивание в вёдрах воды из уличного колодца, а это расстояние метров около ста только в один конец и вёдер требовалось на раз не менее десяти; распил дров на ко́злах и поко́л чурбаков на поленья, какие опять же надо было занести в избу, к плите; поручение сбегать к кому-либо из соседей и принести жару из плиты или из пе́чи, так как часто даже развести огонь в своей топке было нечем; изнуряющая работа на тех же дерунах…
Изо всех занятий наиболее подходящим для обозрений местности, но одновременно и очень ответственным, считался выпас бурёнки. Мест, где обильно росла трава, хватало и вблизи от избы на своей улице, и в переулке, примыкавшем к нашей усадьбе со стороны сарая, и на других улицах или в переулках. Здесь пасти было оправданным в дождливую пору или при сильном ветре, когда облака застилали небо и солнце хотя и грело, но не слишком. При такой погоде менее назойливыми становились оводы и слепни.
При полнейшей жаре укрыться от этих своих постоянных летних спутников скот мог только среди кустарников и деревьев или, по крайней мере, в густых бурьянных зарослях, «накрывавших» собою брошенные, давно истлевшие и просевшие в землю прежние избы и дворы при них.
Сад, хотя и заброшенный, к тому не подходил, поскольку он не огораживался, и из него корова была готова в любой момент выйти на грядки, с их соблазнами для неё.
В поисках укрытия скотина могла, медленно поднимая хвост и мотая головой, сначала растерянно и ожесточённо потоптаться или покружиться на месте, а спустя миг – устремиться в иные пределы, хотя бы куда, часто резкими рывками или даже прыжками, лишь бы скорее избавиться от наседавших, беспощадно жалящих насекомых.
В подобном отчаянном беге поведение бурёнки становилось похожим на злые и очень опасные передвижения по арене упитанного яростного, могучего быка, раззадоренного бандерильей тореадора, хотя использовать рога против кого-либо из людей, малышни́ или взрослых, ни она, ни другие дойные коровы склонны не были. О таком даже слышать не приходилось.
В лесной или кустарниковой чаще найти домашнюю кормилицу было делом далеко не простым, а тут речь нередко шла о самой середине дня и, стало быть, о дойке, наиболее важной, пропустить которую не допускалось ни в коем случае, поскольку шло это во вред и семье, и самой корове, ввиду передержки молока в вымени, а его там с утра успевало накопиться до ведра, что не позволяло прибывать новому притоку и организм животного начинал работать с перенапряжением, «с перекосом».
Постичь все тонкости выпаса мне удалось не сразу; некоторое время я был подпаском при среднем брате. Вдвоём управлялись легко. С самого начала брат доверял мне выбирать места выпаса самому, так что одновременно я узнавал и те лесные или кустарниковые, а также бурьянные заросли, куда бурёнка могла направиться, спасаясь от оводов и слепней. По своей инициативе я, например, освоил пастьбу неподалёку от обширного массива зарослей чёрного дуба, начинавшегося в каком-то километре от окраины села. Массив упирался в крутое предгорье, а сам по себе был неплотным: дубки то скапливались в небольшие колки́, то стояли по нескольку вместе или даже поодиночке, позволяя захватывать свободные участки траве с неплохими питательными свойствами.
Если бурёнка сюда и забредала, то я знал, что она далеко не уйдёт, остановится, потираясь хребтом и боками об ветки и одновременно ухватывая сочную траву. Если же она все-таки углубится в заросли далеко от опушки, то, дойдя до возвышенности, сама вернётся назад, – куда же и идти бы ей с полным выменем?
За предоставление ей возможности насыщаться кормовой зеленью в этом месте и, значит, – вести себя свободно и хотя бы в относительной защищённости от насекомых я быстро вошёл к ней в доверие. Она беспрекословно подчинялась мне, позволяя управлять собою, как мне надо. Послушней она вела себя уже и там, где, бывало, впадала в паническое состояние сразу, как только слышала назойливое жужжание своих недругов и начинала испытывать их безжалостные укусы.
Другое подходящее место я выбрал у озера, лежавшего в самом низу склона, который вёл к нему от крайних колхозных животноводческих помещений. В стороне от озера, там, где из него вытекала узкая, но достаточно глубокая протока, вблизи от неё, когда-то раньше стояли около десятка домов, была своя улица с переулками и со своим колодцем. О прежнем поселении теперь напоминали только жалкие остатки былых строений и густые конопляные заросли на них (тут, стало быть, почиталась эта неприхотливая, требовавшая вымочки в воде культура), а также – садовые насаждения запущенные и давно выродившиеся. Улица же с переулками поросли травой и годились для полноценного выпаса.

