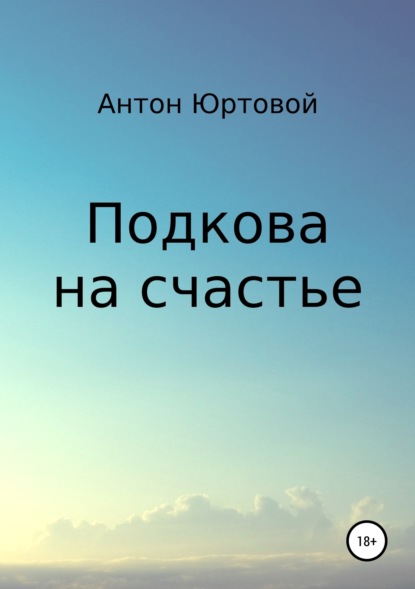 Полная версия
Полная версияПодкова на счастье
Служивым, конечно, не терпелось отличиться и сразу сомкнуть события в дело о тяжком государственном преступлении. Были допрошены ещё мальчишки, заметившие нежданного посетителя, и несколько человек, взрослых, кого сразу при его обнаружении поторопились оповестить те же мальчишки, явно не учитывавшие, чем ситуация могла закончиться.
Пойманный, с одетыми на него наручниками и уже основательно избитый стражниками, находился здесь же, перед лицом собравшихся, но ему энкавэдэшники не задали ни одного вопроса; – во множестве их, видимо, предстояло задать ему позже.
Кара его ждала суровейшая – добавление срока судимости, лет, возможно, в десять или даже больше, а то и – расстрел.
Председательшу с дочкой стражи увели с собой, и те больше в поселение не вернулись; они, скорее, подпали-таки под обвинение и были судимы, что для таких случаев считалось явлением самым обычным…
Моё отношение к инциденту было не вполне отчётливым, поскольку на сходке я не присутствовал и мог рассуждать о нём, располагая лишь услышанным от других. Постепенно произошедшее должно было сгладиться и восприниматься уже в виде слухов, и позже оно, кажется, так только и воспринималось, войдя, как составная часть, в арсенал сообща скрываемого и не подлежащего разглашению «посторонним», то есть – «тайны села».
Хотел бы заметить, что во мне каким-то образом удерживалось по-своему лояльное понимание беглых, когда, если даже речь заходила об их свирепостях, они не внушали мне нужного и неизбежного страха; причиной же тому я мог считать свою болезненность, худобу и в целом тщедушный внешний вид свой, каковой должен был вызывать чувство жалости и сострадания даже у беспощадных преступников, и, как мне об этом уже приходилось говорить, я его вызывал, в том числе – у бесцеремонной детворы.
Данная привычка к послаблениям за свою болезненность со временем только укреплялась во мне, поскольку, даже ощущая своё, хотя ещё далеко и не окончательное выздоровление, я совершенно забывал о страхе, «полагавшемся» на случай, когда бы встреча с беглыми могла стать возможной или неотвратимой.
Это то обстоятельство, ввиду которого я предпочитал отправляться на прогулки уже без сопровождения кем-либо, а в одиночестве, сначала в места, ближайшие к избе и в пределах, когда я не терял бы её из видимости, а потом и подальше, уясняя постигаемые мною достопримечательности, подобно тому, как это мне удавалось, когда я находился в избе.
Я воздержусь слишком забегать вперёд в этом своём рассказе, однако позволю себе слегка нарушить установленный для себя запрет и хотя бы в назывном порядке упомянуть о черте моего характера, подвигавшем меня к действиям вопреки сильно меня угнетавшей болезненности.
Когда я вспоминал эпизод на вспашке огорода, то ловил себя на мысли, что какую-то важную деталь я упускал – из элементарного, может быть, смущения и стыда в самом себе, – поскольку тут мне никак не хотелось показаться нескромным.
Я говорю о той вещи, о которой обычно самому говорить не принято, но если она всё же как-то меня характеризует, то почему бы и не обратить на неё внимание? Будет, пожалуй, верным обозначить её как мою внутреннюю способность быть смелым, но в том единственном смысле, когда она, такая способность, ни перед кем не выпячивается и имеет индивидуальную привязку, находясь «в уме», в своём сознании, причём исключительно в нём, и не выходит оттуда – как не расположенная «применяться» в интересах своего обладателя.
Я здесь опять коснусь моих полётов во сне по воздушному пространству, когда моя смелость перед возможными опасностями как бы и не принималась в расчёт, проявляясь непроизвольно, сама по себе, оставляя меня свободным, от неё не зависящим.
То же самое я мог бы выделить и в моём поведении рядом с лошадкой, тащившей плуг: бояться её и вследствие этого постоянно быть настороже – такого мне даже в голову не могло бы придти. Да и случай в пути из Малоро́ссии, когда я дал стрекача от своего вагона и, вероятно, подсознательно видел в этом какой-то для себя смысл, – он ведь тоже мог исходить из той самой способности, внутренней смелой устремлённости к свободе, и – подпитываться ею.
В дальнейшем течении моего скомканного детства я ощущал воздействие этой своеобразной силы в себе, даже, возможно, шло её постоянное накопление и закрепление во мне.
Здесь мне следовало бы, может, сказать, что во мне страх всё-таки находил место: я боялся темноты, но не любой, а какой-то особенной, погружённой в тишину, когда она как бы замирала, не допуская в себя звуков, даже отдалённых или хотя бы еле слышных, что, например, случалось, когда меня оставляли одного и допоздна никто в избу не заходил; тишина тогда, казалась притаившейся во всех углах, даже вблизи от меня, и я будто бы ждал: оттуда вот-вот протянутся в мою сторону некие чужие и цепкие руки, и они, если ухватятся за меня, будут держать, не отпуская, и я буду мучиться в бессилии, не находя способа, как от них избавиться.
То же самое я мог испытывать, выглянув поздно из сене́й во двор, даже когда все были дома в сборе, но двор не освещала луна; там, в покрывавшей его сплошной темени тишина опять же была всецело замершей: не слышалось хотя бы одного дальнего взлаивания собак или шевеления кур на своём насесте в сарае, так что я мог думать, что в самом неожиданном месте, где-то совсем близко, таились направленные в меня те же цепкие руки, то ли человека, то ли схожего с ним чудища, и я невольно съёживался, предполагая неизбежное страдание и от насилия надо мной, и от моего бессилия перед ним.
Я отдавал при этом отчёт, что тут ко мне возвращаются, конечно, впечатления, какими я бывал подвержен в момент, когда на печи́ я слушал одну из фантастических ро́ссказней и выделял из неё что-то особенное, где не обходилось без жуткой «страшилки», и мне нужно было чуть ли встряхиваться, чтобы отвести от себя эту жуть. Приступы страха перед темнотою, кстати, хотя я и испытывал при этом что-то вроде ужаса, но они как-то быстро прекращались; переборов их, я мог твёрдо, как бы с вызовом, смотреть в темноту, уже зная, что я выстоял, не боюсь её, и теперь опасность не коснётся меня… Глубоких раздумий об этом я старался не допускать, и так она, моя внутренняя особенность быть смелым, продолжала сопровождать меня, я вовсе и не торопился к её выражению через реальность.
Даже в тех случаях, когда я вроде как бывал обрекаем обжечься с нею и при этом ярче осознавать её, я предпочитал не опираться на неё, а тем более: гордиться ею, пусть и не на виду перед кем-либо, а просто так – позволяя себе лишь отчётливее различать её в самом себе. Тогда как раз такое внутреннее средство поддерживать себя самим было мне крайне необходимо; – оно, как я мог об этом судить, имея в виду восприимчивость мною своих поступков, совершённых или только гипотетических, и всего вокруг меня, играло свою значительную роль в моих непрекращаемых наблюдениях, помогая выявлять нечто важное в обыденном…
Перешагнув через присту́пок, из жилой части избы можно было выйти в се́ни. Они состояли из двух отделений, в одном хранились нужные в хозяйстве огородные и другие инструменты и ставились бочки с соленьями.
Бочки были вместительными, до полутора сотен литров. Отдельно засаливались огурцы, помидоры и капуста, посечённая и в целых или разрезанных надвое кочанах, а одна или две бочки, как дополнительные к трём, заполнялись капустой вперемежку с огурцами или же огурцами с помидорами, причём процедура засолки всячески оттягивалась по сроку. Связывалось это с расчётом, чтобы, при отсутствии холодильников или ледяного погреба не допустить перекисания овощей в преддверии холодов – только в этом случае в них могли сохраняться лучшие вкусовые качества, желательные в зимний период. Например, капустные кочаны секли и помещали в ёмкость уже при морозах.
Издержки такого календаря могли быть весьма существенными. Ведь огурцы и помидоры приходилось закладывать позднего срока созревания и к тому же основательно залежалые. Радовались однако и тому, – всё же это был запас.
В зимнее время содержимое выбирали из бочек с трудом, поскольку там оно смерзалось. Требовалось выждать, когда оно оттаивало, и лишь потом его использовали в какой-то стряпне или ставили на стол, как готовый продукт, ценный сам по себе или – в виде дополнения, обычно – к варёной картошке.
Уложенное в бочках сверху покрывалось нетолстыми гладкими дощечками, гладкими ввиду их использования в течение многих лет, а также из предосторожности: как бы в содержимое не попало хотя бы мелкой деревянной ще́почки, и – с закруглениями по краям, так что в целом они образовывали круг, и на каждом таком круге укладывался гнёт – довольно увесистый камень, тоже прилично отглаженный в его бывших острых сколах.
Простые и как будто бы самые обыкновенные вещи, хорошо знакомые сельчанам с детства, где бы они ни жили, но – в данном случае им следовало по-настоящему поудивляться, – ведь здесь они были не откуда-то из близкого места, где их взяли ещё, возможно, в необработанном виде и довели до нужной формы; как раз – не так; вместе с прочим домашним скарбом и дощечки и камни проделали путь в тысячи километров, в неизвестный переселенцам край из далёкого бедственного малороссийского хутора…
Может быть, переезжавшие и знали от кого-нибудь, что здесь, в новом далеке, уж чего-чего, а дерева и камней, что называется не переглядеть и не пересчитать, но таково свойство низовой молвы, стойко, вопреки оповещениям официоза, приверженной «своим», в данном случае хуторским соображениям, отшлифованным спецификой тамошней глухой замкнутости и худого недостатка в любой мелочи.
Должно было помниться им, переселенцам, что если дощечку под гнёт и можно было изготовить самим или же прикупить вместе с бочонком на ярмарке в другом, более крупном поселении, но что касалось тяжестей к ним, то их порой нельзя было найти и в пределах ярмарочной округи, так что и продажа их на ярмарках велась не всегда, редко, при их привозе откуда-то, чуть ли не от самого Днепра, где тот протекал через возвышенности, вследствие чего и цена им держалась постоянно огорчительная для хуторянина.
Теперь же, когда столь нужные семье предметы хозяйственного обихода были доставлены на новое место, становилось уже не в резон избавляться от них: разве они хуже, чем если бы их надо было приобрести здесь?
Допущенная перед выездом из Малоро́ссии хозяйственная нерасчётливость оборачивалась уже иным соображением или смыслом: дощечки и камни под гнёт имели свою неповторимую символику, в которой запечатлевалась грустная эпопея расставания с родиной, с её неспособностью обеспечить сколько-нибудь сносное житьё на ней.
Мать, придирчиво следившая за тем, чтобы и дощечки и камни над солёностью укладывались особо тщательно, то есть – чтобы благодаря им в заготовках эффективнее шло появление рассола, изменится, бывало, в лице, поддаваясь грустным воспоминаниям и неясной, неиссякаемой тревоге, и то же самое, объединявшее светлое и горькое, я замечал в ней, казалось, каждый раз, когда она подходила к бочонкам, чтобы из них набрать нужное для стола, или всего лишь двигалась по сеня́м, направляясь ко входной двери в избу или выходя из избы и непроизвольно, краем глаза поводя на́ сторону, чтобы отметить для себя присутствие тут нужного припаса.
Я не сразу узнал об этой любопытной семейной подробности, но знание тотчас коснулось своим содержанием и моей чувствительной натуры.
Камень ли, притопленный в заплесневелом, остро пахнувшем рассоле, или перекосившаяся под его весом та или иная дощечка – из любой подобной картинки входило в мою душу ощущение какой-то будто не моей опустошённости и беспокойного оглядывания прошлого, с которым так тесно переплеталось сиюминутное, в том числе и моё, такое, как мне казалось, ни для кого не заметное и мало что значащее…
В сеня́х, кроме бочонков с солёностями, складывались плоды тыквы; их бы желательно держать в тепле, но вырастало и убиралось с огорода такое их большое количество, что в избе их не вместил бы никакой угол. Тыквы благополучно зимовали на морозах, пригождаясь и как слегка сладковатый пищевой продукт, когда их варили или запекали для семейного стола, и – в качестве корма для домашней живности, тоже проходившего процесс варки – после соответствующего оттаивания в избе.
К весне же и их постигала одинаковая судьба с другими овощами: хранить их после заморозки становилось невозможно, и, как и подавляющее большинство того, что вырастало вблизи избы, их старались расходовать побыстрее, до наступления весеннего тепла. Исключения тут касались только семечек этой самой тыквы да ещё семечек подсолнуха и зерна́ кукурузы. Жареные семечки, как одни, так и другие, составляли особый вид лакомства и были любимы всеми жителями, от детворы до стариков. Считалось привычным расположить к себе человека, даже незнакомого, угостив его этим лакомством из своего кармана.
Семечки утоляли голод, то есть как бы сопутствовали здоровью. Щелка́вшие их (или – лу́згавшие) – не осуждались, почему щелка́нье входило в привычку не только кем-то наедине, но и когда собиралось много людей. Впрочем, это пристрастие нельзя было относить к разряду чего-то нового. Корнями оно уходило в глубины прошлого и проявлялось заметнее каждый раз именно в связи с нехваткой еды и голодом и не только на селе. Мемуаристы, в частности, не однажды упоминали о шелухе от семечек, чуть ли не сплошным слоем покрывавшей прохожие места в Петрограде в годы гражданской войны.
В нашем селе молодёжь позволяла себе это занятие в редкие встречи в клубе, рассаживаясь на завалинках или наполняя чью-либо избу в холодную пору. Также не отказывали себе в удовольствии пощелка́ть старшие, особенно женщины, для которых в таком увлечении открывались дополнительные возможности обсудить важные для них новости и проблемы. О детях и говорить нечего. Детвора норовила подзапастись семечками уже при их жарке – дома. Нагребали в карманы ещё не остывшие, терпеливо снося нешуточные ожоги на коже ног. Друг перед другом хвастались, хотя делиться ни с кем не торопились.
Шелуха становилась приметой, устранявшей скуку и поощрявшей сельское общение. Её старательно подметали в помещениях, никому не выговаривая за неистребимую тягу к лакомству.
К местам, где лу́зганье не допускалось, относились помещение колхозного правления и оно же – сельсовета, а также школа, не она в целом, с её просторным двором, а класс, где шли занятия, и – коридор к нему. Такое требование исходило от учителя-директора, и вопреки ему, хотя бы втихую, действовать никто не отваживался.
В сеня́х, в отдельной каморке-отгородке помещались так называемые деруны́ – примитивная ручная мельница, с одним горизонтально расположенном жерново́м – круглым, обточенным сверху и снизу камнем высотою до десяти сантиметров, на котором посередине имелось круглое же отверстие, а ближе к внешней стороне – ручка из трубки, насаженной на стержень. Жерно́в по всей окружности обрамлялся стенкой чуть выше его самого, из жести.
Весь комплект укреплялся на подставке и мог быть использован человеком среднего роста. Высокому управляться с ним становилось утомительно из-за необходимости выдерживать позу, при которой изгибался позвоночник. Также нелегко он покорялся детям, хотя это и не служило к их освобождению от процесса помола.
Часто даже меня обязывали отработать на нём некую свою «норму», правда, чуть позже времени, приходившегося на пик моей болезненности. Ручную мельницу заводили ввиду отсутствия водяной или ветряной в колхозе и в значительной степени с расчётом на помол зерна пшеницы или ржи.
Как я уже говорил, колхоз уже к следующему военному лету полностью прекратил оплату по трудодням зерном со своих полей. Нужда заставила крестьян позаботиться о выживании по-своему. На огородах появились посадки кукурузы. В военное лихолетье эта культура хотя и не восполняла отсутствия хлеба, но всё же служила важным пищевым подспорьем, да и кормовым тоже.
Домашние деруны́ выполняли тут свою значительную роль. Кукурузное зерно всыпа́лось в отверстие в центре каменного круга при его постоянном вращении ручкой. В узком пространстве между камнем и окружавшей его стенкой появлялся слой помола. Он, забивая это пространство, только частью сам попадал к выходному желобку и в стоявшую под ним посудину; приходилось помол проталкивать ошкуренной и тщательно выглаженной палочкой или пальцем.
Рука, крутившая жерно́в, уставала до изнеможения, поскольку вторая подпорой туловищу служить не могла, будучи занята всыпкой зерна в заправочное отверстие. Естественно, управление ручной мельницей не обходилось без шума, даже, я бы сказал, грохота. Звуки скрежещущего камня по основе под ним слышались как в избе, так и далеко вне её, на улице, в иных же случаях, например, как относимые ветром, и – в соседних избах, отстоявших одна от другой отнюдь не впритык.
Помолу предшествовала ещё не одна операция, связанная с заготовкой зерна. Кукурузные початки, отламываемые от стеблей, следовало хорошо просушить, для чего кочаны связывали друг с другом их же растительной «обёрткой», и такими связками они развешивались по стенам в избе.
До необходимой твёрдости зерно «доходило» не скоро, да и возиться с кочанами по осени времени у всех было в обрез. Уже с наступлением зимы семья бралась за их очистку, используя тёрки и затрачивая на это целые вечера. Употреблять же кукурузу в пищу начинали задолго до этого, ещё когда зёрна были в восковой спелости и их, ещё на кочанах, варили в воде, считая за деликатес после первых летних месяцев изнурявшего всех недоедания.
Для детворы с появлением початков с ещё мягкими зёрнами на кочанах открывалась возможность на свой лад подкрепиться ими. Зёрна сгрызали с кочанов сырыми, или же кочаны поджаривались в кострище, причём добыть початки мальцы предпочитали не на своих огородах, и такой способ их приобретения становился мерилом некоего удальства, конечно, в первую очередь – для мальчишек.
Отношение к кукурузе колхоза, как производителя сельхозпродукции, было всецело отстранённым, поскольку её выращивание не предусматривалось сезонным планом сельскохозяйственных работ, а вёрстка такого плана по своему усмотрению не допускалась контролирующими инстанциями.
Ошибку годами позже пробовали исправить, но перестарались, обязав заниматься выращиванием культуры на зерно повсеместно, включая хозяйства в приполярных областях, где климат для этого не подходил совершенно. То есть – поработали с нею в условиях государственного режима того времени во вред себе.
Получаемый на домашних деруна́х кукурузный помол просеивали через сито, и то, что оказывалось мелким и шло книзу, имело свойства муки; из неё можно было печь лепёшки, даже кукурузный хлеб, варить на молоке мамалыгу. Верхняя часть, не проходившая сквозь сито, представляла собой крупу; она годилась на приготовление каши. Зёрна в небольшом количестве оставляли немолотыми, для поджарки на горячей плите, когда они растрескивались и манили детвору удивительной пахучестью и отменным вкусом.
С пригоршней такого деликатеса можно было чувствовать себя на высоте, отправляясь в школу или выполняя какое-то дело по заданию кого-либо из семьи.
Само собой, кукурузного запаса в виде муки или крупы надолго не хватало. Ведь им надо было делиться с живностью. Свою долю получала бурёнка, для которой на плите или в печи готовилось варево на воде из картошки, тыквы, свёклы, капусты и чего-нибудь из растительности ещё, справленное также мукою. Отдельно подавалось такое варево хрюшкам, но в примесь им шла сваренная кукурузная крупа. Куры склёвывали крупяной дар сухим. В немолотом виде зёрна животным не предоставлялись, поскольку не достигалось их полноценного переваривания в их утробах.
Можно бы было увеличить посадки кукурузы на грядках, но выделявшиеся на каждый двор земельные участки и так занимали приличные площади; следовало не упускать возможности получить с них все другие виды продукции, нужные и семье, и живности при ней. Увлечёшься одним, недоберёшь в другом.
От кукурузных посадок, впрочем, пользу имели не только в виде зерна. На корм скоту шли стебли; их срезали, связывали в снопы и хранили при сараях. Добавка к запасам травяного сена была существенная. На хорошей почве и при обильных дождях стебли поднимались на много выше человеческого роста. В нашем огороде культуру высаживали и растили как на участках, считавшихся по качеству почвы обычными, так и – на особо изобильных в отношении удобренности; в частности, таким был массив за сараем и от него в сторону сада, соток более десяти. Тут, вблизи от горок навоза, часть которого передерживали, пока он не становился перегноем, почва удобрялась превосходно, и кукурузные стебли устремлялись кверху не то что выше роста человека, а значительно выше и этой меры – на три и более метра. На стеблях обильно выгоняло ветвистые отростки с широкими и длинными листьями, а початков, больших и увесистых, едва ли не на каждом выходило по три и более.
Посадки подсолнухов также надо было воспринимать как обязательные. Семечками не только забавлялись и пытались морить голод. Часть их шла на продажу, куда-нибудь в райцентр или ещё далее. Солидные издержки при этом не останавливали, ведь деньги, хотя бы и совсем малые, в семьях могли считаться настоящим сокровищем. Также не исключалось получение подсолнечного масла с использованием давильни где-то вне своего села.
Одной семье, ввиду скромного запаса сырья, идти на это не представлялось выгодным. Объединялись несколько огородников. Ценилось и масло, и остающийся жмых, называемый у нас макухой. От неё, от макухи, только что привезённой из-под давильни, шёл тонкий пряный запах масла и чего-то сладкого; была она и на вкус достаточно приемлема; дети её уминали за обе щёки. Мне пришлось попробовать её лишь однажды: семья не участвовала в кооперации, и с нами лакомством поделилась одна из соседок.
Лущить поспевавшие семечки из приносимых с огорода шляпок – на это тоже требовалось время, да и поторопиться не мешало, поскольку «инициативу» могли перехватить птицы, охочие до этого корма, особенно в преддверии их перелёта.
Выбитые из шляпок семечки тщательно просушивались попеременно в тени или под солнцем, а затем провеивались на ветру. Эту ответственную операцию брали на себя обычно хозяйки, и им же следовало жарить уже просеянные полновесные зёрна – дабы кто-нибудь из общи́ны не мог сказать, что семечки из той или иной избы – не как у всех.
Из того, что припасалось к зиме, я хотел бы ещё отметить лук и чеснок. Головки лука с оставленными при них подсохшими стеблями сплетали в «косы» и развешивали на сохранение по стенам. Чесночные головки от стеблей отделялись; их складывали куда-нибудь, где бо́льше тени, в один слой, например, под кроватью…
Также немало стараний требовало выращивание табака и приготовление из него посе́чки. Под это растение отводилась небольшая грядочка на задах избы. За отсутствием отца выращивание табака не прекращалось: а вдруг он вернётся!
Стебли при их выросте увешивались массивными широкими листьями, и когда табак цвёл, с грядки несло неповторимым насыщенным сладковатым запахом, от которого быстро могла закружиться голова. Цветки в определённый момент роста подщипывались – так обеспечивалась нужная крепость самосада.
Подвяливание и просушка стеблей с листьями, в тени или под солнцем – эти манипуляции требовали особых знаний и навыков. Мама владела ими вполне, да и из нас, детей, кое-кто, я в том числе, успели хотя бы в малости их перенять. Стебли с неотделёнными от них листьями, выдержанные в соответствии с необходимыми требованиями, могли долго храниться где-то под тряпьём. Готовить из них посе́чку не торопились.
Также не торопились пробовать её в раскурах. В других семьях бывало по-всякому, что же касалось нашей, то к самосаду, как средству дразнить дымом лёгкие, не проявлял интереса даже самый старший наш брат, обретавшийся бо́льшей частью вне дома; это его воздержание заслуживало особой похвалы, тем более, что он находился в интернате, где приобщение к табаку среди подростков мальчишек могло считаться повальным.
У женщин, начиная с девичества, самосад ни в каком виде спросом не пользовался. Это было чертой деревенской жизни, когда раскур в женской среде осуждался с особым пристрастием. Если говорить о маме, то даже в самые тяжёлые, в отчаянные минуты горечи и страдания позволить себе хотя бы одну затяжку из цигарки она не могла, не видя в том достаточного средства успокоить себя. Не шёл самосад и на продажу, как предназначенный в охраняемый ожиданием, строгий запас, – для отца, на случай его возвращения…
В своём наполнении, от внутренних стен до крыльца или – входного порога, изба имела те особенности и специфические запахи, какие, в соответствии с очередным сезоном были присущи ей самой и её многочисленным, живущим в ней обитателям, и находившимся тут предметам – дарам ли от природы, как её украшениям, или – с огорода, внесённым сюда для сохранения или уже как вовлечённые в процесс приготовления и употребления – членами ли семьи или представителями домашней живности.

