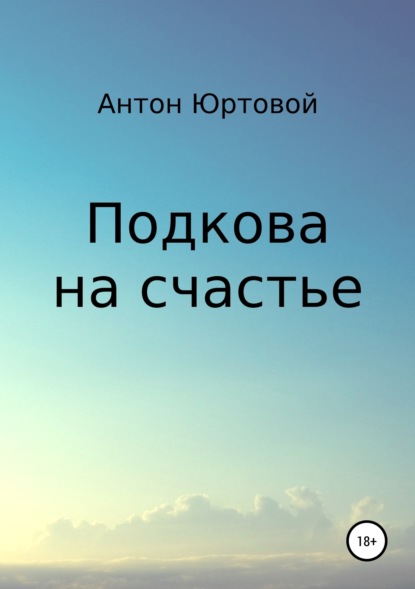 Полная версия
Полная версияПодкова на счастье
Надо ли рассказывать, что значило потерять её? Милый, добрый, дорогой человек. С необычайно светлым сердцем, с постоянной ласковой благорасположенностью к любому, в особенности к нам, её детям. Бедная, сколько же она отстрадала!
У её гроба вместе со мной с нею прощались сестра и оба мои брата. Похороны проходили в морозный и метельный, какой-то очень сумрачный день. До кладбища, по дороге, насплошь укрытой белым снеговым покрывалом, гроб везли на дро́внях со впряженной в них лошадкой. Она знала меня и узнала теперь, выражая своё отношение ко мне лёгкими непринуждёнными кивками головы и чуть шумнее обычного выпуская воздух через влажные ноздри.
Я провёл ладонью по её шершавой, запорошенной снегом и заиндевелой морде, и мне показалось, что как и я, коняжка разделяет доставшуюся нам скорбь.
В сельсовете нам было сказано, что под местное кладбище отведён новый земельный участок; пока не окончательно оформлен документ по нему; но к весне всё будет готово, так что на старом могила усопшей, возможно, окажется последней, место же там передаётся в оборот колхозу, и со временем его, вероятно, распашут…
Поминки удалось провести не совсем по-бедному, как то могло быть ещё каких-нибудь года два назад. К обеденному столу подавались отменный холодец, блины, другие снадобья… Они указывали на важное, что относилось к маме, к памяти о ней: воздалось-таки ей по её тяжким усилиям и трудам, в колхозе и на дому, – достаток, хоть и скромный и с опозданием, но приходил к ней, к нам…
Моё сиротство мне нельзя было воспринимать как одинаковое с тем, какое оно бывало у многих моих бесприютных сверстников.
К избе, в которой я жил и мог хотя бы обогреться, мне следовало при любых обстоятельствах возвращаться и лелеять мысль об её огромной значимости в моей жизни, – даже разделяя крайнюю нищету с обитавшими в ней – моими близкими.
Чувство своего дома трепетно и неизбывно. С ним легче живётся, хотя душа и тоскует и не может смириться, когда порог оставлен и возврат к нему уже невозможен.
С порогом, ставшим для меня родным сызмальства, я удосужился поступить явно неподобающе. Бывает такое: оставшись в одиночестве, человек испытывает некое безразличие к самому себе, к тому, что должно быть ему дорого.
В качестве отрока, готового оторваться от своего невзрачного детства, я вдруг почувствовал, что действительно меняюсь, но не стал придавать особого значения тому, – в какую сторону. Тут был подвох, и его требовалось очень серьёзно осмыслить. Этого не произошло по моей беспечности и какому-то, одолевавшему меня тогдашнему равнодушию.
Мне казалось, я перестал понимать, к чему оно могло привести меня. В таком состоянии, имея после похорон мамы ещё достаточно зимнего времени, я принял предложение моих дружков собираться у меня в избе, чтобы играть в… карты. Да, именно так. Колхоз уже и в мирное время часто использовал на своих работах таких как мы. То требовалось доставить к фермам сена с лугов, то воды, то расчистить какой-нибудь проезд… Но, конечно, это только в дневные часы.
Вечером нас никто не трогал; к той поре становилось уже легче достать и керосина для лампы…
С недели полторы мы играли в дурака, но скоро это нам надоело и наскучило, как не имевшее никакого вещественного интереса, и мы переключились на другое.
Игра называлась «двадцать одно» и предусматривала ставки. Денег у каждого могло найтись по мелочи, и мы рассчитывались нехитрыми личными вещами, какие у кого были, – вроде креса́ла или зо́ски.
Азарт всегда ведёт к увеличению ставок. И здесь также не обошлось без такой суровой закономерности. Она коснулась и меня. Дошло до того, что в один из вечеров я проиграл свою избу, то жилище, в котором мы собирались. Всю, от крыши до погреба. Пока, правда, только её саму, без того, что в ней имелось из наличного скарба…
Могу сказать, что по какой-то странности проигрыш меня нисколько не обескуражил. То есть – будто бы это что-то совсем простое и незначительное. Когда дружки разошлись, я спокойно лёг спать и спал всю ночь, кажется, даже крепче обычного. И на следующий день тревога также не затронула меня.
Возможно, такое моё состояние оказалось для меня решающим.
Вечером, собравшись, мы продолжили оставленное, предварительно отметив, каково положение дел с долгами и прибытком у каждого. Как было ясно, мне следовало исходить из вчерашнего проигрыша. Какую ставку я мог ещё сделать?
Я нашёл: ружье, висевшее на стене на кухне. Поставил на него, и выиграл. На петуха, распевавшего с конца каждой ночи на насесте в сарае; и – снова выигрыш. На корову, – то же самое. На проигранную избу, – в случае неудачи я потерял бы её дважды… Но удача пришла и здесь. Я отыгрался!.. Изображая полнейшую ненапускную невозмутимость, я продолжал игру и, что называется, серьёзно прижал партнёров. Им с огромным трудом удалось расквитаться со мной по ружью, петуху и корове.
Дальше у них просто сдали нервы; им захотелось разойтись, поскольку уже близилось утро.
Больше я в карточные игры никогда не совался. Дружкам посоветовал собираться без меня, где-нибудь в другом месте. Возвращение избы стоило такой позиции.
Медленно приходило осознание того, в каком омуте я очутился и как мне повезло из него выбраться. Повезло не иначе как в соответствии с меткой от удара копытом доброй лошадки на моём темени… Фатализм несостоятелен, поскольку может увести в непредсказуемое. В моём случае он был посрамлён, и это всегда придавало мне определённой уверенности в себе.
Воспоминания, связанные с избой, которую я вдруг по глупости потерял, но сумел вернуть, отдаются во мне тёплой и безмятежной чувственностью…
Объём рассказанного уже достаточен, и пора переходить к заключению.
Само повествование я мог бы прервать уже и на этом месте, поскольку всё последующее я склонен рассматривать как больше не относившееся к периоду моего детства. Изложенным охвачено десять лет, и мой возраст подвигался к шестнадцати годам. Не так далеко до совершеннолетия. В самый раз поставить последнюю точку и тем обозначить итог моему сроку в преддверии взрослости. Перепутье здесь, видимо, всегда имеет двоякий смысл, когда и прежнее ещё в силе, и новое наступает неотвратимо.
В данном случае я говорю об обстоятельствах, которыми сопровождалось окончание моего о́трочества.
Зять-железнодорожник, муж моей сестры, как раз переводился по работе на новое место, в город. Он предложил мне ехать с ними, с его семьёй, чтобы там продолжить образование.
Предложение, как весьма уместное, я принимал с искренней благодарностью, хотя душа моя была смущена.
Моё пребывание в детстве уже перекрывалось полученным от него, – таким оно было обильным и разнообразным по содержанию, и теперь я хотя и вправе был считать себя уже как бы взрослым, однако должен был и понимать: в городе у меня с этим не пройдёт…
Меня опять будут относить к детям, к подрастающему поколению. Для чего мне это?
Хотя такие раздумья тяготили, я всё же не мог не воспользоваться возможностью уехать. Что же было делать? Надо, так побуду в подростках ещё…
Мог ли я вот так рассуждать в то время, не знаю. Уже наступала весна; с отъездом надлежало спешить, похлопотав по части оформления документов, касавшихся отношений с колхозом, мелкой личной собственности, опять же и – избы. С этим помогали зять и сестра.
Наконец всё было улажено, и стал известен срок отъезда, – оставалось около десяти дней. И тут, уже под вечер, появляется у меня на пороге она – с изумительной статью и красоты необыкновеннейшей…
Молодые женщины в том отрезке времени из желания нравиться даже в сильные холода носили на головах легкие цветистые платки, манерно смещая их к затылочной части и краем накладывая их там на взбитые узлом волосы, так что на вид выставлялись полностью лицо и почти вся причёска.
Я находился дома один, топил плиту и готовил себе чего-то поесть к ужину. Молодку я знал хорошо. Замужем она не была; очень задорным и почти вызывающим казалось её поведение в среде молодёжи.
Так, она позволяла себе ни с того ни с сего толкнуть кого-нибудь из находившихся с ней рядом подростков или парней – в снег или даже в лужу, сопровождая такую шутку раскатистым, похожим на трепетный звон колокольчика смехом.
Никому при этом не следовало обижаться на неё: что, мол, с неё взять, с девки, – она ведь с веселья, а не со зла… Нашла почему-то нужным таким вот образом толкнуть и меня. Не ожидая её выходки, я упал в лужу, образовавшуюся при таянии снега, и порядком намок. Видевшие сцену дружно прохохотали, воздавая должное неугомонной шалунье и моей участи посрамлённого.
Как-то, однако, выходило, что провожать её и ухаживать за нею никто не спешил. Жила она у своей тётки на соседней, ближней к нашей и почти насплошь пустой улице, в избе, стоявшей чуть наискосок по отношению к нашей избе, и ей легко было пройти сюда незамеченной по переулку, вдоль которого пролегали заброшенный сад и грядки нашего огорода.
Она явно не случайно забрела в избу ко мне…
Торопливо перешагнув присту́пок и осторожно оглядываясь, кося глазами, она всматривалась в кухонный полусумрак. Открытое лицо её пылало свежестью и каким-то затаённым азартом; дышала она несколько учащённо, и это не могло быть следствием только быстрой ходьбы, если она действительно двигалась по выбранному направлению и по двору ускоренным шагом, – румяные щёки, пунцовые, почти багровые губы и огнистые глаза с поднятыми над ними изящными бровями с лихвой выдавали избыток чувственной неги и неутолённой страсти…
Поздоровавшись как со старым и хорошо знакомым и испросив разрешения, она прошла к кухонному столу и села на лавку, выдерживая загадочную улыбку, в которой светилась фи́кса. Что я делаю и как мне тут одному, не скучно ли, спросила она. И, не дожидаясь ответа, притронулась к моей руке, легонько подержав её.
Видя моё смущение, она отдёрнула свою руку, но тут же несильно ударила ею по моему затылку, нагребая вихры ко лбу, и – залилась негромким, чистым, серебристым смехом, принуждая меня сесть рядом. Я сел. Придвинувшись ко мне, она положила руку мне на плечо и что-то пропела возле моего уха.
Как ни был я сбит с толку, но уже понимал, что со своей стороны мне также не пристало показывать себя рохлей или истуканом. Повернувшись к ней, я взял её за плечи и слегка встряхнул. Она замотала головой, и не успел я опомниться, как она обвила меня руками за шею, прижавшись щекою к моему лицу.
Я ощутил приток её жара и захватывающее дух прикосновение к соскам её пышных, упругих гру́дей. Пытался заговорить о своих неотложных делах у плиты, но она, опять замотав головой и кокетливо повертев пальцами у меня перед носом, буквально впилась своими жгучими губами в мои губы.
Туман застилал мне, кажется, не только глаза, но и разум. Я уже не мог не отвечать взаимностью. Удовольствовавшись восстанием моей силы, она повела меня от кухонного стола, выбирая место…
Это было по-своему очень важное для меня событие, знаменовавшее фактическое отторжение меня от моего детства, отторжение хотя и не по своей инициативе и ещё как будто преждевременное, но становившееся окончательным и необходимым.
Я утверждался в понимании себя созревшим для нового состояния, уже не желая возвращаться к тем ограничениям, какие сопутствовали мне раньше и были обязательными.
Так и происходит при взрослении, и с этим, безусловно, нельзя не считаться, имея в виду, что свобода и здесь не является отвлечённой, – она творит в нас тот выбор, который расстилается перед нами и которому мы не можем не следовать…
В канун моего отъезда ласковая, добрая и страстная фея, как и в несколько предыдущих вечеров с момента первого её прихода ко мне, вновь не преминула появиться на моём пороге. Мы оба не знали, что должно выйти из этой нашей недолгой интимной связи. Слёзные приступы несколько раз одолевали её, но она, как могла, противилась им, не допуская плача вслух и торопливо осушая щёки платочком.
Расставаясь, она не просила помнить её, не говорила о своём большом чувстве ко мне, повторившись в этом нескончаемое число раз прежде, до последних минут. И, вероятно, она хорошо сознавала, что по этой части и я веду себя крайне сдержанно не из желания подчеркнуть своё смущение или – как не имеющий опыта в подобного рода прощаниях…
Нам, деревенским, как бы не полагалось обдаваться явною болью, зная, что расстаёмся мы совсем, навсегда, и, стало быть, заводить об этом речь искренне, от души и без того неимоверно тяжело.
Должно быть, в том состояло повеление наших с нею судеб: её, заставлявшей мириться с неуклюжею перспективой, при которой, несмотря на её отменные внешние и чувственные данные и обаяние, ей, как и многим из тогдашнего молодого женского сословия в своей сельской общи́не, пришлось бы, не имея тут своей вины, оказаться, скорее всего, в отстранении от счастья, признаваемого по установленному общему образцу, в то время как и с моею судьбой всё было ей предельно ясно – по причине осуждаемой разницы в наших с ней возрастах и просто из нежелания скомкать мне жизнь, когда я не мог бы уехать и обрекался бы тащиться по ней здесь, на старом месте, не поискав возможности устроиться иначе…
Нехитрый скарб и всё прочее, что я брал с собой, предстояло разместить в вагоне товарного поезда, который проходил мимо села ранним рассветом и, по ходатайству зятя, должен был остановиться у железнодорожного переезда. Зять помогал мне.
Когда мы вышли из калитки на улицу, сюда, зная о моём отъезде, собралось несколько человек односельчан. Среди них – один из активистов сельского совета и даже сам председатель колхоза, ветеран войны, потерявший на фронте руку почти по локоть. Они проводили нас до крайней избы, и, пока мы шли, во дворах нас оглядывали соседи, посылая в мой адрес трогательные прощальные слова; частью и они присоединялись к процессии.
Очень редкими были случаи столь необычных про́водов, необычных тем, что относились они, как правило, к сельчанам, покидавшим общи́ну по обстоятельствам, неблагоприятным как для них, так и для колхоза.
В моём лице усматривали существенную потерю, не только в виде возможного простого кадрового работника, но и как сумевшего получить семилетнее образование. Таких в общи́не ещё принято было ценить особо… Фея здесь не появилась, предупредив меня при расставании, что как раз тем часом ей надо находиться на ферме при её телятах, и она – не сможет…
Какое-то чувство во мне всё же звало́ её – хотя бы на полминутки…
Надежда не оправдалась. Однако буквально за несколько секунд до того, как, по завершении погрузки вещей, мне следовало подняться в вагон, я неожиданно увидел рядом с собою двоих: ту, у которой я ещё малолеткой подглядел нечаянно приоткрывшееся стыдное, а позже, по обоюдной несдержанности и по вполне объясняющемуся нашему неразумию мы с нею смяли несжатые колхозные овсы; – другим был мой партнёр по карточной игре – это он сначала выиграл у меня, а на следующий день потерял выигранное – мою избу…
Двое теперь дружили, и я знал об их отношениях.
Она, несомненно, помнила о нашем с нею увлечении друг другом и неосторожной интимной связи; я также ничего не забыл, так что мы, иногда встречаясь и болтая, с некоей лёгкой ностальгией взглядывали один на другого, отдавая таким образом дань восторженной былой привязанности, остававшейся непродолженной…
Всё, однако, уходило прочь перед фактом её нового выбора, вполне достойного, как я мог полагать. Теперь она подросла; в ней уже почти заканчивалось развитие пышных девичьих форм, что сообщало ей неожиданную и совершенно неотразимую привлекательность.
С её пареньком, который был старше меня на год, мы приятельствовали несколько лет. Своей тайны, касавшейся его юной подружки, я ему не выдал; её, вполне вероятно, сохраняла и она.
Прощаясь, она дотронулась щекой до моей щеки, а он обнял меня и ладонью, уже по-юношески увесистой, отхлопал по моему плечу.
Добрейшие мои сверстники!
Они, как и я, не заметили, насколько успели повзрослеть и как стремительно выходили из детства…
Прозвучал паровозный гудок, второй раз в мою честь, как я мог считать, – имея в виду остановку товарняка здесь же, в десятилетней давности, когда меня увозили в районный центр спасать после полученного мною удара копытом лошадки; состав, лязгая буферами, тронулся.
На щебёнчатой насыпи рядом с уходившим поездом они взмахивали мне руками и выкрикивали тёплые напутствия и пожелания, пока я был виден им; я отвечал им тем же.
Прощайте! Прощай всё, в этом простом, невзрачном и глухом поселении, словно бы оставленном как наглядный пример жалкого прозябания посреди совершенно другого, звучного и более яркого, бодрого мира, – к нему, этому поселению, и всему вкруг него я имел свое отношение, равно как и всё здешнее, взятое вместе, имело прямое или косвенное отношение ко мне…
Если я и смогу сюда когда-нибудь наведаться, то, скорее, лишь случайно и попутно, всего на какой-то час-другой, чтобы второпях расспросить первых, кто мне встретится, как здесь и что́, в чём и с кем какие перемены, а то и просто я проеду на поезде мимо, наспех осматривая знакомые очертания, хорошо, на́сквозь видную днём со стороны железнодорожного переезда свою улицу и – даже, возможно, оставленную мною избу на ней, если только она к тому времени останется, уцелеет…
Оглядываясь на это своё прошлое и часто вспоминая о нём, я нахожу нужным заметить, что в таком вот окрасе не только во мне, но, вероятно, и вообще почти в любом человеке закладывается и окончательно вызревает то по-настоящему важное и значительное, с чем уже предстоит идти вперёд, дальше…
Я не особенно доверяю людям, когда они, разглагольствуя об их патриотическом восприятии родины, представляют её по своим посещениям отдельных мест своего государства или же просто как территорию этого образования исключительно по карте, как обозначение, названное в учебнике или – назойливой официальной пропагандой.
Будто бы в этом случае они убедительнее заявляют о солидарности с народом, между тем как на самом деле это обыкновенная показуха, желание выставиться на вид, если не сказать большего, когда такая ползучая демонстрация бывает предпри́нята в угоду опять же пропаганде, то есть в конечном счёте – официальной власти, какой бы иногда неуклюжей та ни была.
На фальшь тут не принято обращать внимания, и те же любители патриотствовать едва ли не первыми устремляются вон из их родины, побуждаемые собственной алчностью и корыстью. Убеги за границу превращаются в норму, и я здесь говорю именно о бегстве, когда оно хотя и неосознанно прикрывается ложью.
В том нет никакой необходимости.
Если провозглашена свобода передвижения, то, значит, патриотствование становится игрой, не более.
Гораздо важнее учиться видеть свою жизнь такою, какой она каждому достаётся сызмальства и не теряет очарования никогда и ни при каких обстоятельствах.
То, к чему сводится чувственное восприятие в детской поре, уже неизбывно; им, пожалуй, и следует дорожить более всего. В нём нечему стыдиться; оно свя́то, если даже что-нибудь там не в рамках общепринятого или благого.
По сути это и есть то самое, чего не умеют выразить патриоты, спотыкающиеся на объяснении, что такое для них родина. Осознание себя без лукавства – это хоть и даётся нелегко и далеко не всем, но сто́ит того, чтобы им заняться и по возможности ввести в привычку.
Свой пример, если его можно именовать примером, то есть – понятием истины, годным для усвоения кем-либо с целью повторения, я никому не навязываю. Пусть он остаётся частью меня, моего видения окружающего – вместе со мной. Тут многое до сих пор удивляет меня самого.
В месте, где протекли годы моего осознанного и такого, может быть, незавидного, но по-своему щедрого детства, я оказался по случаю, будучи рождён за тысячи километров от него.
Но как раз в нём я ощутил всю палитру красок моей и сторонней жизни. Разнообразие впечатлений в том десятилетнем сроке, на мой взгляд, не только огромно. В нём есть особенное, подмеченное с чувством изумления и даже восторга…
Почему, летая по воздуху в своих снах, я видел только ту местность, о которой всё время говорил выше? Ведь кое-что мне могло помниться и о своём родном хуторе в Малоро́ссии; не раз и не два я появлялся и даже проживал в иных местах и поселениях, причём – не только в детстве.
Что за фено́мен?
Как бы мне вдруг ни захотелось увидеть во сне что-то другое, это неизменно был тот же хорошо мною оглядываемый вид сверху, не простиравшийся далее пустырей и горных кряжей за пределами деревни, которая сама по себе вроде как вовсе не восхищала меня, будучи разорённой, бедной и запущенной.
С ними, с видениями при полётах во сне по воздуху, теснейшим образом увязывались мои ощущения мягких отвалов на только что вспахиваемой земле; редкие тропы в полях и перелесках; душистые запахи трав и свежего сена; выпадающие обильные снега́ и дожди; ро́сы на растительности; ходьба и беготня босиком без боязни быть ужаленным гадами; моё почти нелепое приобщение к самобытному музыкальному творчеству; мудрость первого моего учителя; очарование своей избой; бесконечно доброе и скорбное в отце и маме; «тайны села», облекавшие запретное; моё непроизвольное постижение сокровенного…
Ни к какой иной обстановке впечатления, включавшие эти и многие другие мои восприятия, не прилагались и, очевидно, прилагаться просто бы не могли.
С картиною облога и всего под нею я смыкался напрочь, принимая её цельной, такой как есть, и я не знаю ничего недостающего в ней…
Как я полагаю, в таком содержании и должно выражаться понятие, обозначаемое как родина. Оно сильно тускнеет под влиянием пустых и лукавых оценок, не пронизанных опытом конкретного осязания…
Мне нелегко даже самому себе объяснить, о чём эта повесть.
Эссеистика в её классическом виде, как жанр, появившийся в дополнение, а, возможно, и в замену других, традиционных жанров художественной литературы, не знает устойчивых и тем более острых сюжетов при изложении текста. Здесь важно другое – чтобы устойчивыми и по возможности более свежими были мысли, какими автор желает поделиться с читателем.
На какого читателя он ориентируется, также бывает не совсем ясно.
Если в данном творении много сказано об особой восприимчивости в детском возрасте и всё текстовое полотно словно бы обра́млено тематикой неизбежного взросления человека, то не возникнет ли у кого сомнений по части некоторых ремарок?
Они могут показаться неподходящими для усвоения в начальном возрасте, а, возможно, кое-кто посчитает их и просто вредными для детской аудитории. На эти сердитые, как их называют, замечания могу ответить, что я бы не хотел иметь среди читателей детского возраста тех, которые живут с чужой подсказки. Будь подсказка даже вполне благосклонной и благорасположенной по отношению к автору сочинения, она также не в состоянии принести заметной пользы.
А в чём польза должна бы быть, я не берусь отвечать на этот вопрос, поскольку речь идёт о сочинении, которое сработано мною, и указывать самому, есть ли в нём достойная поучительность, не вполне корректно. Я написал, и этим свою задачу могу считать выполненной.
Изложенное, возможно, привлечёт, кого-то из ребят, возможно, кого-то из умудрённых педагогов или академиков. Не исключаю, что кем-нибудь обнаружится нечто неприемлемое категорически, когда оно будет связано с пониманием детской литературы в том её виде, как она сложилась и чем представлена в своей классике.
Если говорить о ней в целом, то, на мой взгляд, в историческом плане она разделяется на́двое.
Первая часть, это та её составляющая, когда собственно детской она ещё не значилась и была просто литературой о детских судьбах или близкая детям по её занимательности. Такой она оставалась на протяжении столетий вплоть до первой четверти XX века, когда она одинаково ровно могла устраивать любые читательские круги в разных странах, о чём сейчас напоминают её наиболее талантливые переложения в кинематографе, сценическом и других видах искусства.
Век назад векторы поменялись под влиянием излишней политизации общественной жизни. Тогда писатели и поэты, не особо заботясь о последствиях, существенно заузили значимость книг и отдельных произведений о детях и о детстве, относя их к разряду литературы, называемой теперь детской.
При этом они активно заполняли страницы рябью политизированных доктрин, тем самым выпячивая свою неумеренную спесь и политические пристрастия.
Цель была примитивной – подтолкнуть детское сословие к восприятию образа его жизни как целиком соответствующего властным установлениям, как залог «правильного» их воспитания…
Уже вскоре такое манипулирование показало свою полнейшую несостоятельность, приведя к детскому бездушию, как в частности в ситуации с Павликом Морозовым.
Несмотря на такие и им подобные изъяны концепция детской литературы никем пока не оспаривалась и не менялась; прежней она остаётся до сих пор. Даже больше того: её искусственное прилаживание к задачам текущей политики усиливается – это ощущается даже в том случае, когда автор детской книги или произведения, изображая художественные образы, уличает власть или приближённых власти.

