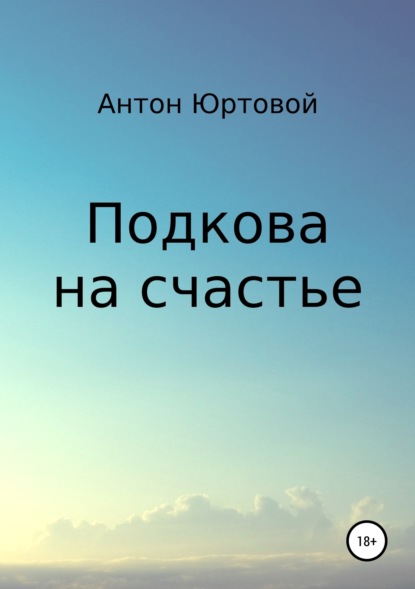 Полная версия
Полная версияПодкова на счастье
…Перемены обозначились и в жизни моего села. Колхоз, как он ни был отсталым, в отличие от того, что раньше он технику брал в аренду у машинно-тракторной станции, обзавёлся своим комбайном и мощным гусеничным трактором. Можно было удивляться, что при этом у него прибавилось и животного тягла́ в виде конского поголовья.
Это были трофейные лошади – рослые и невозмутимые немецкие и низенькие, очень подвижные «монголки», из ресурса Квантунской армии.
Хозяйство обязывалось принять их сверх потребности, поскольку в этой части трофеи оказались изобильными, и не совсем было ясно, что с ними делать.
Лошади требовали много корма, а его и своему-то табунку не хватало, не нашлось и достаточно помещений на конюшне, так что содержались они главным образом в открытых загонах, и участь этого пополнения была, можно сказать, решена. Привыкшие к иному обхождению, с кормёжкой не только травой и сеном, но и зерном, лошади, не успев принести ощутимой пользы хозяйству, начинали хиреть и гибнуть.
Была попытка раздать несколько голов по дворам, в индивидуальное пользование, но такая инициатива не нашла поддержки у властных инстанций, как не соответствовавшая принципам коллективного хозяйствования…
Будучи в дружбе с конюхом, я несколько раз катался на этих жалких существах, уже утративших от истощения свои породные достоинства, вялых и ни к чему не годных. Скоро они все пали, – колхозу и с плеч долой…
…Большим облегчением для местной общи́ны явилось приобретение молочного сепаратора, на котором жители перегоняли свежее молоко, отделяя от него сливки, необходимые для сбивания масла. По-прежнему масло, изымавшееся по налоговым обязательствам, сбивали в бутылях, но резко возрос выход сливок из молока, и теперь частью они шли на стол сельчанам.
Также населению приходилось довольствоваться остатком от сепарирования, называвшимся обра́том или перегоном. Жировые качества молока в нём терялись, но зато весь он оставался у хозяев дойных коров.
В отдельных дворах, там, где его было в избытке, часть его скармливали поросятам, свиньям, а то и телятам, при их рождении, по сути заменяя суррогатом положенное им материнское молоко…
…Коснулись перемены и состава сельской общи́ны: сюда возвращались отвоевавшиеся. Таких, если не считать демобилизованных по ранениям в ходе войны, по её окончании набралось всего трое… Могло быть и больше, но – за счёт пленённых врагом, а они значились бе́з вести пропавшими и, освободясь из неволи, были судимы как предатели и прямиком, на долгие годы отправлялись в советские тюрьмы и лагеря.
…Бывшие военные, которых не коснулся этот чудовищный перемол, искали всяческие способы где-нибудь пристроиться. Вернувшимся к родному порогу оставалось лишь благодарить судьбу, но было много и таких, которые лишились не только приюта, но и своих родителей, близких, в том числе жён.
Что там говорить о книжной верности – очень многие женщины, оставшись без мужей, когда те воевали, предпочли не избегать связей с мужчинами, если они оказывались поблизости и были по-своему свободны.
Бродячий солдат, не знавший, где бы ему остановиться, не был редкостью в послевоенное время. Становясь шатуном, он приобретал все черты изгоя. Такие, испытав беспросвет, часто забредали и в сёла, в колхозы, где пробавлялись заработками, берясь за любые работы.
Найм по договорам, как норма трудоустройства, был здесь ещё не в чести́; он признавался чуждым советскому строю. В сёлах допускались лазейки для обхода запретов, упрятывая их в «тайне села» …
…Один человек из шатунов некоторое время проживал в нашей избе, будучи принят матерью. Как вдову, много лет ожидавшую вестей о муже и официально извещённую о его гибели, её никто бы не мог упрекнуть в неподобающем женском поведении, тем более, что эта её связь возникла по истечении более года с момента получения ею страшного официального извещения и, за исключением летнего периода, она оставалась в доме совсем одна.
Человек показался мне собранным, вежливым, незлобивым, не склонным изводить себя алкоголем. Лет ему было, пожалуй, менее пятидесяти, и выглядел он моложаво и подтянуто. Он воевал на западном, а затем и на восточном театрах войны. Уцелел, но – не вполне ясными были сведения о его семье, жене и троих детях, которые эвакуировались из Киева. Куда и что с ними – этого ему не удавалось узнать, и он ждал, не умалчивая о намерении уехать, если что приоткроется…
Как было верить, что он не отделывается легендой и не привирает? В нём по-своему виделось его достоинство и умение понять других: сначала со мной, приезжавшим домой по воскресным дням, а затем и с двоими, когда в летнюю пору в село наведался средний мой брат, он ни в каком виде не заводил разговора о своей роли, – как отчиме для нас.
Не с руки было говорить на эту тему и матери, верящей ему, возможно, также условно и с осторожной оглядкой, как и мы, её дети.
Возникла та странная разновидность общения с ним, при которой мы испытывали некоторую робость и были смущены из-за невольного его оскорбления, называя его между собой дядей или даже дядькой, а при разговоре с ним – только на вы, при этом воздерживаясь обращаться к нему первыми.
Столь неестественное отчуждение возникло, думается, не просто из-за нашей строптивости. Ладно бы и – отчим, когда он мог бы показать свой настоящий по отношению к нам но́ров, даже, возможно, с поркой ремнём за некие провинности, как то считалось обычным делом в сельской общи́не, о чём я уже сообщал; присутствие мужчины в избе, да ещё и готового на услужение семье, на помощь ей в хозяйственных делах в то время повальной, массовой безотцовщины – уже только одно это должно было восприниматься фактом особой житейской значимости…
Подлинную причину нашего отстранения было бы верным видеть в условиях времени, долгих лет, когда, оставаясь без отца, но постоянно помня о том, что он у нас есть, и не переставая надеяться на его возвращение, мы как бы тем самым упрочивали связь с ним, привыкая отдавать предпочтение перед кем-то из других мужчин, если бы такой находился рядом с матерью, только ему, исключительно…
Поселенец, как можно было догадываться, учитывал это важное, извиняющее нас обстоятельство, примиряясь в нём и ни на что не претендуя. Впрочем, в избе он у нас жил совсем недолго, каких-то несколько месяцев. В ином случае мы, полагаю, были бы не прочь признавать его и за отчима. Когда в очередной раз я приехал домой на воскресную побывку, я уже не застал его…
…Заметных перемен в селении не произошло пока в развитии коммуникаций. По-прежнему не было ни электричества, ни проводного радио, что требовало дорогостоящей прокладки сетей.
Оставалась единственной линия телефонной связи, провисавшая на подгнивших деревянных столбах и подходившая из райцентра к постройке, где размещались администрация колхоза, сельсовет и примерно раз в месяц и то лишь по вечерам действовал сельский клуб.
Таким же, как прежде, громоздким и теперь уже основательно зашарпанным выглядел телефонный аппарат на стене в этом сильно постаревшем и изношенном строении, то и дело неисправный, когда он не обеспечивал надёжной связи…
Прежний невзрачный вид сохранялся и у школы, стоявшей вблизи, чуть напротив этого строения… И жилищный фонд общи́ны также если и обновлялся, то очень медленно: улицы поселения как и всегда раньше застраивались только по одной стороне и пестрели пустотами там, где лепились и уцелевшие избы, обозначая этим убыль жителей и укорочение перспективы местного развития; за войну пустот прибавилось, хотя и теперь, по прошествии нескольких лет после её окончания, их становилось меньше не на много…
…Наверное особой или даже приятной новостью для общи́ны следовало бы считать преодоление вшивости, досаждавшей каждому многие годы. Ради окончательного избавления от этой напасти не приходилось экономить на мыле, старательно кипятились одежда и постельные принадлежности, безжалостно выбрасывались очень старые деревянные кровати, трухлявые обноски. С армией кровососущих наконец-то появились возможности расправиться и вздохнуть с облегчением…
…Новые приметы появлялись во всём, что мог замечать глаз.
Взрослые поддались моде носить резиновые калоши, одевая их на валенки и снимая при входе в помещения, конечно, не в служебные, а – только в жилые. Корректность такого рода возвещала о желании поддерживать чистоту вокруг себя; тогда ведь ещё не было принято разуваться при входе на порог избы или квартиры.
Валенки, одетые в калоши, меньше намокали и меньше изнашивались в подошве, вследствие чего служили дольше, и можно было не особо спешить с латанием протёртостей на валяном материале, что в деревне обычно делали на дому́.
В молодёжной среде появились свои пристрастия. Мальчишки да уже и парни обзаводились зо́сками, демонстрируя ими своё умение привлекать к себе внимание и одновременно – уровень физической подвижности.
Зо́ска – это клочок кожи животного с длинной шерстью, с прикреплённым к этому предмету свинцовым грузилом. Самодельную штуковину подбрасывали кверху внутренней частью обутой ступни, выворачивая колено. Шиком было не допустить промаха и подбрасывать предмет непрерывно по нескольку десятков раз. Иные умудрялись довести счёт и до сотни.
Существовали особые секреты изготовления зо́сок, тщательно хранимые каждым, у кого они были. Это объяснялось тем, что в каждом отдельном случае соотношение длины шерсти на клочке кожи и общего веса изделия сильно разнилось; – шанс выступать удачнее имел тот, у кого оно обеспечивало бо́льшую устойчивость предмета в воздухе и плавность опускания по нему, а значит и бо́льшую вероятность попадания в него. Потеря штуковины приносила настоящее огорчение её владельцу.
Труднее всего изощряться в этом искусстве приходилось мальцам. В семьях не торопились с обувкой детворы в соответствии с размером стопы; мальчики и девочки продолжали донашивать то, что оставалось от старших, да и в продаже для них подобрать ещё ничего не представлялось возможным.
Заведомый проигрыш в подбрасывании зо́ски мог компенсироваться в игре денежными монетами, когда монетой ударяли об стену, стараясь попасть в лежащую по́низу, на земле или на полу, – чтобы поднять её уже как свою собственность.
Попасть удавалось очень редко, но всё же играть стоило, поскольку от брошенной и упавшей денежки позволялось дотягиваться до желаемой условной мерой, растопырив большой и указательный пальцы руки. В отличие от искусства подбрасывать зо́ску, где обходились без девчонок и девчат, в метании монеток участвовали и они.
Также не премину хотя бы упомянуть о тогдашнем увлечении – вставке зубных коронок под цвет золота.
Такая блестящая коронка, обычно единственная на зубах, называлась фи́ксой. Девушки и молодки да и женщины постарше, а с ними и некоторые из парней и молодых мужчин с большой охотой заводили у себя во рту это яркое украшение.
На больной ли зуб или на здоровый коронка насаживалась, это не имело значения. Фи́ксой подчёркивалось отнюдь не превосходство в материальном положении, которого в тогдашних условиях уравниловки в сёлах обеспечивать было практически невозможно.
Преобладало намерение заявить о личном обаянии и достоинстве, о желании выглядеть привлекательнее…
…Считаю необходимым непременно коснуться в этих заметках и той особенной сферы бытия, которая почти не поддаётся воздействию общественным и государственным урегулированием, существуя извечно как сама по себе и тем обеспечивая продолжение людского рода.
Это, конечно, интим, отношения полов, до сих пор недостаточно понятые и подверженные вульгарному истолкованию даже в среде учёных, располагающих сведениями о процессах биологического размножения настолько глубокими, что, кажется, тут и добавить уже нечего, разве что научиться искусственно создавать саму жизнь, как особую форму существования.
Так повелось, что эту сферу как бы упрятывают и будто исходят стыдом, касаясь её содержания, между тем как обойти её никому не дано. Истина, не требующая доказательства и даже спора.
Принято считать, что детям вникать в неё не следует ни в коем случае и чуть ли не до времени, когда они окончательно повзрослеют, получив соответствующий гражданский документ. Сама жизнь опровергает такую нормативность.
В условиях, благоприятных для развития детской физиологии, то есть, когда соблюдаются потребности ребятни прежде всего в питании, в пищевом обеспечении, стремительное осознание чувственного, где дают знать интересы полов, проявляются гораздо раньше неких неопределённых представлений.
Широко ведь известны исторические примеры, когда в ряде стран девочкам позволялось выходить замуж в тринадцать лет, и это было в порядке вещей. Взрослевшим мальчикам вступать в супружество надлежало позже, но лишь по той причине, что к своему сроку им предписывалось иметь соответствующие средства, чтобы обеспечивать ими семью.
Конечно, и в этих случаях взросление, с которым в детском организме возникают естественные необоримые устремления к противоположному полу, рассматривалось, можно сказать, на глазок. Это подтверждалось «непредусмотренной» беременностью девочек – в возрасте десяти и даже восьми лет. И к таким последствиям их приводят не изъяны в воспитательном процессе, как то обычно утверждается и официально, и молвой, а само устройство организма, направленное к воспроизводству…
Мальчикам оно также не чу́ждо, и здесь мало что могут значить даже скудость пищевого рациона или недостаточное разнообразие еды, её низкая калорийность и проч. Я помню, что когда меня, ещё совсем мальца, приводили и́з дому под присмотр к кому-нибудь из соседей, и если там находились девочки моего возраста или близкого к нему, свои или чужие, и они игрались в свои по-деревенски нехитрые игры, мне было любопытно наблюдать за ними.
Из-за бедности девочек тогда и постарше возрастом одевали в какое-нибудь простенькое платьишко, не особо заботясь об исподнем, так что у кого-то из игравшихся нет-нет да и приоткрывалось то, что должно было оставаться прикрытым в любом случае. Подглядывать нехорошо, я знал, но – нехорошо и не прикрываться. На забывчивость и промашки девчонок я тут же бесцеремонно обращал их внимание, насмехаясь над ними и над их смущением и испугом…
Но что было для меня удивительным, – я не мог понять, почему я сам неравнодушен к тому, что видел. Не вообще к чему-либо из приоткрывшегося, а к тому исключительно, обнажать которое хоть бы перед кем девочкам, должно быть, стыдно до ужаса.
Взгляд мой словно притягивался, и я чувствовал, как смущение и даже стыд пронизывали и меня, что, углядев то самое, случайно приоткрывшееся, я словно бы нарушил некое табу́, обязательное для всех.
Тут, несомненно, приходило ко мне ещё неотчётливое, но уже и не совсем смутное представление о своей устремлённости к неизбежному, когда желательное должно сталкиваться с таким же, встречным…
Нет более глубокого чувства, при котором уже знаешь о его важности не только для себя, поскольку твой выбор совпадает со встречным и ты почти различаешь его – кто это из девчонок начинает тебе почему-то нравиться более прочих, не одна ли из тех, над которыми ты изволил насмехаться, изображая беспечное превосходство? И не она ли целой гаммой невидимых условных знаков неожиданно подаёт известие о своём выборе, о вспыхнувшей симпатии к тебе?..
Сельская жизнь давала мне множество поводов соизмерять своё взросление с палитрой действительного, бытующего интима. В нём не обходится без влечения, называемого любовью, но это лишь его возвышенная, идеальная сторона, по традиции освещаемая в литературе и в искусстве. Кроме высокого, в нём есть и иное, прозаичное, что ли.
Как-то спустя, кажется, год с небольшим после завершения войны мне пришлось побывать на молодёжной вечеринке, состоявшейся уже при холодах в одной из сельских изб.
Семьи должны были мириться с проведением у себя таких вечеринок, помня о клубе, открывавшемся раз в месяц, и предоставляя собирающимся го́рницу попросторнее, правда, при отсутствии электрического освещения не торопились подать сюда хотя бы керосиновую лампу…
В комнату набивалось с избытком – взрослых парней с девчатами, подростков, даже детворы. Распевались песни, устраивались потешки, играла гармонь. Уже не обходилось без патефона с минимальным набором пластинок. Музыка звала танцевать. Так и веселились в темноте. Хватало гвалту и толкотни. Лу́згались жареные семечки – прямо на пол.
Вот в такой обстановке и произошло то самое – прозаическое. Кто-то выкриком обращал внимание присутствующих на некое учащённое дыхание и звуки поцелуев, слышные из угла. Чиркнули спичкой, и на лавке у стены обнаружили парочку, в полном и неприглядном виде разделявшей настоящий интим.
Прозвучали возгласы негодования и удивления, но – в них не могло быть искренности…
Иначе говоря, событие не вызвало подлинного осуждения. Парочку никто не оскорбил, даже хозяева избы обошлись без реагирования на произошедшее. Парня и девушку все понимали «правильно» …
Военное и уже первое послевоенное время вносило в осмысление интима свою горестную ноту. Женщины, остававшиеся без мужей и мужчин своего поколения, обрекались на вынужденное половое воздержание на целые годы. Многие из них продолжали быть верными своим избранникам, в угоду молве предпочитая ждать их возвращения, даже если получали справки об их гибели.
Разумеется, в таком виде ожидания должны были указывать на тот печальный факт, что мужской состав оставался сильно разреженным, проще говоря, выбитым войною, – кому-нибудь находить себе пару в нём удавалось лишь в редких случаях.
Далеко не лучшим образом складывались перспективы для подраставших невест. Не имея полноценного выбора, так как их молодые дружки скоро уходили на фронт, а оттуда возвратиться было суждено далеко не всем, они, что называется, тащились по своей колее…
Исключением воспринимался уход в замужество в иную местность по сценарию, в каком определилась моя сестра. В нашей глухой общи́не её пример повторился, кажется, лишь однажды – с её лучшей подружкой, ставшей женою аборигена из какого-то национального поселения, Обе не засиделись в невестах, будучи сосватаны, когда им исполнилось по шестнадцати лет, совершенно не зная своих су́женых раньше.
Другим повезло меньше, иным не повезло вовсе. Численность их возрастала – по сравнению с «подходящим» мужским составом, то есть – надежды определиться с официальным замужеством становились для них всё более призрачными. В таких обстоятельствах найти себе любезную для связи не составляло особого труда.
Припоминается, как в этом преуспел подросток, проживавший в избе рядом с нашей, мой хороший приятель. Он находил нужным при встречах посвящать меня в некоторые детали своей интими́и.
Подружку, молодую вдову, он завёл на дальней окраине села, где в одиноко стоявшей избе та проживала со своей дряхлой матерью. У неё был муж, который не вернулся с войны, и она не знала, что с ним. К тому времени моему приятелю исполнилось всего-то пятнадцать с половиной лет, это всего на каких-то четыре года больше тогдашнего моего…
Об этой его связи в селе знали все, да, впрочем, были тут известны и другие. В любовницах оказывались не только молодки вдовы, но и подраставшие девушки. Надо полагать, от безысходности. Ведь созревавшая плоть не предрасположена к ограничениям и торопится утолиться…
Нюанс тут, однако, состоял в том, что по селу то и дело ползли слухи о чьей-то «случайной» беременности, и они как-то сами собой глохли, истаивали. Так выходили из щекотливого положения, – беременность прерывали искусственно, при этом остерегаясь узаконенного преследования судом. Ведь ничего иного, кроме ро́дов по сроку и технологии, обозначенных самой природой, государством, которое из-за потерь нуждалось в резком приросте численности населения, не предусматривалось. Уклон от такой установки означал преступление.
В роли повитухи выступала мать той самой вдовицы, любезной моего болтливого несовершеннолетнего соседа-приятеля.
Как ни казались открытыми такого рода сведения, за пределы общи́ны они не выходили, облекаемые в оболочку «тайны села», что, подчеркну, и на этом, сакральном плацдарме не могло не говорить о возникавшей своей мудрости у народа, им допускаемой и вполне оправданной – в противовес недоверию и подозрительности правительства.
В детских восприятиях эти условия скрытности и вынужденной фальши уже не имели и не могли иметь оттенков загадочности. Я помню, как я в первый раз сам испытал потрясающую сладость и восторг интима, ещё не дойдя до своего четырнадцатилетия.
По совпадению, это у меня произошло с девочкой-отроковицей почти что моего возраста, одной из тех, которую я когда-то поддразнивал, увидев у неё приоткрывшееся. Она жила вблизи от нашей избы, у общего колодца, где нам приходилось часто видеться.
Подрастая, мы сдружились и однажды, не сговариваясь, прошлись вдоль по своей улице, в её конец и дальше, за переезд, к обширному овсяному полю.
День был тёплый, ласковый, солнце уже готовилось перейти к закату. Беседа наша не отличалась особой изысканностью; мы просто болтали о пустяках, легко перескакивая с одного на другое.
Трудно объяснить, что мы вдруг почувствовали, остановившись и взявшись за руки, при этом с лёгкостью выдерживая неотрывные встречные взгляды друг друга. Было ясно: мы по-настоящему увлечены, я ею, она – мной.
В сознании промелькнуло: это нам ещё рано, нельзя… Однако здесь, посреди поля и под чистым ласковым голубым небом, где нас никто не видел и не искал, нам уже не было дано удержаться перед необоримым…
А однажды, в том же возрасте я оказался в кругу сельских подростков и переростков, заманивших двух девчонок в некий заброшенный сад и устроивших с ними не игровую, а самую настоящую содоми́ю. Было хорошо заметно что-то неразумное, ослепляющее в этом довольно суетливом запретном действе.
Оно, при общем возбуждении, почти не осознавалось отвратительным, но я всё-таки не числился его участником, оставив его и убежав, исходя стыдом.
Не упомяну ни об одной подробности этого срамного происшествия. Содоми́я, она и есть содоми́я, хотя бы и в детском исполнении, безыскусственная, а не изощрённая и потому особо гадостная «взрослая». Скажу лишь, что обе девчонки не воспротивились устремлённой на них стадной похоти.
Их, взрослевших, к такому излишне пассивному и провоцирующему поведению, очевидно, приводила ситуация, при которой возникло недопустимое смещение в природной расстановке полов, отбирающее естественную перспективу у женской половины.
Влияние примера старших, соображения своей будущей невостребованности при искривлении обычных норм взаимодействия полов могли стать причиной образования произвольных, слишком свободных представлений об интиме, откладываемых в подсознание…
Мы, деревенские дети, несмотря на полнейшее отсутствие соответствующей открытой информации, узнавали о процессе воспроизводства человека в его истинности, как правду, в подробностях, значительной частью его порочащих.
А ещё нам было удивительно, что и при таком раскладе в нём остаётся место высокому, что делает его неуязвимым и нужным для всех, что мы, подрастающее поколение, как и взрослые, избежать его воздействия просто бы не могли…
У себя дома, когда я приехал сюда, завершив учёбу в семилетке, меня ждала пренеприятная новость: заболела мама, надорвавшаяся и сильно простудившаяся на колхозных работах.
Местная фельдшерица, приходя в избу, ставила банки и применяла другие нехитрые способы облегчить состояние пациентки; свой вклад здесь пробовали внести и простые сельские женщины, владевшие некоторыми навыками оказания непрофессиональной лекарской помощи; однако осложнение болезни прибывало. Скоро маму пришлось отвезти в больницу в райцентр. Лечение и там не приносило успеха и растягивалось.
Обычно в летние каникулы домой, хотя и ненадолго, приезжал средний брат, но к тому времени он уже закончил ремесленное училище и устроился на работу по специальности, там же, где учился. Я вынужден был в одиночку управляться буквально со всеми домашними и дворово-огородными делами. Их набиралось – не хватило бы пальцев на моих руках и ногах, чтобы их пересчитать.
Летняя пора требовала особой расторопности. К моему удивлению, всё у меня получалось. Я содержал и доил бурёнку, относил на сепарирование молоко, сбивал масло. Также на подворье находились телок, кабанчик, стайка кур, цыплята. На отведённом колхозом лужке накосил сена – припас на зиму. А ещё – грядки, где всё, что успела высадить мама, требовало обработки, и созревал урожай.
Невпроворот дел и в самой избе: варка, стирка…
В качестве налога сдавал масло и яйца заготовительной организации.
О том, чтобы определиться с продолжением учёбы, то есть оставить избу и уехать, нельзя было и думать. Моё образование прерывалось…
Несколько раз наведываясь к маме в районную больницу, я испытывал настоящее отчаяние: она не поправлялась и уже выглядела обречённой, не могла говорить. Оставалось ждать худшего. По единственному телефону в село уже зимой пришла весть о её кончине. Колхоз выделил санную упряжку, чтобы доставить тело…

