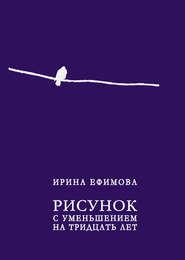скачать книгу бесплатно
На третьем этаже почувствовалось человеческое дыхание, и мы увидели показавшихся в этой ситуации ирреальными мужчину и женщину, рывшихся в куче старья. «Тоже пришли на родное пепелище?» – спросила я, но вразумительного ответа не получила. Тут же бросив своё занятие – быть может, смутились, – персонажи потянулись на четвёртый этаж вместе с нами. На последнем пролёте я напряглась, предчувствуя, что дверь моей квартиры окажется запертой – закон мелкой подлости, имевший некоторую власть над моей судьбой, породил в душе робость и недоверие. Я даже не сразу взглянула в нужную сторону – хотелось немного продлить состояние надежды, – потом решилась и… перевела дух: «мое родное пепелище», как и все прочие, стояло нараспашку. В большом волнении я переступила его порог…
Двери комнат, туалета, кладовки были открыты. В туалете стоял очень маленький – детский – унитаз. Шаги, мои и Татьяны, отдавались эхом в пустоте передней, потом – большой комнаты, потом – маленькой, моей. Я жадно рассматривала каждый участок каждой поверхности, на дощатом полу – те же трещины и щели, облупленная краска. Содрала со стены кусок обоев, приготовившись увидеть под ними наши, ковровые, но их там не оказалось – только слой газеты.
В моей комнате валялись две маленькие туфельки – разные, обе с левой ноги, и один носочек. «Как жили, – сказала подруга. – И это считалось хорошо». Вот здесь, слева, стояла моя кровать с шишечками, над которой долгие годы висел коврик с аппликацией, изображавшей трёх бегущих девочек, взявшихся за руки, в разноцветных платьицах, шляпках, с корзинками в руках, полными ягод и грибов. Они имели имена, я беседовала с ними, особенно когда болела. Мне страстно хотелось, чтобы они ожили, хотя бы изменили позы…
На стене под окном по-прежнему располагались восемь секций чугунного радиатора, который я когда-то протирала мокрой тряпкой. Дверь, ведущая из маленькой комнаты в соседскую и прежде загороженная книжным шкафом – как будто её вовсе не существовало, – была тоже открыта настежь.
Оцепенело, как во сне, я двигалась обратным ходом. Та же кладовка, та же кухня, та же маленькая раковина – никаких признаков горячей воды. Всё то же. Только я совсем, совсем другая…
Не в силах уйти, я вернулась в большую комнату и посмотрела в окно. Далеко, как и тогда, увидела башни Кремля, перед ними – гостиницу «Россия», которой в те времена еще не было – Зарядье кишело в яме огромной вороньей слободкой. Тем же кривым коленом уходил к Яузе переулок с церковью Петра и Павла. У двери большой комнаты на полу лежала незамеченная мной вначале огромная куча чёрных и белых сухарей, как гора черепов на картине Верещагина… Кто-то сухари сушил. Похоже, не понадобились…
– Пойдём, хватит! – решительно прервала сон-явь подруга.
Вышли на лестницу. В соседней квартире всё та же пара вертела в четырёх руках корыто, по-видимому, решая, забирать его или нет. Я спросила:
– Вы жили в этой квартире?
– Я жил в этой квартире. В этой комнате, – сказал он.
– Я жила на третьем этаже, – смущённо сказала она.
Так вот оно что. Жили на разных этажах, а сюда явились вместе перебирать старый хлам.
Я спросила мужчину:
– А сколько лет вы жили в этой квартире?
– Пять.
– Вы знали Вернера Ивановича?
– Кого-кого?
– Вернера Ивановича Вернера. У него были жена Анна и дочь Людмила.
– Аа-а-а, Анна… Да, они жили с Людмилой вон в тех комнатах, а муж умер ещё до меня.
– Да, они жили здесь, – с этими словами я вошла в первую из двух смежных комнат квартиры № 14 и увидела… круглый стол. Это был массивный, добротный круглый стол с толстыми ногами, солидными перекрещивающимися перекладинами, со щелью посередине – во время праздников стол «разводили», как мост, и вставляли между половинками доску; тогда из круглого он становился овальным… Видимо, давно не в чести: шершавый, заляпанный штукатуркой, с одного бока свешивается заскорузлая клеёнка…
Я обмерла, потому что узнала… наш стол! Да, да, напрягала я память, мама ведь отдала Вернеру шкаф, диван и стол… Ещё что-то… Я трогала изъеденную временем поверхность, попыталась приподнять гиганта. Угадав ход моих мыслей, сообразительная Татьяна предложила отвезти его ко мне домой. Увы, это было нереально. Мужчина и женщина, замерев, наблюдали сцену моего безумства…
…Вернер Иванович Вернер жил в соседней квартире. Когда мы въехали в этот дом, Вернер, на мой тогдашний взгляд, был уже старый и смешной (думаю, ему было немного за пятьдесят). Меня забавляло, что у него одинаковые имя и фамилия. Он ходил в линялой гимнастёрке, всегда в одних и тех же брюках, с шахматной коробкой под мышкой. Единым духом он взбегал на четвёртый этаж, и грохот шахматных фигурок внутри коробки сопровождал его возбегание.
Я прожила в этом доме девятнадцать лет и ни разу не видела Вернера Ивановича в верхней одежде – во все сезоны он носился без пальто и головного убора. Именно носился: то ли бегал оттого, что не имел одежды и спасался таким образом от холода, то ли ходил раздетым, потому что не знал иных способов передвижения. Его голова была седа, от небольших светло-голубых глаз лучиками расходились морщинки. Только летом, когда становилось очень жарко, Вернер снимал свой «френч» и переходил на летнюю форму – выцветшую шёлковую тенниску. Я усвоила с детства, что он – ОБРУСЕВШИЙНЕМЕЦ (как у Цветаевой ПАМЯТНИКПУШКИНУ). Трудно выразить, насколько неуместными были в нашем дворе его интеллигентские манеры и интонации. Когда он пробегал сквозь строй старух, воров-рецидивистов и играющих в пыли немытых детей, ему вдогонку летели, как каменья, грубые насмешливые реплики. Он не обращал на них внимания, разве что иногда останавливался и, глядя сквозь похожие на пенсне очки, говорил особо постаравшемуся: «Нехорошо. Некрасиво», что усугубляло дурацкостъ его образа.
Нашу семью он «выделял»: папа – инженер, мама – инженерша; у нас было пианино, я ходила с нотной папкой. Поэтому частенько, пробегая мимо по лестнице – я-то плелась обычно еле-еле, – он хорошо поставленным трагическим баритоном напевал какую-нибудь арию. А в другой раз затевал светский разговор, который мне не хотелось поддерживать – с одной стороны, он раздражал меня своей нелепостью, с другой – мне было его жгуче жалко. Я часто видела его на бульварной скамейке играющим с кем-нибудь в шахматы. Кем он был по специальности и работал ли – не знаю, почему-то такой вопрос у меня никогда не возникал.
Когда я училась в пятом-шестом классе, Вернер повадился приходить к нам петь, а меня просил аккомпанировать. Он исполнял «Сомнение», «Элегию» и другие прекрасные романсы. Голос его могуче и театрально дрожал. По-моему, это было пение, близкое к профессиональному. Маме не нравилось вторжение Вернера в наш дом: он отвлекал меня от уроков и вообще не вызывал у неё симпатии. После маминых намёков он стал приходить реже и в её отсутствие. Я сама не очень-то любила эти концерты, но отказать ему у меня не хватало духу. Вернер Иванович жил с двумя немками, тоже обрусевшими – женой и сестрой. Они занимали две комнаты, из которых одна была проходной. В третьей, маленькой, но изолированной комнате этой же квартиры жила тихая семья с двумя детьми.
Я почти не отличала жену Вернера от его сестры: обе были высокие, сухопарые, одна старше и некрасивей, другая моложе и миловидней; обе одинаково приветливо улыбались, не вступая в разговоры, а лишь кивая в знак приветствия головой. Обе ходили в шляпках, с меховыми муфточками. В отличие от Вернера, степенно поднимались на четвёртый этаж и тихо скрывались в квартире. Из жизни ушли почти одновременно – одна на даче от солнечного удара, другая в больнице от болезни. Вернер остался один и совсем почуднел. Седые пёрыш-ки на голове торчали непричёсанными, на щеках извивались красные склеротические червячки. При каждой встрече на лестнице он елейно улыбался мне, но моя неизменная сухость постепенно подсушила и его манеры в обращении со мной. Лет за пять до нашего выезда из этого дома Вернер женился. Кто-то привёз ему из деревни белотелую, полногрудую, цветущую – кровь с молоком – двадцатисемилетнюю Анну (ему в это время, по неточным подсчётам, было под семьдесят). Так что вместо двух утраченных старых женщин судьба подарила Вернеру одну молодую.
То-то был театр для старух, десятками любознательных глаз провожавших «молодых», когда они шли по двору. Анна ступала важно, не торопясь, не стесняясь взглядов. Вернеру тоже теперь приходилось ходить медленно, что совсем не вязалось с его образом, а также с его лёгкой одеждой. Через год-полтора из большого, круглого живота Анны вылупилась девочка Людмила, и пока она лежала в бывшей до неё в чьём-то употреблении коляске, все успели вволю назлословиться относительно истинного происхождения малютки – не старый же Вернер тому причиной. Но чем старше становилась девочка, тем ясней было, что она как две капли воды похожа на Вернера, а также на его покойных сестру и жену, но только не на Анну. Глядя на малышку Людмилу, перебиравшую тонкими белыми ручками лестничные стойки, я могла дать голову на отсечение, что удлинённое личико с голубыми глазками и белокурые кудри малютки сотворены её престарелым отцом…
Когда началось томительное ожидание переезда в новую квартиру, мама стала избавляться от старой мебели. Я хорошо помню, как широко были открыты двери двух соседствующих квартир, и из одной в другую переселялись вещи…
После нашего переезда ещё в течение нескольких лет до нас доходили слухи о старом чудаке, бегающем по зимнему бульвару без пальто с шахматами под мышкой…
…Вечером того же дня я позвонила маме:
– Мы отдавали Вернеру круглый стол?
Сначала мама ответила утвердительно, но потом вспомнила, что ему отдали шкаф и диван, а стол взяла Зоя Петровна…
Через месяц после этого удивительного визита в выселенный дом мамы не стало. Внезапно, хоть и болела. Через двенадцать лет после скоропостижного ухода папы. Два сильнейших удара, от которых оправиться невозможно. Скоропостижность смерти близкого человека – непостижима. Душа и сердце так до своего конца и существуют неизлеченными. «О, господи! и это пережить… И сердце на клочки не разорвалось…»
…Сижу в лучах заходящего апрельского солнца на террасе с каменными балясинами, слежу за радостными мошками, штопающими воздух (так сказал известный писатель). Наверху – освещённые красноватым светом верхушки вечнозелёных елей. Внизу – полчища бурых, сладострастно урчащих лягушек, они заполонили местность, как крысы тот город, из которого их удалось вывести только с помощью музыки. Поют, свистят, тренькают незнаемые мною птички. Это – рай, лучше уже никогда не будет, разве только в настоящем раю…
Вспоминаю родителей. Думали ли они, что их дочь, их единственный ребёнок станет когда-нибудь грустной стареющей дамой? Солнце уходит за крышу, и луч мгновенно обрывается. Сейчас быстро, друг за другом, наступят сначала ранние, потом поздние сумерки. Затем придёт тьма, набитая (набивная ткань) звездами, быть может, и луной. Так что это ещё не та абсолютная тьма… То есть, ты хочешь сказать, что ещё не вечер? Не обольщайся, уже вечер…
III
В одно прекрасное воскресное утро, проснувшись, я ощутила в своей душе протест: ни одно из тех дел, ради которых надо было встать, умыться и одеться, мне категорически делать не хотелось. Посему после завтрака, оставив немытую посуду, пыльную мебель и недоумевающих домочадцев, я решительной поступью вышла из дома.
Люблю этот троллейбусный маршрут: тянется прямо, без единого поворота, вдоль нескольких старых улиц, переходящих одна в другую, которые – вот что поистине удивительно – почти не изменились на моем веку. Моя остановка. Я сразу перешла на другую сторону улицы, со знанием местности срезала угол и пересекла Покровский бульвар там, где бульвара как такового ещё нет. Постояла у арки заветного двора, но внутрь не вошла.
Сегодня меня тянуло в мой двор – с того дня, когда во всех окнах приготовившегося к капитальному ремонту опустевшего дома отражались одни и те же облака, я там не была. Прошло года четыре. Четыре года, вместившие несколько таких сюжетов семейной хроники, которые уважающий себя романист никогда бы не соединил в одном романе, а если бы позволил себе такое, хороший читатель посчитал бы это признаком отсутствия у романиста вкуса и чувства меры. Но всё это было, было в жизни, притом подряд…
Вот ворота (они всё ещё целы!). Впиваясь взглядом в каждую пядь двора, я медленно брела по нему, пока не видя моего дома – как всегда, его заслонял трёхэтажный корпус, который был мёртв: в воскресенье давно расквартировавшиеся в нём учреждения не работали. В положенный момент, качаясь вверх-вниз в такт моих шагов, показалась левая вертикальная грань фасада, только теперь не красного, как раньше, а светло-жёлтого цвета. Сейчас должно показаться моё окно…
Слева на крутопокатой крыше одноэтажного строения, в котором когда-то жила толстая девочка Ада с толстыми мамой, папой, братьями и сёстрами, сидела ворона и, скользя по склону, рьяно терзала мёрзлый кусок хлеба. В миг, когда пора было уже бросить взгляд на открывавшееся взору моё окно, я отвлеклась на идущего навстречу человека. Короткая дубленка, меховая шапка, усы на бледном, относительно молодом лице, грустный взгляд – таков был моментальный охват взглядом первого встречного «инопланетянина»: этот двор был теперь для меня иной планетой. Почти одновременно я посмотрела на фасад и сразу поняла, что дом тёплый, живой, жилой – с занавесками, гардинами, шторами! В квартирах горели «каскады» и прочие светильники – день был мрачным до предела; форточные проемы окон первого этажа, из которых – в другой жизни – высовывалась Лёлька и насмехалась над моими, якобы слишком большими глазами, были затянуты сеткой ядовито-зелёного цвета.
На четвёртом этаже в моём окне горела… ёлка! Точнее, ёлку с земли я увидеть не могла, но абрис, составленный из маленьких цветных огоньков, не оставлял сомнений: первого февраля в моей комнате стояло наряженное новогоднее дерево.
Соскользнув вниз, взгляд ощутил нечто непривычное, в первую секунду не понятое; во вторую – дошло: подвальные окна заложены, сплошной серый цоколь уходит в землю, и только три малюсеньких квадратных зарешёченных отверстия точно соответствуют бывшим трём подвальным окнам, неотъемлемой части былой жизни. Замечает ли кто-нибудь эти маленькие амбразуры, из которых подсматривает чужое, навсегда замурованное прошлое?..
Я открыла аккуратную застеклённую дверь и через тамбур вошла в респектабельность, которой в прежние времена наш подъезд не знал. Никакой лестницы, ведущей в подвал, как и самого подвала, нет в помине. На глухой стене под первым лестничным маршем висит блок почтовых ящиков. Вспомнились те разноцветные и разнофасонные, что висели прямо на дверях квартир, а потом разом и бесследно исчезли. Были же времена – прямо в квартиры доставляли газеты, приносили в бидонах молоко, в мешках – картошку. Горластые точильщики и стекольщики орали на всю округу, предлагая свои, столь обыденные тогда и столь сложнодоступные теперь услуги…
Поднявшись по нескольким ступенькам на площадку первого этажа, я вместо двери в квартиру № 3 увидела толстую бежевую трубу с ковшом – воистину в дом явился мусоропровод! Вот как… Значит, теперь не надо ходить на помойку в самый дальний угол двора со свёртком из газеты (полиэтилен ещё не изобрели). Неужто и ванны есть в квартирах? И горячая вода?..
В подъезде стояла тишина. Кошками не пахло. Наконец, четвёртый этаж. Вот моя перекладина. Оказывается, она для всех времен и народов. Номер моей квартиры прежний. На кожаной обивке двери металлическая табличка с каллиграфической надписью «ЛЕВАШОВЪ». С твёрдым знаком. Что за люди живут в моей квартире? Почему фамилия с твёрдым знаком? Почему они зажигают ёлку первого февраля, когда все люди забыли о Новом годе?.. Пора возвращаться. На лестнице ни души. И снова двор. Трёхэтажный корпус теперь слева, одноэтажные постройки – справа. Выглядят хоть и убого, но опрятно, как алкоголик, навсегда бросивший пить…
Я оглянулась, чтобы ещё раз взглянуть на своё окно, и тут только заметила, что вдоль грани дома вытянулось худое, длинное дерево, голые ветки которого почти касаются моего окна. А летом-то на дереве листья! И, значит, выглянув из окна во двор, который раньше не знал никакой растительности, можно упереть взор в шелестящую зелёную листву!
Выйдя из ворот, я пересекла переулок, прошла вдоль когда-то серого, а теперь грязно-жёлтого дома, в котором был наш магазин «серый» и в котором жила Тамарка Дмитриева – это ей я сигнализировала пионерским галстуком, что мамы нет дома, а, стало быть, путь открыт (вместо занятий мы читали Джерома К. Джерома и Марка Твена и катались от смеха по полу), – и вошла в магазин. Навстречу, держа в руке незажжённую сигарету, по грязной хлюпающей кашице, лежащей на метлахской плитке, шёл встреченный мной возле моего (его?) подъезда относительно молодой человек с грустными глазами. Он двигался к выходу из магазина, я в него вошла. Пройдя пару шагов по направлению к гастрономическому отделу, я оглянулась; он, прежде чем исчезнуть из моего поля зрения, оглянулся тоже…
Порадовавшись тому, что церковь Трёх Святителей, что на Кулиш-ках, царит, наконец, на вершине переулка отреставрированная, покрашенная, очищенная от окружавшего её хлама, я уехала домой…
В эту ночь мне, как всем героям всех литературных произведений, приснился сон…
Всю свою жизнь я ни одной минуты не сплю без сновидений. Стоит только «отрубиться» на пять минут на диване или задремать после бессонной ночи в кинотеатре, я тут же включаюсь в сюжет, не связанный с той явью, из которой только что выбыла. Некоторые сюжеты в течение жизни повторялись более двух раз. Так, когда мне было лет пять, мне приснилось, что я иду за руку с няней Настей и с ужасом наблюдаю, как огромное, тяжёлое, серое небо быстро опускается на землю – гибель в толстом слое мрачной серой массы неминуема. Этот сон повторялся потом раза четыре, только уже без Насти, отчего было ещё страшней.
Или такой сюжет – один из немногих приятных, к тому же цветной: я лечу над нежно-зелёными холмами и долинами, овеваемая душистым ветром, руками и ногами делаю движения, как при плавании брассом. Мне изумительно хорошо, легко, тело наполнено воздухом и не собирается приземляться. Этот сон тоже повторялся несколько раз в разные периоды жизни, с разными вариантами воздушного бассейна – от высокого неба до небольшой, вытянутой, как пенал, комнаты, где я тоже не ходила, а летала над полом. Этот последний вариант был настолько явственен, настолько я ощущала эти движения руками и ногами, это сопротивление воздуха, что, помню, мне некоторое время казалось, будто это было наяву…
Сюжет того сна, который привиделся мне в ночь на второе февраля, тоже не было уникальным. Мне приснилось, что я где-то на курорте медленно, как и положено на отдыхе, бреду тропой над обрывом, под которым тоже есть тропа и тоже происходит курортная жизнь, но, что самое главное, на том, почему-то категорически недоступном, прямо-таки запретном для меня уровне имеется водоём – то ли море, то ли река, и я скорбно смотрю вниз на счастливчиков, которые плещутся в прохладной стихии, не понимая своего счастья.
Дело в том, что несколько раз в разных вариантах мне снилось, что какие-то неведомые силы не допускают меня, фанатичку водных процедур, к водному пространству: то прихожу в плавательный бассейн, а там спущена вода; то – в другом бассейне – есть вода, но попасть в него можно только через очень узкий лаз, в который даже страшно просунуть голову; а однажды я с неимоверным трудом влезла-таки в какой-то залив, но оказалось, что плавать там невозможно из-за торчащих из воды острых камней. Спрашивается, почему во сне на мою долю выпадают такие препоны, когда наяву в чём-чём, но в возможностях плавать и купаться я совершенно не ограничена (тьфу, тьфу, тьфу)? Как это понимать? Наверное, иносказательно…
…Итак, безмерно огорчённая невозможностью спуститься поближе к воде, я пересекла границу, отделяющую сон от яви, и очутилась в собственной постели в мрачном расположении духа. Правда, проснувшись окончательно, почувствовала облегчение: во-первых, это не самый страшный сон, во-вторых, то всего лишь сон. К тому же надо было срочно вставать и идти в бассейн…
IV
Вялое зимнее воскресное утро. Солнце как будто не вышло на работу – заболело; похоже, день как таковой сегодня вовсе не состоится – утренние сумерки плавно перетекут в вечерние, и всё сольётся в одну непродуктивную единицу времени.
Человек средних лет подходит к отрывному календарю и срывает вчерашний листок. «Оказывается, сегодня уже первое февраля, а я ещё ёлку не разобрал», – он зажигает на ёлке лампочки, что оказывается вполне уместным в этот обделённый светом день.
На письменном столе со вчерашнего дня разложены рабочие бумаги, но работать не хочется – пожалуй, сегодня лучше заняться тупыми хозяйственными делами. Сказывается чересчур напряжённая неделя. Он обходит стоящую на тумбочке ёлку и смотрит в окно, выходящее во двор. Узкое деревцо, доросшее как раз до его окна, выглядит сейчас голо и хило, лишь кое-где шевелятся линялые кисточки прошлогодних соцветий; летом же неказистое дерево создает иллюзию шумящего за окном леса – это такая удача, что самое высокое во дворе дерево «приписано» к его окну.
Двор пуст. В будние дни оживлённей: приезжают-уезжают машины, приходят-уходят люди – служащие контор, что занимают все строения двора, кроме его корпуса. В обеденное время по двору снуют стайки хозяйственных женщин с набитыми сумками. Впрочем, будничную жизнь двора ему довелось наблюдать всего раза три: когда переезжал, когда болел и когда дома писал отчёт… По воскресеньям и праздникам двор и прилегающие переулки вымирают…
Он отворачивается от окна, задевая ёлочную ветку, с которой разом, как по команде, осыпаются на пол все до единой иголки. Из окна другой комнаты открывается вид на квартал старой Москвы – дом «утюгом», от которого влево и вправо убегают кривые переулки. Далеко направо виден купол Ивана Великого, но только в ясную погоду.
Истекает первый год его жизни в этой квартире – вселился в этот старый кирпичный, без балконов, без лифта, с узкой лестницей дом, после его капитального ремонта. Квартирки в доме небольшие, потолки по современным понятиям высокие; горячая вода, голубая ванна…
Квартиру можно обойти вкруговую: из передней в комнату, из неё в другую, из другой в кухню, из кухни снова в переднюю. Можно обратным ходом. В одной из комнат два окна, что всегда приятно. Не иначе как в результате перекроя старой планировки – такая роскошь. Одним словом, славная квартирка. Вот только маме тяжеловато подниматься на четвёртый этаж. Но она пока поживёт у сестры в Коломне, ей там веселей…
Странная тишина во дворе. Детей мало, на лавочке никто не сидит. Взгляд возвращается в комнату и замечает, что во впадинах отопительных батарей скопилась пыль. Человек присаживается на корточки, выдувает черноту из щелей, потом протирает расщелины тряпкой…
Напротив окна висит зеркало в старинной раме, доставшееся ему от деда. Только это наследие да книги взял у бывшей жены после развода.
«Надо Катьке позвонить», – вспоминает о дочери, но тут же откладывает звонок на попозже; такой уж сегодня день – не хочется никаких, даже самых маломальских неприятностей: сейчас о н а снова найдёт повод, чтобы не отпустить к нему дочь.
«Пожалуй, разберу ёлку. – Он, наконец, находит себе дело, но тут же и его отвергает. – Нет, если Катька сегодня приедет, пусть позабавится. Повешу что-нибудь новенькое на ёлку, будет срезать и хлопать в ладоши».
Тут он замечает в зеркале самого себя – лицо бледное, взгляд погасший, человек как в воду опущенный. Впрочем, судить о том, как ты выглядишь, глядя хмурым воскресным утром на своё отражение, неверно – всё может в один миг перемениться: разговаривающие, смеющиеся, оживленные общением, мы выглядим иначе…
Человек заходит в ванную и пускает воду. И здесь сегодня плохой напор – вода льётся еле-еле. Потом он выходит в кухню, открывает шкафчик и обнаруживает, что последняя сигарета сломана. «Как не хочется выходить», – думает, надевая в передней шубу и шапку. Запирает дверь, машинально глядя на оставшуюся от деда табличку с твердым знаком в конце фамилии, спускается по лестнице и в который раз ловит себя на подростковом желании повисеть на «турнике» – металлической перекладине, скрепляющей соседствующие лестничные марши.
Температура воздуха не больше и не меньше нуля градусов по Цельсию. Всё сегодня на нуле. Под ногами сыро и скользко. Во дворе – никого. На подходе к трёхэтажному корпусу он видит идущую навстречу немолодую даму в рыжем меховом жакете и скользит мимолетным взглядом по её лицу: печальный взгляд, мешки под глазами. В следующий момент его внимание привлекает ворона на крыше одноэтажной постройки, шумно пытающаяся расклевать кусок замёрзшего хлеба.
Через ворота – древность, непонятно какими судьбами сохранившуюся, – человек выходит из двора в переулок, пересекает его, огибает монументальное жёлтое здание и входит в продовольственный магазин, покупает пачку сигарет, половинку чёрного хлеба, несколько небольших шоколадок, с нетерпением вынимает сигарету, но не закуривает, а направляется к выходу. В магазин входит дама в рыжем мехе, которую он только что встретил во дворе, у своего подъезда. Странно… Почему так быстро – шла ведь к кому-то… не застала?.. Оглядывается и видит, что дама оглянулась тоже…
Человек рассматривает постройки на противоположной стороне улицы. Скромные, невысокие старые здания, вроде бы неказистые, а приглядеться – изящные фасады, украшенные милыми подробностями. Излишества далеко не всегда бывают лишними…
С тех пор как он живёт в этой квартире, промежуток времени от пятницы до понедельника кажется протяженней, чем раньше. Как же повезло ему с районом, он не устаёт удивляться – могло ведь всё кончиться «бритым» панельным домом в Медведкове. Какой сегодня тяжёлый, сырой день. Что же всё-таки было раньше в этих одноэтажных со двора, двухэтажных с переулка строениях? Во дворе снова пусто. Форточки первого этажа затянуты сеткой ядовитого цвета. Глухая кирпичная кладка нижней части дома вросла в сырой снег…
Он поднимается по лестнице. Нащупывает в кармане ключи, бросает скомканные бумажки в мусоропровод. Отпирает дверь, и – о ужас – вода… Бросается в ванную… Фу, слава провидению, вода дошла до краёв, но не перелилась, ещё бы немного… Ворчливая соседка с третьего этажа не сказала бы спасибо…Забыл, голова садовая… Закрывает кран, сливает часть воды, раздевается, садится в ванну. Взгляд привычно упирается в затёк на потолке, похожий на профиль стоящего на задних лапах медведя без ушей. «Катька уже ездит одна по Москве. А недавно лежала свёрточком в коляске… Надо позвонить. Сейчас позвоню…»
К вечеру, повесив на ёлку обмотанные серебряными нитями ёлочного дождя шоколадки, заткнув в шкаф раскиданные по стульям вещи и сварив замороженную 21 курицу вместе с потрохами (вовремя не разморозил), молодой человек ложится на тахту в ожидании юной гостьи. В памяти, по непонятной ассоциации, всплывает один эпизод…
Года три назад, весной, приятель попросил его помочь в каких-то работах на садовом участке. Когда они вытаскивали из дома зимовавшую в помещении бочку, бдительно глядя под ноги, чтобы не свалиться с крыльца, с соседнего участка донёсся возглас: «Журавли!» Оба задрали головы, поспешно снесли бочку на землю и, закрываясь руками от непривычно яркого после зимы солнца, уставились в небо.
Там, в вопиющей синеве, летела стая огромных – по сравнению с воробьями, голубями и воронами, к которым привык городской человек – птиц. Летели идеальным клином, одна сторона которого была осмысленно длинней другой. Был ровен и торжественен их полет. С соседнего участка пахло дымом костра, на котором сжигали прошлогодний мусор…
…Задремал. Он открывает глаза и в тёмном незашторенном окне видит отражение пятирожковой люстры и её отражение в зеркале. Отражение отражения… Почему он вспомнил журавлей? Ах, да. На работе кто-то сказал, что ожидается ранняя весна.
Он встаёт и подходит к полке, перебирает книжные корешки, находит маленькую книжку в мягком бело-розовом переплёте с большой вензелевой буквой «р», с которой начинается заглавие, листает книгу и наконец находит нужное место: «А журавли плыли, купаясь в голубизне неба, плыли не спеша, кружась на плавно колышущихся крыльях, перекликаясь то сдержанно, то многоголосо, все разом, и снова в их рядах наступало спокойствие. В прозрачности того дня были хорошо видны их точеные вытянутые шеи, и тонкие клювы, и полуприжатые к телу ноги у одних и плотно прижатые у других…» Перевернув страницу назад, читает: «Ранние журавли – хорошая примета». Задумывается, вспоминает…
Нет, значит, в т о т злополучный год они не были ранними…
V
Вот уже и март кончается. Оседают грязные снега. Из-под грязных снегов вытекают грязные вешние воды. Грязные вешние воды попадают под колёса машин. Машины обдают грязью с ног до головы бесправную человеческую фигурку, забравшуюся на холмик сложенного у обочины просевшего грязного снега, чтобы спастись от грязных вешних вод. Фигурка пережидает поток машин с риском опоздать на работу в научно-исследовательский институт, где не надо хватать с неба звёзд, где хороший работник ничем не отличается от плохого, а хорошая работа – от плохой…
Кто-то на днях сказал, что грачи прилетели. А когда прилетают журавли? Вдруг человек призадумывается: а видел ли он когда-нибудь журавля в небе? Раз не помнит, значит, не видел? И синицу в руке не держал? На каком же основании всю жизнь считает, что одно предпочитает другому?..
Ничего человек не знает. Знает только, что скоро весна – тёплый ветер, запах оттаявшей земли, клейкие светло-зелёные свертки на ветках, переполненное голубизной небо – и что придёт она в первую очередь на любимый бульвар, а потом уже на всю остальную планету.
Часть третья
Счастлив, кто посетил или, С новым тысячелетием
«Умирать не хочется… Старость – лучшее время жизни. Живи себе да живи…»
Ф. Сологуб. «Творимая легенда»
I
В двухместное купе, пахнущее мягкой мебелью и дальней дорогой, вошла миниатюрная блондинка и со знанием дела нажала кнопку правого дивана, который тут же плавно и бесшумно приоткрыл свой зев, поглотив дорожную сумку, после чего так же плавно и бесшумно закрылся, предлагая для уютного сиденья бархатную поверхность тёмно-вишнёвого цвета. Сняв куртку и повесив её на вешалку, женщина взглянула на часы, потом села и посмотрела в окно. На платформе, протянув взгляды к отъезжающим, стояли люди. Её никто не провожал, что избавляло от неловкости последних мгновений, вымученной улыбки, которую надлежит растягивать до того момента, пока шагающий или, чего доброго, бегущий рядом с отходящим поездом провожающий перестанет быть видимым. Блондинка приоткрыла окно; оно легко скользнуло вниз, и шёлковая струя осеннего воздуха влилась в купе, опустилась на букет стоявших на столике жёлтых астр. Втянув в себя воздух, женщина уловила неизвестно откуда взявшийся и неизвестно почему вспомнившийся аромат давно почившего в бозе угольного отопления.
До отхода поезда оставалось менее четверти часа, а второе место всё ещё пустовало. Вежливый голос настоятельно просил провожающих покинуть вагоны, когда в купе влетел запыхавшийся юноша, спешно поздоровался, бросил на левый диван саквояж и тут же вылетел, чмокнув кого-то в дверях, после этого в купе появилась запыхавшаяся, прехорошенькая молодая особа.
– Здравствуйте… чудом не опоздала… все перепутала…
Она села, стараясь перевести дыхание. Тут раздался мелодичный удар колокола, возвещавший об отходе поезда; разноцветная плитка платформы чуть дрогнула, поехала вправо, сначала медленно, потом быстрей, а потом и вовсе скрылась из глаз вместе с милым Ромео (так про себя окрестила блондинка провожатого попутчицы). И вот уже бесконечные нити рельсов, брызгая солнечным отражением, тянутся рядом с их поездом; на секунду мелькает новая гостиница с покатыми крышами, собирающими солнечную энергию, вагон делает что-то вроде небольшого взлёта и оказывается в стеклянной гильзе, по которой ему предстоит мчаться без остановок до Берлина, а затем и дальше.
– Вы в Берлин?
– Нет, в Париж. А вы?
– В Берлин.
Блондинка вынимает из сумки и ставит на столик металлическую банку с соком, кладёт пакетик с карамелью, несколько яблок. Снимает туфли, достает тапочки.
– В Париже сейчас замечательная погода – как летом. Моя подруга только что оттуда вернулась. Надеюсь, в Берлине такая же.
– Это радует…
– Как вас зовут?