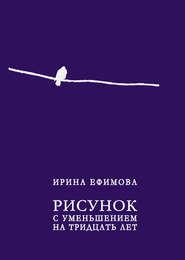скачать книгу бесплатно
Взяв левой рукой ключи… она оттолкнулась от забора, прислонившись к которому стояла… отвела в сторону весившую пудов пять правую руку… и… изо всех сил… ударила по левой щеке… юношу, с лица которого не сразу сошла самодовольная улыбка хозяина положения.
Ударила и побежала – в ужасе от содеянного, в страхе перед последствиями. Пробежав метров тридцать, остановилась, осознав, как нелепо выглядит. Оглянулась. Подруга медленно шла за ней, герой же удалялся в противоположную сторону. Вдруг он резко развернулся и стал стремительно приближаться. Девочка снова обратилась в бегство – уж больно не хотелось получать «сдачу» (знала, ведала, что можно схлопотать: прецедент, хотя и не с её участием, имел место), но опять остановилась – куда и сколько бежать? Герой тоже прекратил преследование и со словами «всё равно поймаю» завернул в переулок, по которому подругам предстояло идти домой. Вероятно, решил не суетиться, а спокойно дождаться их у ворот или у подъезда – первое, что пришло им в голову.
Что было делать? Дома ждали родители, гнев которых с каждой минутой отсутствия дочери удесятерялся. Идти добровольно в руки мстителя было глупо. Девочки сделали большой крюк в надежде пройти через проходной двор и таким образом хотя бы исключить встречу у ворот, но, увы, проходной двор недавно перекрыли высоким дощатым забором, дабы неповадно было чужакам из соседнего дома топтать не принадлежащую им территорию. Пришлось делать тот же крюк в обратном направлении, чтобы – будь что будет – попасть наконец домой. У ворот никого не было, у подъезда тоже. То ли герою надоело их караулить, то ли остроумный мальчик и не собирался стоять на вахте, а просто решил взглянуть на окна учителя, прежде чем преспокойно отправиться спать…
…За обеденным столом сидит высокий человек, но не обедает, а курит папиросу за папиросой, рисуя простым карандашом на полях газеты какие-то схемы и конструкции, крылья и пропеллеры. При этом забывает вовремя стряхивать пепел в пепельницу, и тёмный порошок рассыпается по газете, клеёнке, коленям, полу.
Очнувшись от роящихся в голове идей, человек спешно сгребает пепел со стола в ладонь, открывает окно, энергично машет рукой, изгоняя на улицу прокуренный воздух. Потом смотрит на часы. Куда это они все запропастились? Звонит телефон. Конструктор снимает трубку.
– Ваша Наташа вчера вечером учинила на улице драку, о чём будет доложено в её школу…
Не дождавшись ответа, доложивший бросает трубку. Короткие гудки…
…Как-то возлюбленный дал о себе знать, хотя и не лучшим образом. В последний день марта, когда мы сидели с Леной в её подвале за бесконечным перемыванием золота несобытий, туда прибежала взволнованная Люба – домработница, которая жила у нас четыре года, пока мама то болела, то работала, а я училась в двух школах. Хотя Люба была старше мамы, нас с ней связывала круговая порука: я не рассказывала маме, как домработница целый день точит лясы с соседом, а потом, перед приходом хозяйки с работы, пытается наскоро, тяп-ляп, переделать домашние дела, Люба же, сопереживая мне, искажала сводки моего времяпрепровождения. Одним словом, Люба не поленилась спуститься за мной в подвал, потому что наверху, в лежащей на боку телефонной трубке, меня ждал мой возлюбленный. Одним махом перескочив через все ступени всех четырех этажей, я с жадностью схватила трубку. Увы, вместо обожаемого, язвительного, бархатного голоса в трубке раздались писк, свист, мяуканье, все это сливалось в непонятную какофонию, шабаш звуков. Я, ещё в полёте, безмолвно внимала. Тут неожиданно пришла мама и, некоторое время понаблюдав за выражением моего лица, нажала на рычаг.
После этого тучи родительского гнева снова повисли над моей головой (родители, видимо, уже надеялись, что я порвала «порочную связь», и немного успокоились). И опять я шагнула от любви к ненависти, и опять воспылала решимостью взять реванш. «Оружия искала рука», искала и ничего не находила, кроме собственной пятерни, которая давно чесалась и мечтала смазать по подлой физиономии. Как курица яйцо, только гораздо дольше – целый год – высиживала я эту решимость. И только поэтому она вылупилась в тот вечер ранней весны, когда распоясавшийся герой довёл меня до крайнего, невменяемого состояния. Спасибо ему за это…
Надо признать, что кое-какого эффекта я своей смелой пощёчиной достигла: герой меня на время зауважал. Вскоре после случившегося позвонил, чтоб сказать: «А ты молодец!» – «А зачем же ты доложил о «драке» моему папе?» – «Я не докладывал» – «А кто же это был?» – «Очевидно, какой-то соглядатай».
Однако встреч я опасалась, старалась их избегать, и это, как ни странно, удавалось. Но однажды он позвонил и попросил о свидании (?!). Поколебавшись, я всё же согласилась встретиться с ним возле «света в окошке»: Валентин совмещал полезное с приятным (хотя непонятно, чем я могла быть ему полезной, тем более – приятной). По-видимому, в окошке светило, иначе отчего он столь мило и даже ласково разговаривал. Вдруг спросил:
– А ты знаешь, как ответил на пощечину герой «нищего студента»?
Я насторожилась:
– Нет. Как?
– А ты спроси у кого-нибудь.
– А почему ты не можешь сказать?
– Боюсь, оскорбишься…
После этого он отправился к Геннадию Николаевичу, а я пошла домой переваривать новые впечатления. Несколько дней у всех допытывалась, как ответил «нищий студент» на пощечину, но никто не знал. Наконец, кто-то очень эрудированный пояснил: он её… поцеловал!!! Вот тебе и на! Что бы это значило? (ха-ха, конечно же, ничего). Я не оскорбилась, но и за комплимент не сочла – до «поцелуев» было далеко…
И опять очередное умопомрачение, бешеный прилив чувств. В дневнике сплошь: «я его всё-таки люблю», «как он мне нравится», «сомнений нет – я всё ещё влюблена»… И т. д. Плоть ли – просыпающаяся бесилась, душа ли зудела от несоответствий: стремлений – свершениям, желаний – возможностям, настроений – погодам. Не знаю, не знаю, не знаю…
Потом были экзамены: восемь – в школе, семь – в училище, к середине июня всё это было позади. Беспрецедентная для меня, но вполне объяснимая тройка на экзамене в музучилище по специальности навела не одобрявших моих крайне редких троек родителей на мысль, что, быть может, музыкальное образование при таком моём отношении к нему – бессмысленно. Ивана Дмитриевича, который сбежал из экзаменационного зала раньше, чем зачитали оценки, я увидела только через несколько лет в консерватории. Так и не удалось выяснить, спешил ли он куда-то в тот памятный день или был донельзя раздражён неловким бегом моих мало тренированных пальцев по «Экспромту» Шуберта (в таких случаях на «тренировках», прервав нервным хлопаньем в ладоши мои потуги увеличить темп, он говорил: «Как в столовой: подают очень горячие щи, чтобы невозможно было почувствовать вкуса»)…
Таким образом, наступило первое в моей сознательной жизни поистине свободное лето. Хотя и прежними летами я редко занималась музыкой, держать в голове эту заботу волей-неволей приходилось.
Именно в это время я начала складывать стихи. Некоторый опыт у меня уже имелся: в пятом классе, испытав «благородный» гнев по поводу того, что наша любимая, красивая, «холостая», обязанная принадлежать только нам (так мы считали) учительница ботаники была застигнута кем-то из девчонок на Чистых прудах на скамейке… с кавалером (?!), я разразилась поэмой, в которой заклеймила «распутницу» и её моральный облик. Эту поэму мы, мелкие, мерзкие паршивки, подкинули ей на учительский стол. Учительница унесла наш опус («наш», потому что я выразила общественное мнение), комментариев не последовало. Копии я себе не оставила, ни одного слова не запомнила; думаю, жалеть не о чем (разве о том, что, быть может, заставили смутиться хорошего человека)…
Теперь, в девятом классе, всё было более чем стандартно: ложилась вечером в постель с бумагой и карандашом, до полного изнеможения укладывала слова и чувства в строфы, потом, опустошённая, засыпала. Никому тетрадь со стихами не показывала, прятала в шкафу за книгами. Чего только не было в этих сочинениях! Безумно рыдал рояль; похожая на ворона из По старуха предсказывала жаждущему умереть герою мучительное бессмертие; незнакомка, подозрительно смахивавшая на Блоковскую, обрекала возлюбленного на смерть. В одном из стихотворений я даже оплакала своё сорокалетие – за четверть века до его наступления. Все стихи дышали разлукой и смертью. «Никогда» было вечным мотивом, «невстреча» – единственной темой. Уж не напророчила ли я себе её уже тогда? «Мы встретились? Да… Мы встретились? Нет… Я помню той бездны печальные звуки, в той бездне поётся о вечной разлуке…Мы встретимся? Да… Мы встретимся? Нет…» и всё это, конечно, ему, о нём…
Вторым громоотводом стала консерватория. Теперь, освободившись от гамм и классов, я чувствовала истинную потребность окунуться в спасительную стихию музыки, внимала созвучиям и диссонансам, пьянела от стонов оркестра. В неподдельном экстазе слушала в первый раз «Поэму экстаза» Скрябина, накаляясь вместе с главной темой, протягивая руку к ЗВЕЗДЕ, показавшейся на миг досягаемой; а потом обрушивалась в бездну, называемую ТАК НЕ БЫВАЕТ… Сейчас, всё реже и реже усаживаясь в бархатное консерваторское кресло, мучаюсь сомненьем – вдруг НЕ УСЛЫШУ… Вдруг – ВСЁ… Иногда не сразу, но всё же отрываюсь, лечу. НЕ ВСЁ…
В летние каникулы опять была дача – в другом районе Подмосковья, но тоже с соснами. Купив на первые собственные деньги (в училище я полгода получала стипендию) велосипед, я с необузданной страстью предалась гонкам по шоссе, дорогам и дачным переулкам. Всё детство мечтала о велосипеде, у всех владельцев вожделенных машин выпрашивала покататься, и вот – свой! Сложилась приятная компания: пять-шесть интеллигентных мальчиков, я и ещё одна девочка – красавица Людмила. Красота новой подруги, которая была на полтора года моложе меня, в полной мере гадкого утенка, поражала зрелостью: высокая грудь, тонкая талия, неслучайные взмахи ресниц и бровей. У меня было перед ней одно-единственное преимущество – я появилась «на новенького», в то время как Людмила и наши кавалеры – дети владельцев местных дач – вместе росли; быть может, это мешало им в полной мере оценить красоту расцветшей подруги детства. Симпатии распределились таким образом, что все были довольны. Мы совершали феерические заезды по запруженному машинами шоссе – страшно вспомнить. Слава богу, всё обошлось. Возвращались домой затемно, включали велосипедные фары, они уютно стрекотали, освещая дорогу, правда, часто ломались, и тогда наши доблестные рыцари чинили их в полной тьме.
За заборами лаяли и подвывали злые собаки, из зарослей тянуло ароматом настоянной на вечернем тумане крапивы. Иногда на чьей-нибудь веранде танцевали. Всё было протяжённо и значительно, и мы бы очень удивились, если б в тот момент нам кто-то сказал, что такое огромное, разнообразное, насыщенное событиями настоящее, целиком и полностью устремлённое в далёкое и светлое будущее, очень скоро станет безвозвратным прошлым.
Когда лето въехало в прозрачные слои сентября и прекратило там свое существование, мы с Людмилой, ученицы разных школ и разных классов, уже покинувшие дачи, как-то в одно из воскресений явились в наш дачный посёлок, где еще недавно шумел праздник, а теперь в лучах бессильного солнца блестела паутина, на опустевших участках желтела трава, валялись брошенные игрушки; не лаяли злые собаки, потому что переселились злиться в городские квартиры, а прищуренные взоры их бездомных соплеменников, стайками дремавших на солнечных пятачках, никаких эмоций не выражали. И зародились тогда в моей детской душе пронзительная тоска по умершему лету и отчаянный, бессильный протест против невозможности остановить прекрасное мгновенье…
V
День, самый холодный в первой половине той зимы и один из самых коротких в любом году, стремительно угасал. Сменявшие его синие сумерки не казались щемяще печальными, как это бывает обычно, может быть, потому, что спускались они на одну из самых оживлённых столичных улиц, и потому, что день этот был кануном Нового Года – того исторического, о котором ещё никто ничего не знал.
В театральной костюмерной, где выдавали напрокат списанные из театров костюмы, с самого утра в длинной и очень медленной очереди изнывали две молодые девушки. Стоять надоело, но костюмы были нужны позарез. Ничего не оставалось как набраться терпения. Время от времени девушки выходили на заснеженную позавчерашним снегопадом улицу, которую два дворника в чёрно-бежевых передниках почти целый день скребли, свирепо скрежеща широкими лопатами. Солнце завершало свой малый декабрьский круг, и за крышей дальнего дома виднелся последний сегмент большого красного диска.
Когда наконец солнце и дворники исчезли, уложенные по краю тротуара сугробы засверкали мириадами алмазов, а девушки в изнурительном ожидании растеряли половину радости по поводу предстоящего бала, усталая женщина пригласила их в небольшую комнату и махнула рукой в сторону опустевших кронштейнов, где висело всего несколько платьев грязно-белого цвета: «Вот, выбирайте». Какими смешными показались жаркие споры, которые вели девушки несколько часов, стоя в очереди и прикидывая на себя тот или иной образ. Одна из подруг, высокая, статная, с головой в мелких кудряшках, непременно желала быть мужским персонажем – Чайльд Гарольдом, Диком Сэндом или, на худой конец, Д Артаньяном. Вторая, поменьше ростом, мечтала нарядиться по правилам старинного бала. В общем-то второй девушке, можно сказать, повезло: оставшиеся на кронштейне платья, хотя и разочаровывали несвежим видом, были, очевидно, потрепаны на балах знаменитой оперы. Так как выбирать было не из чего, а время подпирало, девушки запихнули платья в общий чемодан и побежали – до начала праздника оставалось немногим более двух часов.
Так… Фигура втиснута в жёсткий, вшитый в платье корсет; волосы, в спешке недозавитые и уже почти растерявшие локоны, распущены по плечам; к глазам прижаты самодельные маскарадные очки из чёрного бархата с прикрывающей рот присборенной вуалеткой…
Затаив дыхание – через высокую дверь – в актовый зал… У противоположной стены – скопление мальчишек, они в основном без костюмов и масок, но нарядные и веселые. Заинтересованные взгляды направлены на стайку вошедших.
«Татьяна Ларина» сквозь узкие прорези бархатных очков мгновенно отыскивает блондина в чёрном костюме, белоснежной сорочке, тёмном галстуке. Вместе со всеми он разглядывает появившихся дам. На миг задерживает взгляд на темноволосой красавице, поразительно похожей на Татьяну Ларину, потом понимающе, иронически улыбается и переводит взгляд на другие «маски».
И тут из рупора грянул вальс. Не дожидаясь нерасторопных кавалеров, ошеломлённых невиданной красотой, девочки закружились шерочка с машерочкой, разыгрались, запустили снегопад конфетти, обмотали шеи спиральками серпантина. Стоящая посреди зала ёлка упоительно пахла свежей хвоей, в гуще мохнатых лап горели маленькие лампочки. Постепенно и мальчишки разошлись, затанцевали: застенчивые – друг с другом, кто посмелей – с девушками. В одном углу организовался «ручеёк», в другом натянули верёвку с подвешенными к ней конфетами и игрушками, и вот уже невысокий паренёк, тщательно раскрученный, с завязанными глазами, под общий смех режет ножницами воздух вдали от лакомых сюрпризов.
Добровольцы-почтальоны раздали всем номера, и по залу стали носиться письма. Дама с развившимися локонами получила записку: «Маска, я вас знаю и люблю». Адресант навсегда остался неизвестным, было лишь ясно, что это был не тот, от кого зависело счастье адресата…
Как же всё быстро кончается. Уже Утёсов замедляет концовку: «Доброй вам ночи, вспомина-а-айте нас»… Такая усталость… Помятое платье, испорченная причёска, несбывшиеся надежды… Грядущим утром – праздник позади. Когда-то следующий?..
К «Татьяне Лариной» подходит юноша двухметрового роста и предлагает помочь нести чемодан. Очутившийся рядом невысокий блондин в чёрном костюме саркастически, как чёртик, хохочет и неучтиво недоумевает: «Тебе своего чемодана мало?» На том бал кончается, лакеи гасят свечи…
…Итак, второго сентября, после долгого летнего перерыва, проходя мимо будки телефона-автомата (случайно!), я услышала бархатный голос моего возлюбленного, с кем-то оживлённо беседовавшего, и оторопела: как ни работала над собой, как ни отвлекалась, как ни оживляла в памяти прекрасные эпизоды каникул и образы украсивших моё лето истинных джентльменов, как ни избегала мест, где могла бы произойти случайная встреча – ничто, оказалось, не помогло.
Одолевала учеба и, как всегда бывает, освободившееся от музыки время незаметно распределилось по суткам, так что свободы не получилось. Задавали много уроков, и я нередко сидела за полночь, честно стараясь ни один предмет не оставить без внимания.
Однажды на пути в консерваторию, в предвкушении Шестой симфонии Чайковского, я столкнулась на улице с идущим навстречу В. И вдруг с удивлением заметила, что реальный герой с каждым разом всё меньше похож на кумира, которого я себе сотворила. То ли он так быстро менялся, то ли мой идеал приобретал иные черты – не знаю…
В конце декабря состоялся новогодний бал. Когда он, как все балы на свете, закончился, ко мне подошёл Миша 3. и предложил помочь нести чемодан с карнавальным костюмом. Там лежало уже одно-единственное платье – то, в котором я воображала себя Татьяной Лариной, потому что подруга Татьяна, жившая недалеко от школы, ушла домой прямо в бальном платье. Так что в помощи я не нуждалась, да к тому же подвернувшийся под руку «Онегин» подтрунил над приятелем: «Тебе своего чемодана мало?»
Прошедшие два года разрушили мою целостность: снаружи я была весьма активной отроковицей с комсомольским задором, а внутри – грустной плакальщицей, беспрерывно хоронившей надежды. Стремительно, как вода в песок, уходила вера в себя и возможность счастья на земле. Сочинялись стихи, поселялись в правой половине красной тетради, в левую же переписывались вперемешку Пушкин и Сурков, Лермонтов и Симонов, Гиппиус (из старинных «Чтецов-декламаторов», найденных мною в библиотеке родственников) и Щипачёв…
Я не принадлежала к тем детям моего поколения, которые в хрупком возрасте тесно соприкоснулись с бедой, будучи ещё не в силах её переварить. Родители никогда, во всяком случае при мне, ни о чём таком не говорили. Через все школьные годы я пронесла искреннюю веру в самую лучшую в мире страну и в своё счастливое детство. О других настроениях я не догадывалась. Даже тот факт, что родители Инны Левик, с которой я до седьмого класса дружила (потом она ушла из школы), почему-то жили отдельно, вдали от единственной дочери, а Инну воспитывала хорошая, но не родная по крови тётя, не наводил меня ни на какие подозрения – а как ребёнку, который не ведает, что творят взрослые, догадаться? Мне, конечно, казалось это немного загадочным, но вопросов я интуитивно не задавала. Иногда Инна вскользь делилась радостью: получила от мамы письмо.
Я не сомневалась, что религия – опиум для народа, и отказывалась отведать освящённого Любой в церкви Петра и Павла кулича, о чём она, во спасение моей души, умоляла. И только из уважения к верующей бабушке, которую видела один раз в год, на Пасху, деревянной рукой протягивала ей крашеное яичко, трижды христосовалась и увязшим в спазме голосом подтверждала, что Христос Воистину Воскреси. При этом ничего не знала про Голгофу и крестные муки. Бог был один – тот, о котором день и ночь вещали по радио, писали стихи и романы, слагали песни и без которого жизнь на земле была невозможна…
В первые дни марта, когда весь мир, почернев от горя, слушал сводки о состоянии здоровья того, кто не мог, не должен был умереть, я, ещё никого не провожавшая в последний путь, гораздо больше верила в чудо выздоровления, чем в реальность смерти. Как заклинание, повторяла я строки известного стихотворения, которое ещё недавно с исступлённой страстью читала со сцены актового зала, глядя в добрые прищуренные глаза на портрете.
Когда скорбный голос диктора возвестил о том, что все кончено, я впала в полупомешанное состояние, осипла и опухла от рыданий и не понимала, почему папа не бьётся головой о стену, а учитель физики «Кузя», как ни в чём не бывало, проводит урок с показом дурацких диапозитивов.
Потом были «пять ночей и дней», нескончаемость траурных мелодий, дикая, до тошноты, головная боль, мысль о несуществующем без НЕГО завтра. Превратившаяся в чёрный траурный комок, я встала в хвост очереди, выстроившейся через всю Москву к Колонному залу. За несколько часов удалось продвинуться до Сретенки, а дальше творилось что-то невообразимое: сплошное месиво из людей, грузовиков, милиционеров, потерянных галош. Ноги и руки окоченели, глаза ломило, но надо было дойти, необходимо – эта ночь была последней. Завтра ОН уходил в бессмертие. Мучительно раздумывала я, слушая вопли у подножия Рождественской горы; было темно, неоткуда позвонить папе (мама лежала в больнице), и я дрогнула. Повернула к дому. Когда вошла в квартиру, папа бросился ко мне со слезами на глазах – уже поползли слухи о погибших в толпе…
Позже, когда обухом по голове (по моей – определённо) пришла эпоха разоблачений и реабилитаций, мы с трудом смотрели друг другу в глаза. Было так тяжело, что, грешным делом, я даже некоторое время сомневалась: а не лучше ли было всего этого не знать?..
Пропущенные через горнило утрат и разочарований, мы, сами того не замечая, становились другими – то ли закалёнными, то ли надломленными; и хотя нас всегда учили ставить общественное выше личного, молодая жизнь брала своё, и личная жизнь, будучи ниже общественной, всё же продолжала иметь место, естественно, требуя участия в ней самой личности…
После майских праздников решили собраться у Соньки слушать Вертинского (грампластинки тайно изымались для прослушивания из кабинета Татьяниного отца, страстного коллекционера) и пригласить В.Е как единственно достойного из знакомых мужчин. Мы боготворили Вертинского. Нам повезло, что папа Миша владел великолепной коллекцией пластинок. Артист, хоть и замолил свои грехи перед родиной, находился в полуопале, и услышать его живьём было чрезвычайно трудно. Как волновали наши детские души его розовые моря, пенные кружева, бальные оборки, чужие города – одним словом, всё-всё. Я садилась за пианино и надрывалась: «А жить уже осталось так немного, и на висках белеет седина», – чем смешила маминых гостей, даже у них ещё не белели виски…
Итак, собрались – Сонька, Татьяна, Нинка рыжая и я. Валентин пришёл последним. От неожиданной, «легальной» близости возлюбленного я превратилась в восковую фигуру: впервые наблюдала его не издали в актовом зале, не на пересечении дорог, где считала нужным делать вид, что не обращаю на него внимания, а в уютном доме подруги, и впереди имелось несколько часов совместного пребывания в атмосфере высокого искусства.
Странно было видеть героя не мастером эпатажа, не суетливым насмешником, а молчаливым и возвысившимся духом слушателем, как того требовал момент. Всё мне было в нём мило в этот вечер: и многозначительное выражение лица, и то, что на меня ни разу не взглянул, и то, как пил чай – скромно, но без скованности человека, попавшего не в свою тарелку. Одно было горько: настало время идти домой. Не желая сделать всеобщим достоянием свою печаль в случае, если он уйдёт первым, я решила его опередить и, к радости родителей, пришла домой довольно рано.
На следующий день выяснилось, что В. провожал рыжую Нинку, нашу постоянно выпендривавшуюся интеллектуалку, до самого её дома. Нинка настолько обезумела от успеха (вряд ли кто-нибудь когда-нибудь провожал её до дома), настолько возвысилась в собственных глазах, что обозвала В. болваном – дескать, он не мог объяснить, чем ему нравится Вертинский. Я не стала вступать в дискуссию. «Не мог объяснить»… да всё он понимает не меньше твоего, уважаемая умница…
Итак, всё. Школьная форма доношена. Белые воротнички, манжеты и банты скручены в исторический свиток. Всё…
Предвидя вечную разлуку, я металась, сочиняла безумные письма, выпуская «пар» на бумагу, потом рвала их и на некоторое время успокаивалась.
Ещё предалась беспорядочному чтению. Грин, Уайльд, Метерлинк, Достоевский, Гамсун, Блок, Гофман, бесконечная вереница известных и неизвестных поэтов, калейдоскоп без знания дат, жанров, школ; основное кредо оценки – соответствие моему состоянию. В отличие от Уайльда, который считал, что жизнь в значительно большей степени подражает искусству, чем искусство – жизни, я свято верила в то, что столь уважаемые мной книжные добродетели списаны с натуры, более того – живут и преобладают в повседневной реальности, являясь законами человеческого существования.
«Я вас любила в этот странный вечер за вашу яркую любовь к другой», – пела Шульженко, и я вместе с ней. В отличие от других девчонок (утверждали: так не бывает!), я не считала странными ни тот вечер, ни любовь за любовь к другой…
Вечная разлука тем временем неумолимо приближалась. Корабль с несбывшимся героем медленно погружался в небытие. Как путнику из сказок, жизнь открывала мне по крайней мере три пути: направо пойдёшь… налево… прямо… Я пошла не туда (хотя кто знает?..). А посему не сделала сказку былью…
В то лето мы снимали дачу у человека, похожего одновременно на Степана Плюшкина и Иуду Головлёва. Его-то жена, милая грустная женщина, и прочитала мне в саду запомнившиеся на всю жизнь строки: «Это было давно…»
Однажды в начале августа, когда мама лежала на жёстком топчане, как ей было предписано врачами, под чужим кустом чёрной смородины, не вправе воспользоваться его спелыми, готовыми осыпаться ягодами, а я неподалёку штудировала учебник по литературе (несколько дней оставалось до того знаменательного, когда хрупкая надежда на милость судьбы если и не умрёт окончательно, то тяжело и неизлечимо заболеет), в калитку вошёл Миша 3., рост которого к этому моменту достиг двух метров. Пригнувшись, он машинально зацепил рукой чиркнувшую ему по голове вишнёвую ветку, и ладонь обагрилась красным соком примятой ягоды (истекаю вишнёвым соком!). Из застеклённой террасы, служившей наблюдательным пунктом, выскочил разъярённый хозяин и сурово отчитал Мишу за хулиганство и воровство ягод. Бедному Мише ничего не оставалось как что-то растерянно лепетать в оправдание.
Когда неловкость немного рассеялась, Миша тщательно вымыл руки, повелел мне сделать то же, после чего разложил на столе десяток фотографий… В.Е. (!), которого снимали для какой-то кинопробы. Не знаю, на какую роль его пробовали, но с накрашенными глазами и губами он выглядел ослепительной кинозвездой. Я попросила оставить фотографии на пару дней, а возвращая, одну утаила – ту, на которой он более всего походил на себя «нормального», «бульварного». Так и лежит с тех пор эта фотография в дерматиновом чемоданчике. Вечный сверстник, мудрёный мальчик, запечатлённый когда-то хорошим студийным фотографом, он и сегодня не видится мне ребёнком. А ведь это было ещё детство…
В следующем феврале, когда после скучной, но успешно сданной сессии я лежала больная простудой, меня снова посетила вечно живая идея поздравить канувшего в Лету героя с днём рождения (эту дату я помню и теперь), и я сочинила очередную глупую эпистолу, в которой поздравляла, вспоминала, сетовала, тосковала по ушедшему времени и т. д. Написала и тут же поручила пришедшей проведать меня подруге опустить конверт в почтовый ящик. Koгда она вместе с письмом ушла, я ужаснулась содеянному. Но было поздно…
Через несколько дней со словами «какой позор» мама швырнула на стол вскрытый конверт, на котором значился наш адрес и внутри которого лежало… моё письмо (прочитанное ли – кто его знает). Больше ничего. Возлюбленный и в Лете оставался самим собой.
Вскоре я дважды подряд встретила моего героя, образ которого стал превращаться в символ неразделённой любви. После чего не видела никогда.
Весной, гуляя по главной улице родного города в состоянии полного невдохновенья и в сопровождении многолетнего воздыхателя (многолетним, впрочем, он стал через много лет, а в этот момент был ещё недавним), я вдруг увидела впереди себя и тотчас узнала по затылку и, конечно, по походке Валентина. Было это, как сейчас помню, в начале городских сумерек, на улице Горького, в районе пересечения главной улицы со Столешниковым переулком. Как и я, он шёл вдоль по Питерской, вниз, в сопровождении двух мужчин. У меня перехватило дыхание, и, ничего не объясняя, я объявила спутнику, что хочу идти за этими людьми. Вскоре стемнело. В.Е. несколько раз оборачивался, но смотрел мимо меня, так что я была совершенно уверена, что не замечена им. Поклонник пытался воспрепятствовать навязанному маршруту, но, видя мою непреклонность, был вынужден покориться. В коротком тёмном переулке, за памятником первопечатнику я потеряла бдительность и сильно сократила дистанцию. Вдруг В. резко остановился, развернулся, вонзил в меня раздражённый взгляд и спросил: «Может, хватит?» Что тут ответишь? Я была посрамлена…
В другой раз, поздно вечером, в вестибюле одной из центральных станций метро, я заметила В.Е. в компании весёлых джентльменов. Встав в кружок, они оживлённо общались. Скрывшись за выступ стены, я смотрела на возлюбленного, не в силах оторвать взгляда. Он был в тёмно-синем плаще, с белым шарфиком, очень красиво лежали волосы, и даже чудный голос мне удалось вычленить из общего хора. Я, конечно, не догадывалась, что вижу его в последний раз…
Больше я ничего о Валентине не слышала, кроме того, что вскоре его семейство покинуло дом на бульваре. Люди потянулись в районы новостроек. Уехала из своего подвала Лена, уже с мужем и маленьким ребёнком. Родственники, что проживали на той самой коммунальной даче, где некогда нас застал знаменитый многодневный ливень, получили наконец шикарную «сталинскую» квартиру с ванной и персональным ковшом мусоропровода.
А мы всё ждали своего часа, и новая соседка, въехавшая в комнату тёти Маруси и дяди Герасима, придумывая, как бы сильнее досадить «этим интеллигентам», то бишь нам, запирала от нас свой стоявший на кухне холодильник на огромный висячий замок, чем огорчала даже своего супруга, который ничего против интеллигенции, то бишь против нас, не имел.
Наконец дождались и мы. Дом похуже сталинского, потолки пониже (началась эра массовой застройки), но – лифт, балкон, ванна, личная кухня! Так что были безмерно счастливы. Когда же фургон с нашим скарбом покидал двор и старухи в последний раз шептались нам вслед, ком застрял в горле, да так с тех пор и не рассосался…
«Ты любовью меня уведи из тенет отзвеневшего детства», – написала норвежская девочка из рассказа норвежского писателя. Её – увели. Я же всю жизнь барахтаюсь в тенетах своего счастливого детства…
Часть вторая
Круглый стол
«Я живу в странном и неверном мире. Живу, – а жизнь проходит мимо, мимо меня. Женская любовь, юношеская пылкость, волнение молодых надежд, – всё это остаётся навеки в запрещённой области несбывшихся возможностей. Несбыточных, может быть…
Обычность – она злая и назойливая, и ползёт, и силится оклеветать сладкие вымыслы, и брызнуть исподтишка гнусною грязью шумных улиц на прекрасное, кроткое, задумчивое лицо твоё, Мечта!..»
Ф. Сологуб «Творимая легенда»
I
Когда жизнь моя приобрела определённый статус, если этим словом обозначить нечеловеческую суету, – работала от звонка до звонка в старинном особняке, охраняемом двумя львами, один из которых всегда спал, другой всегда бдел; мчалась за ребёнком в детский сад, чтобы вовремя доставить его на занятия прославленного детского хореографического коллектива; пока дочь в пыльном зале с зеркалами находилась в объятиях Терпсихоры, бегала по магазинам, стараясь, не всегда успешно, приобрести продукты; ехали домой, чумные от усталости, но не сдавались – по дороге играли «в стихи»; так вот, когда я этот блистательный статус приобрела, на работе у меня завелась «подружка». Моложе меня лет на десять, фантазёрка и эгоистка, мечтавшая выйти замуж, но не видевшая себя со стороны, она постоянно пускалась в авантюры, о чём любила мне порассказать в рабочее время. Я слушала вполуха – у самой проблем было невпроворот, но однажды она поведала мне о новом знакомом и, чтобы вполне овладеть моим вниманием, подчеркнула, что я этого человека знаю. Несмотря на то, что человек просил её оставить в тайне их знакомство, подружка открыла мне его имя: им оказался…Миша 3. Я, конечно, умолила справиться у Миши о В. Увы, ближайший друг Валентина ничего о нём не знал.
Всё ещё заинтригованная его судьбой, я запросила однажды в адресном бюро адрес гражданина В.П.Е. такого-то года рождения неизвестной профессии. Ответ был: такой человек в Москве не числится. А где же числится? В жизни-то числится? Я прикидывала, как могла сложиться его жизнь. Ничего не складывалось…
Как-то я повела свою близкую подругу, приобретённую уже в зрелые годы (редкий случай), в заветные места. Было Светлое Христово Воскресение. Бульвар ещё не шумел листвой, но знакомое по другой жизни предчувствие весны сразу охватило меня, как только мы к нему приблизились. Вот арка его двора. Мы вошли в неё и повернули налево. Пересекли по диагонали скромную территорию двора, когда-то совсем голую, а теперь усаженную двумя рядами деревьев, и очутились в том самом углу, где слева от изгиба фасада я нашла нежилое, покрытое слоем вечной пыли Тонькино окно – решётка сломана, приямок завален нечистотами, – а справа, все в том же положении, не правей, не левей, не выше, не ниже – вход в его подъезд, лестница, ведущая в квартиру, где когда-то жил-поживал, но давно уже не проживал белокурый юноша с ослепительной улыбкой. Гулявший с собакой мужчина из этой жизни недоверчиво косился на двух незнакомок.
Меня знобило. Мы вышли из двора, миновали милый детский парк «Милютку»; постояли возле особняка, перед которым когда-то по весне розовым и белым цветом расцветали яблони и груши; теперь фруктовых деревьев не было в помине, некогда цельные стёкла окон особняка расчленили небрежно выполненными переплетами. Прекрасное здание отдано какому-то учреждению. Ещё в детстве я иногда фантазировала: дом наш, сад наш, в высокие торжественные двери входят наши гости, наш колокольчик возвещает об их прибытии…
Повернули направо. Перед поворотом в мой переулок – все то же крайнее окно, из которого, прогоняя страх, лился свет зелёной лампы, всегда напоминавший о несуществующей стране Гонделупе, когда тёмными зимними вечерами я возвращалась домой из музыкальной школы. Напротив церковь, освобождённая наконец от уродливых пристроек, за которыми её и не видно было. Реставрируется – не прошло и ста лет. Вниз с горы, в сохранившиеся – те самые – ворота, в глубину двора. Вот он, мой дом. Такой невысокий. Такой неширокий. Под ногами асфальт вместо земли и торчавших из неё булыжников. На двери в мой подъезд – рейки из современной жизни, стены внутри подъезда выложены «кабанчиком».
Мы поднялись до верхнего этажа и остановились перед моей квартирой № 13. Вот перекладина между пролётами лестницы, на которой я и мои гости висели и кувыркались – та самая, ничуть не изменилась. Я смотрела на неё в изумлении от этой непреходящести, и отрезок жизни от тех до этих дней показался не длинней этого «турника». Дверь на чердак была другой – та в нижней своей части имела квадратное отверстие, вырезанное моим папой для кота Мишки, чтобы он мог гулять сам по себе на чердак и обратно…
Вспомнилось: кот Мишка, впервые вывезенный на дачу и шокированный бескрайними просторами, влез на сосну и просидел на ней двое суток. Никакие уговоры, никакие приманки не помогали. На исходе вторых суток на участок зашёл Миша 3. и застал нас в полном отчаянии. «Чем могу, помогу», – сказал он и, задрав кверху голову, позвал: «Мишка, Мишка! Тёзка, тёзка!» Кот Мишка вдруг встрепенулся, поменял позу, в которой пробыл часов сорок не шелохнувшись и, напряжённо сверкая жёлтыми глазами, стал потихоньку сползать вниз, дав измученным хозяевам надежду, что всё ещё может окончиться благополучно. Действительно, утром он сидел под крыльцом – живой, невредимый и почти совсем расслабившийся…
Постояв возле квартиры и подробно осмотрев каждую малость, мы спустились вниз и вышли на улицу. Двор был пуст. А как всегда кипел!..
Из ворот направились в Петропавловский переулок, по которому, бывало, в канун Светлого праздника красочной демонстрацией шли старушки в белых платочках, держа в руках украшенные бумажными цветами узелки с куличами и яйцами – каждый год мы наблюдали эту картину из окна большой комнаты. Старушки, давно выселенные на московские окраины, скорее всего, там и окончили свой век вдали от любимого храма…
В церкви Петра и Павла шла праздничная служба. Христос воскрес прошедшей ночью. Народу было немного. Молодая девушка с заплаканными глазами осеняла себя широким крестом…
Вышли из церкви. Тем же рядком – невысокие старые дома. Повернули в Подколокольный переулок, вышли на Яузский бульвар, сели на трамвай и укатили в сегодняшнюю жизнь. Подруга – в свою, я – в свою…
…На днях мне рассказали, что Миша 3. скоропостижно умер… Недавно перешагнул сорокалетие…
II
Какой странный год – всё перепуталось: осень была похожа на лето, зима – на осень. Только февраль не рядился в чужие одежды, был холоден и снежен (снег выпал только в феврале). Теперь начало марта, а на улице +15 С…
Не доверившись показаниям Цельсия, я оделась по-зимнему. И сразу разомлела от стоячего тепла, безветрия, какого-то странного межсезонья – непонятно, между чем и чем; снежные валы по обочинам тротуаров, ещё несколько дней назад мешавшие где попало переходить улицу, поразительно исхудали, а кое-где вообще исчезли. Земля так быстро и так рано оказалась сухой, почти чистой, почти весенней. Чёткие тёмные линии голых веток, будто нарисованные пером поверх городского пейзажа, дополняли картину ранней весны…
Было воскресенье, малолюдно. Старая Москва, по которой вёз меня троллейбус на свидание со школьной подругой Татьяной, лежала как на ладони, со всеми подробностями старых зданий: излишествами фасадов, прутьями старинных оград, куполами счастливо сохранившихся церквей, изящными линиями зданий в стиле «модерн».
Какая большая и вместе с тем доступная радость, какая увлекательная затея – сесть в троллейбус и через пятнадцать минут очутиться в другом городе, в другом месте земли! Татьяна стояла на означенном месте в лайковом пальто с лисьим воротником, совершенно не соответствующем той жизни, в которую мы собрались с ней отправиться.
Отправились. Пересекли улицу, скосили угол диагональным сквериком с приземистыми заморскими рябинами. Хотели пойти любимым бульваром, но там было ещё очень грязно – бульвары долго просыхают по весне. Вот когда пригодились бы галоши, которые так мучили меня в детстве.
Переулок, ведущий к моему дому, был заполнен баптистами и адвентистами седьмого дня. Церковь на повороте всё ещё реставрировалась. Шли под горку. Пахло мясными щами…
…Порой я предавалась странной фантазии: я прихожу в свой старый дом, звоню в бывшую свою квартиру и прошу хозяев меня впустить, объясняя, что очень хочу побыть хоть несколько минут в тех стенах, где прошли мои лучшие, мои нелепейшие годы; ещё раз ощутить тесноту передней, подивиться, как можно было жить с единственным краном холодной воды – для рук, ног, зубов, белья, посуды; умилиться всем этим неудобствам, от которых так быстро отвыкаешь – ещё быстрей, чем привыкаешь к удобствам… Фантазии… На самом деле я отдавала себе отчёт, что никогда на это не решусь, а потому у меня столько же шансов войти в свою старую квартиру, как, скажем, в реку Нил…
Итак, мы вошли в мой незабвенный двор, обогнули трёхэтажный корпус, и… я остолбенела: дом стоял абсолютно мёртв, абсолютно пуст! Все окна, как одно, отражали одни и те же облака, которых в тот день гуляло по небу премножество. Подъезд был, казалось, намертво заколочен прибитой наискось неструганой доской. Однако как раз в этот момент какой-то рабочий, как иллюзионист, с лёгкостью развязывающий мёртвые узлы, открыл дверь парадного – оказалось, что доска приколочена лишь к дверному полотну, для видимости, – и скрылся внутри подъезда.
Я с недоверием потянула за доску, дверь открылась. Мы робко сунули головы в полумрак и увидели там только что вошедшего рабочего, который что-то мастерил возле ведущей в подвал лестницы. Спросив, можно ли подняться, и получив утвердительный ответ, мы стали подниматься. В доме было гораздо холодней, чем на улице, – ледяной, неподвижный, не оттаявший после зимы воздух. Двери всех квартир застыли открытыми настежь. Везде лежали кучи мусора, брошенный хлам. В квартире № 5 посреди комнаты стояла кровать с пружинным матрацем. Где-то теперь её хозяйка, которая однажды сшила мне красивое бежевое платье с красным поясом? На пороге квартиры № 8, где когда-то жили Фомины, валялась на боку табуретка с прорезью для пальцев. Мигом вспомнился смуглый Павлик, который в шестом-седьмом классе неожиданно начал оказывать мне знаки внимания, даже однажды поднёс к электричке мой чемодан, когда я в одиночестве, с опозданием из-за экзаменов в музыкальной школе, отбывала в пионерский лагерь, а потом почему-то вдруг возненавидел и перестал здороваться…
Окружённые могильным холодом и стылой тишиной, мы медленно совершали восхождение. И хотя кошек не было – что им делать в брошенном, нетопленном доме? – их едкий запах был по-прежнему силён, являя живую связь времён (именно этот запах был камнем преткновения при попытках обменять жилплощадь).