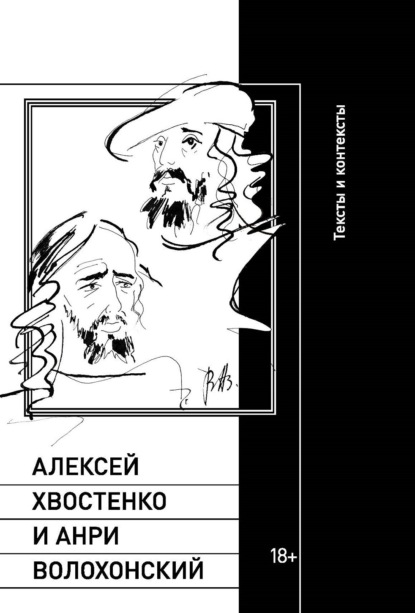
Полная версия:
Алексей Хвостенко и Анри Волохонский. Тексты и контексты
Построения классиков периодически рушатся. Хлебников и обэриуты подтачивали классические каноны. С обэриутами власть известно что натворила. И только после смерти Сталина начал отходить наркоз. А мы жили в середине (а скорее и ближе к концу) большого ледникового периода. Когда начали размораживаться лексические открытия поэтов 1920‑х и 1930‑х годов. И намеренно неуклюжие верпы Хвоста, возможно, и прокладывали путь. Используя наследство обэриутов, Хвост искал дорогу из тупика. Возможно, и в никуда. Это могла быть дорожка просто в другой тупик. Только я это уж очень поздно сообразил.
Проницательный Бродский вернулся к неоклассицизму – такая взрывчатая смесь Джона Донна и Тредиаковского. И его необыкновенный талант позволил ему сделать этот компот исключительно привлекательным. И все это в некоторых рамках. Разумеется, не административных, но поэтических. Его бы поощрить как классика. А его, хрясть, в психушку. А потом и в тюрьму. Трудно было уследить за логикой властей в те поры.
Хвост мог представлять бо́льшую опасность для существовавшего (и не очень прочного, как оказалось) порядка. Поскольку Алексей не мог оставаться ни в каких рамках. Он должен был выходить за флажки. Он этих красных флагов просто не замечал. Так уж он был устроен. Отсюда и верпы. Но Алексей не заинтересовал советскую пенитенциарную систему.
И вот что еще мне хотелось сказать. Вспоминая далекие 1960‑е, можно, хотя и с некоторыми оговорками, признать очевидный момент. В Питере тогда было два центра силы. Быть может, я малость преувеличиваю, но так мне тогда казалось. Да и сейчас мое мнение не особенно изменилось. Речь идет о важных вещах. Не только (и не сколько) о подвигах и доблести. Невооруженным глазом было видно: речь шла о славе. О которой не стоит все-таки забывать, проживая на горестной земле. И были особенные люди, которые составили славу великого города. Раньше, во времена парусного флота, они назывались «впередсмотрящие». Что такое они видели впереди, я, увы, не знаю.
Но что знаю, то знаю. Сам видел. И видел: вот есть такие особенные люди. И видел таких особенных людей. Которые притягивают к себе. Ну, как магнит притягивает железные опилки. Один из этих центров собирался вокруг будущего нобелевского лауреата. А не первый (но уж никоим образом не второй) центр силы образовался вокруг Алеши Хвостенко. И не потому, что он был какой-то адвентист или там луддит. Просто Хвост обладал такой магией.
8Ну и про чудесное спасение Хвоста от армии. Он, как всякий нормальный питерский призывник, закосил. И пошел по обычному пути – закосил под психа. Его сунули в окружной военный госпиталь на Суворовском. Для разоблачения. Надо сказать, что судьба у этих пациентов незавидная. Если тебя признают здоровым – три года в армии. Это еще в лучшем случае. Обычно три с половиной, а во флот – так все пять. Если нет – получаешь справку, что ты душевнобольной. Эта справка – волчий билет: ты фактически лишаешься всех гражданских прав. И так-то права куцые. А тут полный аншлюс.
Я знавал таких героев. Которые получали справку из дурдома. Им не позавидуешь. И вот из этой мрачной ситуации нашелся третий выход. Алеша мне рассказывал, что он палец о палец не ударил, чтобы выбраться. Будь что будет. И ему можно верить. Не такой Хвост был человек. Инстинкт самосохранения не очень-то у него был развит. И только судьба (или рок) решила сохранить Хвоста. Судьба на этот раз – для разнообразия – приняла вид молодого восторженного доктора. У него, рассказывал Хвост, были тетрадочки, куда он записывал стихотворения и поэмы молодых (и не очень) ленинградских поэтов. Там были стихи Сосноры (или Сосюры), точно не помню. Хвост рассказывал:
– Ну, мы с ним разговорились. Вернее, он со мной. Он мне читал из тетрадочки. Что-то вроде: «Мимо ристалищ, капищ, / мимо храмов и баров, / мимо шикарных кладбищ, / мимо больших базаров, / горя и мира мимо, / мимо Мекки и Рима, / синим солнцем палимы, / идут по земле пилигримы». И т. д. и т. п. Прочитал и спрашивает у меня: «Как вам нравятся стихи поэта Бродского?» А мне не хотелось его обижать. Хороший мальчик, розовый. Я даже не знаю, что сказать.
– Алексей, вы же интеллигентный человек, вы что, не знаете поэта Бродского?
– Почему не знаю? Иосифа я как раз хорошо знаю. Я просто не знал, что он поэт.
– Он что, не читал вам свои стихи?
– Почему не читал? Он как раз неостановим. Как заведется, так часов до трех ночи и шпарит свои стихи и поэмы.
– Я вас не понимаю, – растерялся доктор.
– Да что там не понять. У меня все читают стихи.
Это была чистая правда. Даже я, помню, зачитывал Алеше свои стихи и поэмы. Довольно неуклюжие. Про Сенную. Например: «Пред ларьком, где пиво-воды / расплескали свой уют / изумленные народы / в ряд стоят и пиво пьют. / Пиво пенится мятежно / и во всей своей красе / человечество безбрежно / отдает дань колбасе. / А на корточки у рынка / утром сели алкаши / тянут песни и запинки / за пропой своей души. / Песне вторит в отдаленьи / голос радио простой, / создавая настроенье / над советскою землей». И Хвост с ангельским терпением выслушивал длинные вирши. А когда терпение все же кончалось, слегка пародировал последний куплет. Очень похоже. И очень для меня обидно.
Милый доктор потом рассказывал своим: «Весь город знает поэта Бродского, только его хороший товарищ не знает». А Алеша только слегка ухмылялся. Такой откровенный стеб очень развлекал самого Хвоста. Не говоря уж об аудитории. Все-таки «театр для себя» в традициях «серебряного века» не умер. Только декорации поменялись.
Этот тихий моноспектакль так восхитил всю наивную врачебную братию, что Хвост получил замечательную справку. Из которой следовало, что в армию он идти не может из‑за какой-то очень нервной болезни. Но в то же время эта нервная болезнь не является психической. Такие дела.
9Увы, воспоминания мои довольно сумбурные. Какие-то клочки по закоулочкам. Вспоминается поездка в Лугу с Хвостом к Анри Гиршевичу Волохонскому. Анри в то время работал гидрохимиком в каком-то НИИ рыбного хозяйства (что-то в этом роде). У них там была база в Луге. Хорошая база.
Вообще, отношение коммунистов к науке было, как сейчас говорят, амбивалентным. С одной стороны, прихватывали научных работников, чтоб не выдрючивались (см. например, «дело ученых»). С другой – не истреблено было исконное крестьянское уважение к грамотеям. То есть тянули лошадь сразу в обе стороны. Правильно говорили нам в высшей школе: диалектический материализм – это вам не хухры-мухры.
Так вот, Анри Гиршевич имел в Луге казенный дом, причал да и лодки в придачу. Прямо старос[о]ветский помещик на выданье. И естественно, Анри соблазнил нас с Алешей своей советско-буржуйской малиной. Мы и поехали. Луга – это такой городок в Ленинградской области. Потом она стала знаменитой. Там был завод колбасной кожуры. На котором после лагерей работали известный диссидент Лев Квачевский и сам Борис Михайлович Зеликсон. Про которого поэт сказал: «Когда я вижу Борю Зеликсона, / Я забываю, что я сам персона». Но о них потом – расскажу, если не забуду. Один приятель мне недавно сказал: «Ничего, Борис, Альцгеймер напомнит».
Помнится, вполне народные частушки Хвоста у рыбных коллег Анри Гиршевича особого успеха не имели. Трудно иногда до конца понять народную душу. Душу народа-богоносца, так сказать. Без Достоевского трудно. И без Бердяева. И парадного подъезда.
А вот песня Хвоста «Отворите шире ворота / У меня во среду суббота / В понедельник тоже суббота / Даже в воскресенье суббота…» вызывала у классово сознательного пролетариата совсем другие чувства: «Душевная песня». А песня «Пускай работает рабочий…» тогда не исполнялась. Да, по-моему, тогда она еще и написана-то не была.
Дальше началась сплошная рыбная ловля. Поскольку удочка для меня такая же загадка, как для леща, я оставил рыболовов. И отвалил. К слову, меня иногда посылали помогать ловить рыбку. Но сеткой. На Северной Ладоге ловили, на Средней Волге, на Иссык-Куле, на Зеравшане, на Аму-Дарье. И даже один раз на великом (но очень узком) Каракумском канале. Но это в экспедициях. Когда возникала извечная в Стране Советов продовольственная программа (в смысле, жрать нечего). Не для спортивного интереса. Но это отдельная история. Потом расскажу. Если к случаю придется.
А когда я вернулся к Хвостовой рыбной ловле, картину увидел довольно унылую. Хвост все в той же позиции. Полиэтиленовый пакет почти пустой.
– Алеша, где рыбка?
– Боря, я не специалист по ловле рыбы, я специалист по ловле кайфа.
Что тут сказать? Это у математиков формулы часто бывают невразумительными. Особенно в диссертациях. Причем чем длиннее формулы, тем хуже диссертации. А вот у поэтов формулы бытия чеканные. Даже если они изложены прозой. Ритмической. И очень даже применимы на практике. Ну вы, надеюсь, понимаете, что я имею в виду.
10Волшебное время было тогда в конце 1960‑х. Было да прошло. А потом наша с Татой советская жизнь дала крен. В сторону химии. «Ей в другую сторонý». Анри намылился в Израиль. Хвост – в Москву. Что почти то же самое. Я еще пару раз навещал Хвоста в Москве, в Мерзляковском переулке. Там у него была жена – очень образованная красотка Алиса Тилле. Про которую Алеша над дверным звонком написал: «Хвостилле – 2 звонка». Но это действительно уже совсем другая история.
Да и от Анри Гиршевича течение относило нас в сторону. Мы нечасто встречались. Анри жил уже со второй женой. По фамилии Равдоникас. Дочерью известного историка. Мы были у них в гостях на Васильевском. Отмечался какой-то праздник. Там был также брат жены Феликс, музыкант. Он реставрировал старинные музыкальные инструменты. Этот бивуак Анри Гиршевича производил впечатление. Огромный двусветный зал. Большая гипсовая статуя (не бюст) Сталина. И прекрасный старинный инструмент – наверное, все-таки фисгармония, а не клавесин. Место было кайфовое.
Но страсть к свободе у Анри была сильнее. И они подали документы на выезд. Я помню, Анри приехал ко мне на работу, когда собрался в эмиграцию. Его дело в ОВИРе уже шло к концу, и он появился у меня в несекретной нашей лаборатории на Крестовском. Думаю, этак в 1973 году. И страстно уговаривал нас с Татой бросить все к такой-то матери и поехать вместе в Израиль. Там, как доподлинно известно, земля течет молоком и медом. Но сионистская пропаганда не убедила нас с Татой. Тогда. О чем я тоже жалею. Но, по правде говоря, не очень.
Потому что закат империи для нас с Татой выдался похожим на золотую осень.
Татьяна Никольская
ХВОСТ ВСЕМУ ГОЛОВА57
I 58Хвостенко, более известный как Хвост, жил на Греческом проспекте в доме, где была квартира Юрия Тынянова59. Хвост об этом знал и рассказывал. Алеше принадлежала комната в коммунальной квартире. Отношения с соседями были неровными. Практически каждый день к нему приходили гости. Часто без звонка. Алеша так приглашал гостей по телефону:
– Привет, это Хвост. Приходи, – и вешал трубку.
Жил Алеша крайне бедно, но крепким чаем поил всегда. Отцом Хвоста был переводчик Лев Васильевич Хвостенко. Он преподавал английский язык в английской школе на Фонтанке. Когда в начале 1960‑х годов мы с Хвостом познакомились, а затем выяснили свое родство, Льва Васильевича не было в живых. Ко времени нашего знакомства Хвост уже не работал в зоопарке. Говорили, что его выгнали за то, что он съел черепаху. Хвоста судили за тунеядство. Неоднократно. Однажды на углу Невского и Литейного я встретила взволнованного Бродского, который спешил на суд над Хвостом. В зал заседаний нас не пустили. Ждали в коридоре, где за Хвоста болели его друзья. Хвоста не осудили. Отстоял его участковый.
Через некоторое время Хвост устроился на работу в Управление по охране памятников, которое помещалось в Александро-Невской лавре. Алеша должен был ходить по городу, смотреть, в каком состоянии памятники, иногда мыть их и делать отметки в журнал. За это ему платили около тридцати рублей в месяц.
Однажды Хвост получил какие-то деньги по наследству – видимо, за переводы отца. Он купил пишущую машинку «Эрика», на которой печатал свои стихи и пьесы, пиджак, рубашку и галстук. Иногда в таком облачении Хвост сидел на ступеньках Казанского собора и удивлялся, почему все на него обращают внимание.
У Хвоста почти всегда кто-то жил. Месяцами – его близкий друг Леня Ентин, который, в отличие от Хвоста, был весьма энергичен и помогал Алеше в оформлении наследственных бумаг. Жили и другие друзья, которые поссорились с родителями и ушли из дома, например Эллик Богданов со своей женой Эллой Липпой. Какое-то время у Хвоста обитал поэт и прозаик Саша Кондратов со своей женой Светой. В этот период Кондратов сотрудничал с Кнорозовым в группе по дешифровке языка острова Пасхи. Хвоста тоже привлекали к этой работе. Что им удавалось расшифровать – не знаю, но, по рассказам Хвоста, выпито на заседаниях группы было немало.
Я часто встречала у Хвоста Леню Аронзона, Володю Швейгольца, Игоря Мельца, художника по металлу, путешественника и впоследствии поэта Юру Сорокина, скульптора Володю Неймарка, художников Юру Галецкого, Сашу Нежданова, филолога Диму Новикова, студента востфака Ваню Стеблин-Каменского и его сестру Наташу, по прозвищу Черепаха, с мужем богатырского телосложения Валерием, которого называли Понтила, филолога Ефима Славинского, геолога и поэтессу Кари Унксову, геолога и художника Яшу Виньковецкого. Впрочем, по титулам или профессии Хвост никого не оценивал, табели о рангах у него не было. Большинство хвостовских гостей были творческими людьми, чьи представления о жизни и поведение не вписывались в традиционную систему социальных отношений. Они, как правило, не были активными борцами, просто хотели, чтобы их оставили в покое и не мешали самовыражению.
Поэтому многие если и работали (чтобы не сослали за тунеядство), то на работах максимально далеких от идеологии – охраняли, например, платные автостоянки (кочегаров в этой компании еще не было), пристраивались рабочими сцены. Однако все эти работы носили, как правило, временный характер.
Пожалуй, наиболее «социально ориентированным» из питерских друзей Хвоста был Юра Сорокин, неутомимый спорщик. В 1956 году он выступал на площади Искусств во время стихийных обсуждений выставки Пикассо. Там он был взят на заметку и вскоре, в 1957 году, исключен из Военмеха, где в то время учился. В стихах, написанных много лет спустя, в 1984 году, Юра так вспоминал об этом времени:
Сквер – в ночном оцепененье…Стеклом на ветках ломкий лед.Холодных ламп ломая излученье,Венец сияния вкруг них плетет.Ночные грифы – латы и секиры, —Покрыты инеем, врата венчают…За ними – бело-золотистый призрак —Сквозь театральный снегМираж дворцаМерцает…Нет ни души…Брожу один – арабским шейхомНочных видений:Вот – «Бродячая собака»…Вот – стайки «тихарей», —Вот милицейское каре, —Вот крытые фургоны «раковая шейка»,(карета юному адепту Пикассо)…Год пятьдесятШестой, когда казалось —Кончилась эпоха мрака……да одинокий Гений русский, разгоняя скуку,Подставил снегу бронзовую руку.4.01.1984В этих стихах трудно не заметить фотографическую точность деталей. Сорока, как его называли в кругу друзей, был и фотографом. Иногда, работая в качестве пляжного фотографа, он зарабатывал много денег, но лишь для того, чтобы угощать коктейлями своих друзей и вернуться в Питер на мели. Однажды Сорока получил наследство. Это событие отмечалось в течение недели то у Хвоста, то дома у Сороки – тоже в коммунальной квартире. Каждые полчаса раздавался звонок. Очередной гость первым делом просил у Юры до лучших времен сто или двести рублей взаймы. Сорока никому не отказывал. Себе он купил, и то по настоянию Хвоста, лишь приемник и монографию о поп-арте. Через одну-две недели Сорока с Хвостом уехали в путешествие, кажется, в Среднюю Азию. Оттуда им пришлось на последние копейки звонить друзьям с просьбой выслать деньги на обратную дорогу.
Юра Сорокин умер в июне 1999 года. В начале зимы того же года его жена Таня Коваленко с помощью художника Феликса Равдоникаса издала тиражом в тридцать экземпляров сборник стихов Сороки «Бессмертие кристалла», в котором есть и стихотворение, посвященное Хвосту.
Многие из друзей Хвоста перемещались, и не раз, в сумасшедшие дома, чтобы получить инвалидность, а то и по причине отсутствия даже нерегулярного питания. Хвост тоже неоднократно попадал в дурдом. Однажды он оказался там одновременно со своим приятелем-художником. Чтобы не скучать, они написали новогоднюю пьеску, предназначенную для постановки силами больных, однако руководство больницы отклонило произведение, ссылаясь то ли на пессимистический настрой, то ли на необаятельный образ Снегурочки.
Леня Аронзон сказал мне однажды:
– Нас всех сплотила неудача.
В известной степени, наверное, так и было. Но вот что интересно. Поэты из этой компании – сам Хвост, Аронзон, Алик Альтшулер, Леня Ентин – не стремились выступать с эстрады, хотя в начале 1960‑х годов это было возможно. Существовало «Кафе поэтов» на Полтавской, где выступали не только участники литобъединений, но и одиночки, такие как, например, Миша Юпп с его кулинарными стихами. Выступали в том кафе и Женя Рейн, и Ося Бродский. Хвост и Аронзон иногда читали свои стихи у себя дома или у друзей и относились к своему творчеству как к домашнему делу. Неслучайно, видимо, большое распространение получил жанр дружеских посланий, которые нередко действительно посылали по почте друзьям или дарили по случаю и без случая. Приведу отрывок из такого послания, в котором упоминаются Хвост и некоторые из его друзей. Оно написано Ваней Стеблин-Каменским и обращено к моему мужу Лене Черткову:
Все так же Хвост лежит в больнице,Все так же дух его нетлен,Хотя вокруг его толпитсяВезалий, Эскулап, Гален.А Дуська в обществе вертится,Как европейский манекен,В сиянии своих колен.Анри и Конрад, законтачивНа почве платного листа,Решают тщетные задачиПроисхождения Христа.Все так же Элик и ГалецкийУспешно двигают поп-арт,Изображая быт советскийПосредством лифчиков и карт.Славинский в здравии прекрасном —Всех ленинградских дам гроза.Горят на лике его страстномВ постель зовущие глаза.Девицы тоже все в порядке,Никто не болен, не чреват.От случаев психоза маткиИзбавлен город Ленинград60.29.3.1966Хвост уже в начале 1960‑х годов был известен как автор песен, но к бардовскому движению, базировавшемуся в клубе «Восток», отношения не имел. Самой известной песней Хвоста была, пожалуй, «Льет дождем июль», в которой содержались, в частности, и рассуждения о работе:
А работать мы не хотим никак,На зарплату нам не купить коньяк.Ну а водку пить мы, эстеты, не хотим,Вот потому мы и не работа-им.И сухое вино мы не пьем давно,Так как денег нет даже на кино.Мы б сидели б в кине и мечтали б о вине,Что пьют в киношной сказочной стране61.«Орландина» и «Прощание со степью» были написаны позже, в соавторстве с Анри Волохонским, давним другом Хвоста. Об Анри надо говорить и писать отдельно. Из всех нестандартных личностей того времени это была одна из самых нестандартных, не вписывавшихся ни в какие рамки. В отличие от Хвоста и многих его друзей, Анри состоял на службе, занимался озероведением. Работал несколько лет на севере, ходил в плавания. Если Хвост при всем своем природном артистизме держался просто и естественно, Анри непрерывно устраивал театр для себя. Он увлекался схоластической философией, был знатоком Николая Кузанского и Фомы Аквинского и, по слухам, даже читал в Институте Арктики лекции по ангелологии. И внешность свою, и манеру говорить он тщательно стилизовал, словечка не говоря в простоте, а все с ужимкой, со всеразъедающей иронией. Это, однако, не мешало дружбе и соавторству с Хвостом. Вместе они писали не только песни, басни, частушки, но и длинные стихотворные произведения, например «Касыду министру культуры», трагедию «Домкрат», поэму о ветеринаре.
Пьесы Хвоста в исполнении автора пользовались большим успехом в узких кругах Ленинграда и Москвы. Почитательницей таланта Алеши была уже упоминавшаяся Кари Унксова, талантливая поэтесса, чьи собственные стихи до сих пор малоизвестны и не оценены по достоинству. Кари успешно пробовала возродить традиции петербургского гостеприимства. Обладая более чем скромным достатком, она устраивала в своей квартире, помещавшейся в подвале, большие званые вечера, на которых подавались даже куропатки и множество сортов крепчайших домашних настоек – спирт настаивался не только на чесноке, перце и укропе, но и на перепонках грецких орехов, и на липовых почках. Часа в три ночи, когда гости начинали кемарить, изготовлялся крепчайший «кофе-шах». Хвост и Анри всегда были желанными гостями на таких вечерах, начинавшихся после филармонических концертов и заканчивавшихся ранним, а то и поздним утром. Помню, как Хвост читал у Кари пьесы «Первый гриб» и «Запасной выход». Другим поклонником драматургии и стихов Хвоста, в особенности относящихся к «школе Верпы», был театральный режиссер из Латвии Женя Ратинер. Как-то я застала его у Алеши с восторгом декламирующим хвостовские творения. Еще одним театральным деятелем, увлекавшимся творчеством Хвоста, был Володя Бродянский.
О литературных интересах Хвоста отчасти можно судить по его стихотворению «Поэтическая начинка» (1965), вошедшему в сборник «Десять стихотворений Верпы, посвященных Игорю Холину», вышедший в Париже в 1988 году:
Радищев-КутузовХемницер-ДержавинБобров-МенделеевРусское слово вотАх у поэтов столько заботЧтоб слово прыгало как кузнечикЧтоб знаки жуками ползали по строкеЧтоб восклицательный подсвечникСвечу стиха держал в рукеКюхельбекер-РомановКарамзин-РюминМарамзин-РыжийХвостов-ТертыйВеликолепие поэтической мордыМордобитие дидактической хордыИ наконец похмелие ВерпыЛежит в РогожеПирогом с рыбойПеречисленные имена были знакомы Хвосту не понаслышке. Отмечу, к примеру, что эпиграф из Радищева предпослан стихотворению «Волохонскому» из сборника «Продолжение», вышедшего в Санкт-Петербурге в 1995 году. К этим именам можно добавить Крылова и Хлебникова, упомянутых в поэме «Слон На» (1977):
Конец. Теперь вопрос: Стучатли буквы имени по темечку внучатКрылова дедушки, и так ли горячаволна воспоминания? Урча,слон Хлебникова движется по следуслона Крылова – хобот – тень хвоста,дыханье заперто, опричники мостапо очереди чтут теперь Ригведу.Кроме Хлебникова, из поэтов XX века Хвост и Анри ценили Заболоцкого – «Столбцы» и «Торжество земледелия». Я помню, как популярна была в этом кругу «Колыбельная» Заболоцкого, перепечатанная на машинке из старого журнала «Звезда». Рассказывали, что однажды муж Черепахи, Понтила, поспорил со своим тестем, известным профессором, из‑за строчки «Колыбельной». Понтила утверждал, что «Джентльмен у людоеда неприличное отгрыз». Хвост интересовался русским фольклором. Как-то раз он купил сборник народных заговоров и заклинаний и по случаю читал оттуда «заговоры против зубной боли». Когда не стало денег, Хвост был вынужден отнести книгу в букинистический магазин. Как только деньги появились, он снова купил ее в том же букинистическом магазине на улице Жуковского – уже дороже.
Хвост был принят во многих домах. Одним из них был дом Старика – переводчика Ивана Алексеевича Лихачева, о котором впоследствии Алеша неоднократно рассказывал в своих интервью. Хвост подарил Старику одну из своих ранних работ, изображающую милиционера-регулировщика на перекрестке двух мощеных улиц в прибалтийском городке. Картина Ивану Алексеевичу понравилась и навсегда поселилась в его комнате. Однажды пьяный Хвост, сидя у Старика, сказал:
– Меня не будет, а вот этот человек останется.
Рисовал Хвост в различных манерах. Одно время увлекался поп-артом. В его комнате висела картина под названием «Бабушка». В раме были размещены различные предметы, относящиеся к рукоделию – кружева и что-то еще. Потом «Бабушки» не стало. Женя Прицкер с одним из своих приятелей перевозили ее из одного дома в другой, и по дороге фрагменты картины разбрасывались и развешивались. Из-за этого Хвост подрался с Прицкером на дне рождения моего мужа.
В 1968 году Хвост переехал в Москву. Я бывала у него в Мерзляковском переулке, где он жил у своей жены Алисы. Дом – точнее, комната в коммунальной квартире – был так же открыт для гостей, как в Ленинграде. Хвост пробовал зарабатывать, ездил в далекие города, например в Салехард, где занимался оформительской работой. По этому поводу Анри Волохонский написал стихотворение, начинающееся строчкой «Алешенька, зачем же в Салехард?». Оформил Хвост и клуб слепых в Москве. Но работу не приняли. Обитатели клуба на специально созванном собрании осудили художника за отклонение от реализма. Опять начались неприятности с милицией и дружинниками, и в конце концов Хвост решил эмигрировать. В 1977 году он поселился в Париже.
II 62Сведения о жизни Хвоста в Париже исправно доходили до обеих столиц. Чаще всего мне рассказывала про Алешу Наташа-Черепаха.
В начале 1980‑х годов в Москве, у Лизы Муравьевой, я увидела долгоиграющую пластинку с хвостовскими песнями. Помню, как ее сын Никита, тогда еще школьник, десятки раз подряд слушал песню «…вы же жу-жу-жу в Жуань-жуани…», навеянную работами Льва Гумилева, пытаясь разгадать значение слов, и с тоской говорил:

